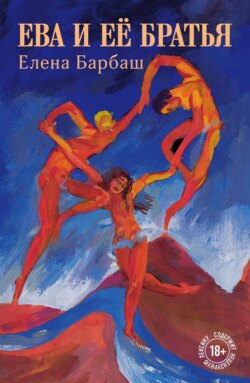Читать книгу Ева и её братья - Елена Барбаш - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Ева
Ичкерия. 2000 год
Вторая чеченская война
ОглавлениеВ горах зарядил дождь. Крупные капли повисали на решётке зиндана, ледяными шарами срывались и пронизывали до самого нутра сидящих в глухой каменной яме.
Ева провела ладонью по рыжей копне волос, намокшей и оттого особенно кудрявой, и тихо произнесла, ища кого-то глазами в полумраке:
– Интересно, а если выкуп пришлют, они нас отпустят? Или всё равно убьют… А, Коль? – Она запнулась, но тут же проговорила севшим голосом, будто обращаясь к себе: – Фокус в том, что умирать не страшно, только зачем мне жизнь? Бездарная бессмысленная жизнь и под стать ей смерть. От рук зверьков этих бородатых.
Худощавый измождённый человек поднял голову, ободряюще улыбнулся и начал было:
– Ну что ты, Ев…
– Ничего, Коль, – перебила она, нехорошо оживляясь. – Как думаешь, нас зарежут, как баранов, или всё-таки пристрелят? Хотелось, чтобы пристрелили, так достойнее – мы же гордость современной российской полевой журналистики, спецкоры, все дела.
– Не юродствуй, Ева, – спокойно произнёс Коля; он вообще всё это время был удивительно спокоен. – И не бойся. В тебе сейчас говорит страх.
– Да не страх это, Коль, а бешенство. Они тут все поголовно гурий мечтают трахать в райских кущах, видимо, поэтому легко жизнями людскими распоряжаются, – распалялась Ева, – но кто они такие?..
– Ты прекрасно знаешь, гордость нашей журналистики, кто они такие. И если…
Но тут тягуче заскрипела открывающаяся решётка, и сверху на верёвке начал опускаться кувшин.
– Лепёшку хоть дадут сегодня? – подал голос третий обитатель каменного мешка, молоденький грязный солдатик, принимая сосуд.
Следом за кувшином из дождливого проёма показалась бритая башка в обрамлении бороды и гортанно выкрикнула:
– Эй, журналисты, пошевеливайтесь!
– Слышь, так будет жратва или нет? – настойчиво выкрикнул солдатик, задрав голову, но был проигнорирован.
В зиндан рывками спустилась деревянная, наспех сколоченная лестница, по которой ловко вскарабкались Ева и Николай.
Несмотря на пасмурную погоду, дневной свет ослепил их. Они стояли, оглушённые воздухом и открытым пространством, щурясь и пытаясь сфокусировать картинку. Тут же получили резкие тычки в спину дулом автомата – боевик повёл их к каменной низенькой хибаре, возле которой стояла пара джипов.
– Масуд, они здесь!
– Заводи! – раздалось из-за двери.
Ева с Николаем оказались в плохо освещённом помещении со спартанской обстановкой. Боевик с автоматом наперевес остался на улице. Всё как в дурном штампованном кино: на столе навалены патроны, спутниковый телефон, оружие, ноутбук в усиленном чехле, рация и какие-то карты, за столом, весь в чёрном и хаки, мрачный полевой командир. Косой рваный шрам на лице спускался от виска к щеке и исчезал где-то в бороде. Он откинулся, будто рассматривая пленников, качнул головой и заговорил:
– Не спешат ваши с выкупом. А значит, вы им не нужны. И мне не нужны. Что вас кормить? Продам.
Пленники онемели. Бородач окинул плотоядным взглядом рыжую, тонкую ясноглазую Еву, которая даже в замызганной рубашке и джинсах выглядела невероятно притягательно. Потом пристально в неё вгляделся, помотал головой, будто отгоняя морок, и пробормотал: «Вот шайтан».
– Баба, хоть и тощая, но лицом ничего – сойдёт, – собравшись, продолжал Масуд, будто рассуждая вслух. – Братьям послужит. Это же лучше, чем сдохнуть?
Ева почувствовала, как откуда-то из самых глубин её существа поднимается бешеная ярость. «Ублюдок вонючий!» – пронеслось в голове, и она было дёрнулась к горцу, но Коля схватил её за локоть и слегка сжал, удерживая от необдуманного порыва. В яме они провели около трёх недель – точнее сказать было сложно, дни в полумраке тянулись бесконечно долго, сливаясь друг с другом. Но одно было ясно – времени для сбора выкупа прошло достаточно, в стране отменный бардак, и никто не спешит спасать корреспондента и фотографа военно-патриотического издания. Так что нарываться себе дороже.
– Хотя зачем тебе твоя сучья жизнь? – Масуд уже обращался к Еве, заводя сам себя. – Что там у тебя в Москве – ни мужа, ни детей, да? С Всевышним поиграть решила? По горам шляешься, судьбу испытываешь? – Он почти орал. – Ты зачем сюда припёрлась?!
От неожиданности у Евы перехватило горло. Она окаменела, не в силах даже пошевелить губами – но не от страха: каждое слово полевого командира, его внезапная прозорливость поражали её в самое сердце, вызывая сокрушительный гнев. Нет, уж точно не ему выговаривать Еве всё это!
Слабая лампочка, освещавшая помещение, мигнула пару раз и взорвалась с шумным хлопком, обдав Масуда мелким крошевом осколков.
– А, шайтан! – вскочив, чертыхнулся он.
Помещение погрузилось во мрак. Дверь тут же резко распахнулась, впустив дневной свет. На пороге показались двое боевиков.
– Что случилось, командир?
Масуд кивком показал на потолок и отправил одного из них за новой лампой. Ева удовлетворённо хмыкнула. Это не осталось незамеченным. Масуд взял автомат и медленно развернулся к пленникам, но тут Коля неожиданно выдохнул:
– У вас такое лицо, уважаемый Масуд!
Горец, не обращавший до этого момента на фотографа никакого внимания, перевёл на него тёмный взгляд и глухо спросил:
– Какое – такое?
– Ф-фактурное!
– Чего-о-о? – возмутился было Масуд. Но Коля поспешил объясниться:
– Суровое, гордое и внушающее страх! Враги должны бояться вас, а братья уважать! – И тут же быстро добавил: – Хотите, я вас сфотографирую? Будет что показать. Листовки опять же…
По «фактурному» лицу было непонятно, пристрелят их тут же или просто скинут обратно в яму. Внезапно Масуд расхохотался и, буравя Колю чёрными глазами, спросил:
– А ты правда хороший фотограф?
– Не жаловались, – криво улыбнулся Коля. – У вас такие джипы… э-э-э… мощные во дворе стоят, пойдёмте к ним. И АКМ возьмите.
– Ну давай-давай, поглядим. – Сын гор, похоже, развеселился. – Может, и сгодишься на что. А баба твоя пока в яме посидит. – Он перевёл на Еву тяжёлый взгляд. – Может, поймёт, зачем ей жизнь?..
* * *
Ева резко села на кровати и откинула пряди с влажного лба. Её била крупная дрожь. Воспоминания о тех страшных неделях всегда накатывали неожиданно и слишком ярко – так, что она кожей ощущала холод каменного мешка. Она гнала их, стараясь не думать о том кошмаре. Ведь тогда всё закончилось благополучно.
Серия героических фотоснимков, сделанная Колей, привела полевого командира в восторг и наделала шуму в «братском» сообществе. Было решено сдавать Колю в аренду местным князькам, а Еву, как бесперспективную, незамужнюю и не слишком молодую женщину (30 с хвостиком уже не котировались), отпустить – так он откалымил за двоих и через полгода вернулся домой. Это было похоже на чудо.
Как случилось, что Масуд освободил Еву и Николая, так и осталось загадкой.
Ева спустила ноги с кровати, нащупала тапки и поплелась в ванную. Там она, будто давно не видела, уставилась на себя в зеркало. Оттуда на неё смотрела ведьма. Рыжая, зеленоглазая.
Ева была пугающе красива. И хотя назвали её Евой, по духу своему была она, конечно, Лилит. Какая-то особая гармония придавала её чертам абсолютную завершённость. Глаза втягивали в себя любого, кто случайно в них заглядывал. Кроме того, в них было что-то потустороннее – какое-то недоступное обычным людям знание. Собственно, совершенство её лица всегда уступало изумрудным омутам – они не отпускали, были ловушкой, ничей взгляд и не опускался ниже. Видимо, что-то такое почувствовал тогда полевой командир, и ему хватило осторожности не связываться с этой женщиной.
* * *
Ева с детства считала себя мутанткой. Удивительным гибридом двух разновидовых особей: рабоче-крестьянского папы от станка и парткома – и мамы, в чьих жилах смешалась кровь дворянская мелкопоместная и жидовская. Мамина мама – Евина бабушка Розалия – была еврейкой, русский купец и мелкий фабрикант выкрал её и увёз из Кишинёва в 1906 году. О бабушкиной семье больше ничего не было известно. Бабка – отрезанный ломоть. Чтобы выйти замуж за деда, который был её старше на 28 лет, она крестилась. И то ли семья от неё отказалась, то ли сама она не хотела вспоминать о родных, но только все расспросы пресекались на корню. У деда имелись молочный заводик и шестеро детей от первого брака. В новом браке Розалия родила Евину маму четвёртой, а всего у неё было шестеро детей. На круг детей от обоих браков у деда получилось двенадцать.
Заводик был справный, а при нём – трёхэтажный дом. После революции домик отошёл под школу, а заводик экспроприировали, но поскольку коммунисты ничего не понимали в процессе, то предложили деду директорство. Или расстрел. Бросить хозяйство, что налаживалось годами, было трудно, да, в общем, и пожить хотелось, так что дед согласился работать. Но кончил он, тем не менее, плохо, потому что в неудачный момент попытался объяснить партийному начальству, что масло получают из молока. За что был объявлен врагом народа и всё равно расстрелян перед самой войной.
До сих пор непонятно, как Евина бабка избежала репрессий, продралась сквозь войну и эвакуацию, сохранила дюжину детей – и своих, и от первого мужниного брака, – и даже умудрилась не все драгоценности продать.
Родственники говорили, что она в эвакуации жила у одной женщины, деревенской колдуньи, и та научила её кое-чему. Эти слухи аукнулись бабушке Розе (а заодно и Еве) совершенно неожиданным образом.
У бабкиных соседей пала скотина. Советская власть против частного скота успешно боролась, но так или иначе соседи держали и корову, и пару коз. Соседка убивалась два дня, а потом вспомнила, что накануне, когда гнала свою скотину с выпаса (незаконного, кстати), встретила Розу с внучкой, возвращавшихся с прогулки с мешком трав. Бабушка собирала и сушила травы, потом делала из них целебные настои и чаи. Но соседке показалось, что та неодобрительно посмотрела на неё и её животину. Ей даже послышалось, что Роза пробормотала что-то злобное – соседка никогда не продавала ей козье молоко для Евы. Она торговала молоком на рынке совсем по другим ценам.
Как уж связались в бедовой соседкиной голове эти два события, но только на третью ночь бабкин дом загорелся. Дело было летом, сухо, бабушка успела вытащить из дома сонную Еву с её любимым мишкой, с которым та спала, и увесистую металлическую шкатулку, больше похожую на сундучок, где лежало всякое разное: пожелтевшие фото, ветхая книга, украденная Розой, ещё когда она только собиралась бежать с Евиным дедом, старые письма, кольца. В этот сундучок баба Роза никому не разрешала заглядывать. Он хранил её тайны. Крыша рухнула и погребла под собой всю бабкину жизнь.
Ева страшно испугалась. У неё началась горячка. Очнулась она в больнице через три дня. Рядом сидела бабушка Роза. В Евиных воспоминаниях бабка навсегда осталась властной могучей женщиной, руки в кольцах, несокрушимой и величественной, удерживающей, как атлант, мир целостным и незыблемым.
А ещё пожар оставил по себе странные страшные сны. В этих снах тоже горели дома.
После пожара Евина мама взяла бабу Розу жить к себе. Но Роза не зажилась на новом месте. Вместе с её домом сгорело что-то в ней самой.
И первое Евино осознанное страдание связано с бабкиной смертью. Бабка умирала тяжело, и Еву отдали пожить в семью маминой подруги. Прошла неделя, а её всё не забирали. Потом приехала мама, взяла Еву в охапку и отвезла домой. Баба Роза ещё была жива. Она не могла умереть, не простившись с любимой внучкой. Когда Ева подошла к постели, бабка крепко взяла её за руку и произнесла: «Теперь ты…» И началась агония. Мать едва успела утащить Еву в другую комнату. На время похорон её опять переправили всё к той же маминой подруге. И только потом сказали, что бабушка умерла. Это было как предательство со стороны – Ева даже не понимала кого, ведь бабка – это навсегда, а мир рухнул.
Невозможно было жить дальше в этом жарком июньском дне. Во дворе детского сада не было ни души, и Ева влезла на лестницу, чтобы оттуда прыгнуть и улететь от несправедливости жизни и страшного одиночества. Она видела свою тень на земле и наметила точку, в которую врежется. И когда вечером того же дня заведующая детским садиком отчитывала воспитательницу за то, что пятилетний ребёнок упал с метровой высоты и разбил коленку, она даже и представить себе не могла, что это был не случайный полёт, а неудачная попытка ухода из жизни.
Итак, Евина жизнь началась. И проходила она в неравной и потому вечно неудачной борьбе с окружающей средой. Эта традиция неравной борьбы перешла к ней от бабки, минуя маму, которая всё несовершенство вокруг презирала до такой степени, что не удостаивала сопротивления. После работы она просто ложилась в кровать, закрывала глаза и ни с кем не разговаривала. Просыпалась только для того, чтобы послушать «Голос Америки». В реальности она отсутствовала, ситуацию, в которую вляпалась по жизни, разрешить не могла. Кошмар в лице коммуниста-мужа, детей-пионеров, советского производства не воспринимался ею как реальность.
Еву и сестру её Марию она кормила, одевала и растила молча. И имена им дала библейские, несмотря на советскую власть.
При этом была начальником выпускающей лаборатории на нефтезаводе. Без её подписи с завода ни одна цистерна не могла выйти. Уговорить мать подписать что-то, не отвечавшее её представлению о качественной продукции, было невозможно. Дверь в её кабинет всегда была открыта настежь, чтобы всем было ясно – здесь взятки не берут. Терпели мать по тем же причинам, что и деда до поры на молокозаводе: она была специалистом. Она запускала этот Рязанский нефтезавод. Но ей повезло больше: на дворе были шестидесятые, и расстрелять её было сложно, хотя многие были бы не против. Мрачная, молчаливая, вязкая воительница.
Когда Ева училась во втором классе, мать сшила ей красное платье вместо формы и отправила в нём в школу. Видно, что-то достало её на родном нефтеперегонном заводике или просто в жизни по самое не могу. А когда её вызвали в школу, она им сказала: «Денег нет. Какое есть платье, в таком и будет ходить». После этого смачного маминого плевка на советскую власть и школу Ева и ходила в красном, а потом в сером в горошек. И ей было приятно, потому что она всегда чувствовала своё внутреннее от однокашников отличие, а теперь отличалась ещё и внешне. Она была благодарна маме за то, что та позволила ей не быть как все. За то, что понимала её, когда в детском саду Ева отказывалась летом выходить гулять в одних трусах без майки. На школьном концерте не захотела играть на раздолбанном и расстроенном пианино. Был скандал. Когда за сорванный концерт вызвали маму, она сказала: «Дочка поступила правильно. Либо хорошо, либо никак». На собрания родительские не ходила. Не проверяла домашние задания. Сама собой подразумевалось Евина врождённая качественность. Они с сестрой просто обязаны быть умными, потому что они – её дети.
Впрочем, вызывали Евину маму в школу не только за красное платье. Её неоднократно приглашал пообщаться историк, которого Ева пугала подробностями, почерпнутыми непонятно где. Подробности касались не пойми какого времени начала XX века и не пойми какой страны, потому что Ева шпарила на разных языках, на каком-то искажённом немецком, а то вдруг на русском, а то переходила на ещё какой-то, похожий на румынский. Евины картинки были явно не из учебника, и детали одежды, которые она описывала, были какие-то странные: длинные чёрные сюртуки, чёрные шляпы…
– Откуда ты всё это берёшь? – спрашивал историк.
– Мне приснилось, – отвечала Ева.
Евина мама ничего не хотела про это знать, так что у неё было много причин избегать родительских собраний. И про свои сны Ева тоже никогда ей не рассказывала. Понимала почему-то, что нельзя.
Сначала эти сны не были частыми. Но по мере того, как Ева взрослела, сны стали вести себя навязчиво. Можно даже сказать, они Еве досаждали с того самого пожара, потому что она их видеть не хотела. А они неотступно приходили к ней, тревожили, сопровождали, разделив жизнь на дневную и ночную.
В этих снах мужчины носили странные головные уборы, длинные бороды, какие-то свисающие завитки волос по бокам, а женщины, наоборот, брили головы и поверх надевали парики. И молились, молились… Их жизнь текла размеренно по жёстким правилам от вечера пятницы до вечера пятницы, от праздника до праздника… Иногда сон кончался пожаром, который вдруг охватывал дома, и, наконец, мутный поток воды, как цунами, смывал картинку.
Не решаясь стучаться к матери, Ева пыталась найти у школьного историка хоть какое-то объяснение. Но ему меньше всего хотелось разбираться с Евиными закидонами, и выглядело всё это как-то болезненно, ненормально. Он бы отправил Еву к психиатру, была б его воля. Но Евина мама была в городе заметной величиной и без её согласия об этом не могло быть и речи.
А Ева со временем поняла, кто были эти люди. Прочитала о них то, что смогла найти в своей Рязани… Не понимала только, какое к ней всё это имеет отношение. Она знала, конечно, что по крайней мере на одну четверть она – еврейка. Но эта четверть принадлежала маминой маме, бабушке. А значит, и мама, и она были по еврейскому закону еврейками. Но в семье этот вопрос даже не поднимался. Его своим телом закрыла бабушка. Папа был русский, и Ева носила его звонкую фамилию Громова, и в пятой графе у нее было записано, что она русская. В школе её никогда не дразнили дети, евреев в Рязани почти не было, не было и бытового антисемитизма.
Как-то в город забрели кришнаиты. Раздавали на улицах бесплатно «Бхагавадгиту». Пели «Хари-Хари». Приглашали на совместную трапезу. У кришнаитов была строгая иерархия. Старые ученики, новые… Еве на тот момент было лет пятнадцать. От их вожака, который явно на неё глаз положил, Ева узнала, что у человека может быть много жизней. Она ему рассказала про свои сны… «Это в прошлой жизни было у тебя», – уверенно отвечал вожак. «Может, и правда, в прошлой жизни?» – думала Ева. Вожак становился назойлив, и она сбежала от кришнаитов, но приняла для себя решение: окончив школу, поступать обязательно на истфак.
* * *
Но был же ещё и Евин папа. А кстати, где он был всё это время? Он был при парткоме. Писал какие-то речи. Однажды Ева нашла черновик: «Дорогие мои товарищи! – Зачёркнуто. – Мои дорогие товарищи! – Зачёркнуто. – Дорогие вы мои товарищи! – Зачёркнуто. – Товарищи вы мои дорогие». Очевидно, папа тоже был занят поисками совершенства. И хотя мама говорила, что от коммунистов никакого толка и умеют они лишь молоть языком понапрасну, именно благодаря отцу в доме были заказы с хорошими продуктами, вырубались заповедные ёлки на Новый год, менялись машины. Он был единственной связью с реальностью.
И для Евы всегда было большим вопросом, как эти люди могли существовать вместе: мама несгибаема – папа готов к любому компромиссу; мама молчалива и мрачна, а у папы всегда улыбка на лице, он приветлив с каждым. Мама равнодушна к любому барахлу – папа постоянно занят добычей вещей, мечтал ездить на «Волге», писал письма в инстанции, почему ему необходимо на ней ездить, и в конце концов этой «Волги» добился. Мама зовёт папу паразитом, а он её Томочкой.
И в Евину детскую голову намертво врубилась такая вот схема отношений между полами, когда некий паразит-добытчик, не оценённый в полной мере, но всё пытающийся заслужить или выслужиться, суетится вокруг. Такой вот сценарий жизни. Родительский. Один железной рукой посылает второго добывать, а сам и с места не двинется. Тот, кто суетится, должен быть уравновешен тем, кто сидит и губы дует.
А началось со школы. Со второго класса процесс пошёл. Видимо, для полового воспитания девочку обязательно с мальчиком сажали. Тоненькая, с густой, медного отлива гривой, независимая Ева пользовалась популярностью. Все хотели с ней рядышком сидеть. Сосед по парте дарил Еве цветы, которые собирал по весне на клумбах, словом, позорил перед общественностью. Но он-то считал, что раз цветы такие ранние и от чистого сердца, то они с Евой поженятся, и вообще уже всё схвачено.
Второй всё норовил портфель отнять и донести. Ева ношу выдирала и била его этим портфелем жестоко, тоже чтобы не позорил. Однажды она так разозлилась, что, сама не понимая как, уронила на него гипсовую пионерку в школьном дворе. Она была уверена, что и не прикасалась к ней. Та сама упала. Хорошо, что Кеша взял всю вину на себя.
Их вызвала завуч и с ходу начала орать:
– Отпираться бесполезно, все видели, как вы завалили пионерку.
Почему она использовала такой пошловато-криминальный оборот, остаётся загадкой, но угрозы её были очень серьёзны. Пионерка стоила денег. Деньги должны были возместить родители, кто ж ещё. Ева с ужасом представила, как посмотрит на неё мать и что́ скажет. И главное – совсем не деньги. А позор.
Завучиха продолжала глумиться:
– Особенно тебе, Ева, должно быть стыдно. Ты дочь секретаря парткома.
И тут вступил Иннокентий:
– Это я случайно её уронил. Опёрся рукой, она и не выдержала.
Ева благодарно на него посмотрела.
Когда вышли из кабинета, Ева сама по собственной инициативе поцеловала его в щёку. Будь он немного постарше, он бы сказал – дорогого стоит. А так просто почувствовал себя на седьмом небе. Пошёл Еву провожать, она позволила ему донести её портфель.
– Не знаю, как у меня это вышло, – по дороге оправдывалась она. – Я, когда злюсь, что-то происходит. То упадёт что-нибудь и разобьётся, то…
Ей хотелось хоть с кем-то поделиться наболевшим, но…
– Ева, – расхрабрившись, перебил её Кеша, – я тебя люблю. Я всё для тебя сделаю!
И полез целоваться.
– Дурак, – забыв хорошее, крикнула Ева. – Отдай!
Вырвала портфель и убежала.
А Кеша вообще долго ещё её любил. Классе в восьмом он предложил ей уехать с ним в банановую страну. Он говорил: «Ев, там так тепло, там можно вообще не покупать одежды. Люди там едят одни бананы, которые падают на них с деревьев». В той жизни ей казалось это настолько нереальным, такого быть не могло, ну просто никогда, а Иннокентий сошёл с ума, однако мысль про банановый рай ей в голову запала.
Дальше – больше. Если мужчина появлялся в Евиной жизни, но не мешал ей сахар в чашке, она его просто не замечала и ещё при этом удивлялась, что же это он? и не собирается этого делать? Такая вот пчелиная матка, сидит посреди улья, кушает и ждёт, что ей рабочие пчёлки принесут нектар. Однако она ни у кого ничего не просила, все сами просто тащили наперегонки. Почему? А хотели пробиться внутрь и увидеть, что́ там таится. Причём рыжая Ева в силу своих природных красивостей была окружена воздыхателями в огромном количестве, а каждый думал, что он один и уникальный.
Но Лёлик был самый активный и делал всё. Был он молодой да ранний, работал на мамином нефтеперегонном заводике в первом отделе начальником.
Вышел он, как и все, из комсомольцев, а потом его пригласили в Высшую школу КГБ. Когда он появился на нефтеперегонном, ему было уже под тридцать.
Как ему удалось обойти Евину маму? Ведь та люто ненавидела всё связанное с этим государством и его безопасностью? А вот поди ж ты. Со всем начальством на заводе у него были установлены дружественные и сердечные взаимоотношения, от которых никто не мог уклониться. Он был гений общения. И слишком шустр для своего времени. Впрочем, время скоро поменялось. И ничего святого у него не наблюдалось. Кроме одного. И этим одним была Ева.
Шедший по коридору Лёлик увидел Еву, когда она заглянула за какой-то надобностью в материн кабинет во время обеденного перерыва. Он развернулся на 180 градусов и, как утёнок за уткой, последовал за Евой в кабинет начальника выпускающей лаборатории. Вряд ли Лёлик сам понимал, что́ делает и зачем. Но все, конечно же, забыли «зачем», потому что он тут же утопил всех в потоке обволакивающих слов. И столько было напора и натиска, и так всё было откровенно и очевидно, что мама, обалдевшая от того, что её не стесняются совершенно, молчала – скорее потерянно, чем осуждающе. А Ева даже не удивилась, потому что привыкла.
И когда Лёлик, как привязанный, вышел вслед за ней из маминого кабинета, забыв попрощаться, Ева спокойно на него посмотрела, да и пошла вперёд, не оглядываясь и на минуту не усомнившись, что новый почитатель не позволит себе отстать. И все сотрудники видели, как посреди рабочего дня Леонид Чебрисов, гебешник с мохнатой лапой, которая и подтянула ему в столь молодом возрасте столь серьёзную должность, уходит с работы, провожая рыжую дочку начальницы выпускающей лаборатории.