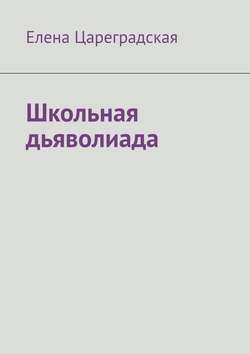Читать книгу Школьная дьяволиада - Елена Цареградская - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава вторая
В начале пути
ОглавлениеЕсть среди школьных учителей особенные люди, которых за глубокую и проницательную любовь к ученикам, прозвали «детскими». Это учителя с внутренним нравственным сейсмографом, улавливающим тончайшие движения души и маленького и юного человека. Сами они порой могут превращаться в детей. В каждом из них уживаются мудрец и ребёнок, поэтому им понятны чувства самых разных мальчиков и девочек. Тайна их педагогического таланта заключается в умении «внедрить» в себя чужого ребёнка и сделаться его искренним старшим другом.
Елизавета Николаевна Езерская, урождённая Анненкова, была из числа «детских» учителей. Она родилась в интеллигентной семье. Ещё до рождения дочери Анненковы стали кандидатами наук: мать преподавала фармакологию студентам-медикам, отец занимался научными исследованиями в нефтяном институте. Лиза росла вместе с братом Никитой, который был её младше на три года.
Душой семьи Анненковых была Зинаида Александровна, невысокая, стройная, как античная грация, брюнетка с лёгкими вьющимися волосами, уложенными в строгую причёску, с живыми карими глазами. Мягкая улыбка делала обаятельным её миловидное цветущее лицо с яркими, как сочная малина, губами, не знавшими помады. Широко образованная и талантливая, она завораживала студентов. Её любили. Золотая медалистка в школе, сталинская стипендиатка в вузе, доцент кафедры мединститута, Зинаида Александровна была великая труженица. Преподавательская и научная деятельность требовала от неё безукоризненной честности и принципиальности. Эти замечательные качества характера станут стержнем личности и Елизаветы Николаевны.
Богатая библиотека, которую после войны начал собирать отец Зинаиды Александровны для дочери и которую она то и дело пополняла сама, стала фамильной драгоценностью Анненковых. В детстве и юности Елизаветы Зинаида Александровна была её путеводной звездой в океане художественной литературы. От матери она унаследовала любовь к литературе. Общение с великими собеседниками духовно развивало и укрепляло девушку, выстраивало её личность.
Фортепианной игре Лиза начала учиться рано, еще до музыкальной школы, но глубокое понимание музыки пришло к ней в одиннадцать лет. Великая музыка сохраняет вечную молодость и дарит редкое счастье. Она расцвечивала для юной Елизаветы будни в необыкновенные краски. Музыкальное вдохновение уносило её в другой мир, где царили яркие романтические порывы. Особенно её пленяли рафаэлевская красота, блеск и духовная энергия Шопена, дантовская мощь и поэтическая нежность Листа, шекспировский накал страстей и колдовская мягкость Бетховена, нечеловеческое совершенство праздничной и трагической музыки Чайковского, родной, любимой до боли. Любовь к музыке духовно роднила дочь с матерью. Обе были завзятые балетоманки.
Отец Елизаветы Николаевны, кудрявый шатен с голубыми глазами, симпатяга, как его называли, был равнодушен к искусству. Он много лет бился над проблемами докторской диссертации. Николая Юрьевича не связывала духовная общность с родными детьми, с которыми он был то строг, то сентиментален.
Больше всех на свете Елизавета Николаевна любила бабушку и дедушку по материнской линии – Анну Наумовну и Александра Михайловича. Родом они были из одной деревни. Анна Наумовна выросла в семье железнодорожника на разъезде. Эта простая красивая женщина с точёными чертами лица и осанкой царицы обладала природным тактом, нравственной силой и большим достоинством. Интересный, видный мужчина, Александр Михайлович, сын плотника, был человеком незаурядным. Его организаторские способности развернулись тогда, когда он с молодой женой перебрался из деревни в город, когда вступил в партию большевиков. От слесаря паровозоремонтного завода до проректора мединститута по АХЧ – таков взлёт служебной карьеры этого энергичного честного и бескорыстного человека. В промежутке между её стартом и финишем Александр Михайлович был «двадцатипятитысячником», заместителем начальника автотреста, прорабом строительного участка, на котором выросли три корпуса мединститута. Из-за ревности мужа красавица Анна Наумовна осталась домохозяйкой в двухкомнатной коммунальной квартире, но во время войны три года работала табельщицей на заводе.
Когда дочь вышла замуж и появилась у неё малышка, Анна Наумовна и Александр Михайлович стали помогать растить Лизу, а потом и Никитку. Их любовь к внукам, как артезианская вода, глубокая и кристальная, излучала счастье. Истинная любовь не создает эгоистов и творит чудеса. Благородство душевных порывов, редкая доброта, сдержанная манера вести себя Анны Наумовны и Александра Михайловича преображали душу своенравной внучки. Эти простые люди обладали природной воспитательной силой: они умели примирять противоречия. Никогда они не опускались до крика, грубого слова, нотации. С младых ногтей Лиза училась у них культуре желаний и скромности: никогда не капризничала, хотя знала, что любое её желание будет исполнено.
Развитие души человеческой начинается с развития сердца. Разум делает её зоркой, а сердце – сильной. Родители не баловали маленькую Лизу лаской, их чувство к дочери было требовательным, и нежная душа девочки согревалась горячим светом любви бабушки и дедушки, которые были солнцем её детства. Лиза тогда ещё не понимала, что одарена талантом любви, который открыли в ней Анна Наумовна и Александр Михайлович. Из этого «корня» вырастет её судьба.
Директора школ не любят брать учителей с «улицы»: без протекции или знакомства.
После университета Елизавета Николаевна устроилась в школу №350 не сразу и случайно. В поисках работы она обошла несколько школ в городе, прежде чем ей улыбнулась удача. Вероятно, хорошенькая словесница в цветущей поре приглянулась пожилому директору-женолюбу. Школа была самая обычная, массовая, двусменная, выстроенная восемь лет назад. Молодая учительница получила восемнадцать часов «нагрузки», классное руководство в пятом классе и с головой ушла в работу.
Скоро Елизавета Николаевна подружилась со своими пятиклассниками. Как «детский» человек, она сумела увидеть сердцевину души каждого питомца и полюбить его. Ученики почувствовали сердечный жар учительницы и потянулись к её духовному огню. Больше всего в школе Елизавета Николаевна была озабочена тем, с удовольствием ли ученики пойдут на её уроки, будет ли для них радостным процесс познания. В классе она ощущала себя актрисой: её урок должен взволновать учеников, чтобы они восприняли дорогие для неё мысли. Только осердеченное знание, приобретённое усилиями собственной мысли в голове ученика не превращается в «мусор».
…. Заканчивался урок литературы в пятом классе.
– Почему же Конёк-горбунок советует Иванушке для «счастья» не брать перо Жар-птицы? Что обещает его свет? – спросила Елизавета Николаевна.
Ребята затихли, задумались.
Но вот взметнулась рука Риты Касаткиной, девочки со строгими синими глазами и пушистой золотистой косой.
– Обещает тревожную, но яркую жизнь! Зовёт к подвигам! – произнесла она вдохновенно.
Похвалив ученицу, Елизавета Николаевна задумчиво сказала:
– Хотя жар-птицево перо принесёт «много-много непокою», «бери его, – говорит сказка. – Если ты настоящий человек, у тебя нет другого выбора». Потому что пустая, бесцветная жизнь страшнее смерти. Подвиг – это самопожертвование, самоотречение. Ради добра и правды. Ради любви и дружбы. Ради дела, важного для людей… – После паузы она спросила: А почему у сказок, как правило, счастливые концы?
– В сказках добро всегда побеждает зло, а в жизни не всегда, – стал размышлять вслух, сидя за партой, толстогубый, по-пушкински кудрявый Виталик Васнецов. – Я думаю, в каждой сказке светит надежда. Надежда на победу добра. Без неё трудно жить достойно…
– В сказке живёт красивая мечта, – вдруг протараторила прелестная курносенькая хохотушка Марина Земляникина.
– Замечательные мысли, ребята! – в душевном порыве сказала Елизавета Николаевна. – А вот подумайте: что будет, если каким-нибудь волшебным пылесосом извлечь из художественной литературы сказки? Вы только представьте: не будет ни Карлсона, ни Винни Пуха, ни Русалочки, ни Маленького принца, ни Конька-горбунка…
– Тогда неинтересно станет жить! – весело вставил Стас Арсеньев, русый крепыш, обрызганный веснушками. – Нам сказки, как воздух, нужны!
Волна звонкого смеха пробежала в классе.
– Помните: Спящая красавица в сказке Шарля Перро просыпается через сто лет? Добро и в сказках побеждает не сразу. Сказочные герои проходят тяжёлые испытания на человеческую прочность, благородство. Преодолеть их помогает надежда. Прекрасная неистребимая способность человеческого сердца. Надежда помогает совершать ради справедливости и добра невозможное…
Вдруг дверь лаборантской распахнулась. Пара бордовых туфель вылетела и шлёпнулась около учительского стола. На пороге комнатки возникла статная женщина лет сорока в костюме джерси цвета маренго, со светлыми волнистыми волосами, зашпиленными валиком, с румянцем гнева на миловидном лице.
– Чужих башмаков не должно быть в лаборантской! Скажите это своей подружке! Я люблю порядок! – отрезала менторским тоном педагогиня и хлопнула дверью.
О, на этой «воспитательной» двери висел разлинованный лист ватмана, где эта властная особа ставила своим ученикам оценки за патриотизм, справедливость, отзывчивость и прочие нравственные качества. Красноречивый знак её педагогической бездарности.
Нельзя не сказать, что учительница русского языка и литературы Капитолина Васильевна Царицына, так своеобразно появившаяся на уроке Анненковой, была фавориткой директора школы Бергамота. Деспотические замашки этой классной дамы пугали детей. Учителя предпочитали с ней не связываться. Перед директором и завучами, словно по волшебству, она превращалась из пантеры в ласково мурлычущую кошку, прятала свои когти: «тот жестче всех, кто мягок из корысти». Бессердечие Капитолины Васильевны дополнялось её апломбом. В школе она слыла сильным опытным учителем, хотя на самом деле была посредственным филологом. Обласканная начальством, эта педагогиня умела себя преподнести: так хитрый кулинар подаёт на красивом блюде обыкновенный картофель, приправленный изысканным соусом. Царицына недурно устроилась в школе. Капитолина Васильевна не работала в старших классах. Зачем мучиться от ответственности за медальные сочинения? Да и подготовка к урокам солидная. Командовать старшеклассниками – рискованно. Эта сообразительная деловая женщина придумала, как, ничего не меняя, увеличивать процент учебной успеваемости: завышать оценки и снижать планку требований, а «двойки» за административные контрольные «срезы» превращать в классном журнале в «энки». О, школьная дама была редкой фокусницей! Она знала много удивительных способов, как создать себе имидж квалифицированного специалиста! С высоко поднятой головой она шла на сделки, оскорбительные для честного учителя. Ложь была для Царицыной выгодной формой поведения. Пользуясь особым расположением Бергамота, коварная «науходоносорша» нашёптывала ему злые выдумки о непрофессионализме Анненковой, с которой держалась свысока. Оберегая своё достоинство, Елизавета Николаевна вежливо ставила заносчивую коллегу на место.
Филологи в этой школе были разношёрстные, но одинаково по-рыбьи бесстрастные на уроках, со скромными духовными запросами. Елизавета Николаевна чувствовала себя как в пустыне. Поговорить с коллегами о чём-то, выходящем за рамки школьной программы, было невозможно: «плоды наук, добро и зло» не «подвергались их суду». Круг разговоров на учительских посиделках ограничивался ученической успеваемостью, школьными конфликтами, ребячьими взаимоотношениями, семейным бытом. Учительницы литературы, затянутые в корсет лжи, были дамами с гибкими позвоночниками. Они не были в школе печальным исключением. Постепенно разрушалась наивная вера Елизаветы Николаевны в святость учительской профессии и нравственную красоту учителя. Жизнь смеялась над её идеалом. Истинные учителя, как алмазы, были редки. Она увидела, что многие учителя не могут вынести бремени свободы духа. Отказываясь от неё, они бежали от страданий к благополучию и безмятежности в принудительной «гармонии» школьной жизни, терпели насилие над своей совестью. Зачем связываться с администрацией школы, требующей много хороших оценок и наказывающей учителя за «двойки»? Не проще ли свою ответственность за ложь переложить на начальников? Мне приказали. Но человек, если он личность, не разрешит превратить себя в марионетку. Честный, духовно свободный учитель обречён на страдания в современной школе. Анненкова была свидетельницей того, как одни учителя легко шли на компромисс со своей сговорчивой совестью, не задумываясь, рисовали в школьных журналах нужные администрации оценки; другие – переступали через себя тяжело, с душевной болью и стыдом. Саму Елизавету Николаевну школьная жизнь ещё не загнала в «железную трубу», из которой есть только два выхода: вперед – к высокой нравственности и страданию или назад – к трусливому обману и конформизму.
Весна учительской жизни Елизаветы Николаевны оказалась холодной. К молодым специалистам в школе относились равнодушно, без сердечности и заботы, старались спихнуть им слабые, с плохой дисциплиной классы. Наставничество было делом формальным. Руководительница школьных филологов Ирина Георгиевна Рыженькая, мягкая конфетная женщина, крупным красивым телосложением напоминавшая Елизавете Николаевне богатыршу германо-скандинавского эпоса, расхваливала её в лицо, но при этом глаза главной школьной словесницы начинали странно косить. Держалась она с Анненковой настороженно.
Сразу после выпускного сочинения в десятых классах школьные филологи превращались в авгуров, точнее, в авгурш. Их тайная деятельность стала для Елизаветы Николаевны настоящим откровением.
Весёлое июньское утро – в тёплом нежном золоте солнца. На востоке – апельсиновый свет зари. В кабинете Рыженькой собираются филологи.
– Принесли? – взволнованно спрашивает Ирина Георгиевна Ольгу Святославовну, сухопарую высокую даму с серыми навыкате глазами и крупным носом на овальном бледном лице, обрамленном русыми волнами.
– А как же! Ночь прошла не зря! Урожай шикарный!
– Тогда идёмте! Нас уже ждут.
«Эзопши» удаляются. Царицына пожимает плечами и саркастически говорит:
– К чему этот словесный маскарад? Не понимаю. Будто мы не знаем, что они отправились к медалистам переписывать сочинения.
– Переписывать? – удивляется Елизавета Николаевна.
– Да, да! Переписывать! Не делайте большие глаза. Накропали за ночь чёртову дюжину. Пекут их, как блины. Наловчились.
– А директор, завучи знают об этом? – снова с изумлением интересуется Елизавета Николаевна.
– Не будьте наивной…. – вовремя спохватывается Царицына, не договорив «дурой». – Это они закрылись на ключ в другом кабинете, чтобы никто из учителей не знал. Мы сейчас тоже уединимся и будем колдовать над работами.
Капитолина Васильевна запирает дверь, потом смотрит на часы и с усмешкой замечает:
– Однако, времени у них в обрез. Сегодня к трём часам в медальную комиссию нести и золото, и серебро.
– Ужесточаются сроки, – вздыхает пожилая брюнетка с лимонным оттенком кожи и маленькими чёрными родинками на шее, вылитая Коробочка, переодетая в современный костюм цвета морской волны. – Когда-то медальные работы носили на четвёртый день после экзамена. Всё хотят поймать учителя – вот он, бедный, и выкручивается. А ларчик просто открывается. Имей связи в медальной комиссии, и будет тебе поблажка: не «заметят» речевые ошибки или дадут работу на несколько часов – исправить. Не машина проверяет – люди. Могут, конечно, и счёты с учителем свести: «утопить» медалиста. Степень субъективности оценки по литературе в сочинении – высо-о-кая.
– Рыженькой связи не нужны, Агата Семёновна, – лениво роняет Царицына, усаживаясь за парту. – Она опять в медальной комиссии.
– Требуют с медалиста шесть листов отборной прозы! – возмущается Инна Сергеевна, ухоженная, с подкрашенным лицом рафинированная старушка в белокурых локонах. – Не каждый учитель в состоянии написать за ученика такое сочинение! Да ещё не одно!
– Сейчас стимулируется спортивный интерес к медалям, – спокойно констатирует Галина Арнольдовна, курчавая, с пухлыми розовыми губами толстуха в расцвете лет, похожая на мулатку. – Школы трясёт золотая лихорадка. Многим хочется при поступлении в вуз сдать один экзамен вместо четырёх. Вот и обесценивается медальное золото.
– Спортивный интерес обусловлен коммерческим, – иронично замечает Царицына, которая втайне завидует Рыженькой и Барбарискиной, предполагая, что те нечисты на руку.
– Девять лет назад я окончила математическую школу, – вспоминает Елизавета Николаевна. – В нашем сильном классе была только одна медалистка. Золотая. А в этом году в моей родной школе планируется тридцать медалистов. Наш завуч-фронтовик наденет ордена, возьмёт букеты и пойдёт в министерство хлопотать за одарённых математиков. Подгнило что-то в школьном королевстве. Сегодня поддельные медали штампуются, профессиональная честь учителя пачкается, уважение к нему падает…
– Подождите. Укатают сивку крутые горки, – с насмешкой говорит Капитолина Васильевна.
– А что поделаешь? – с грустью произносит Агата Семёновна. – Плетью обуха не перешибешь. Вот почему нам нужна тайна.
– Но тайное рано или поздно становится явным, – мягко возражает Анненкова и берёт верхнюю работу из экзаменационной стопки..
Увидев в её руках шариковую ручку с красной пастой, Царицына вскрикивает и приказывает:
– Не вздумайте исправлять ошибки и ставить оценки ручкой! Только карандашом! Рыженькая и Барбарискина сами подчистят работы до нужных им оценок.
– Вы так любезны, бесценная Капитолина Васильевна! – весело восклицает Елизавета Николаевна, щуря глаза. – Просто спасаете меня от преступления. Я Вам за это страшно признательна.
– Не стоит благодарности, – ворчит под смеющимися взглядами коллег Царицына. – Лучше займёмся делом.
Разговор обрывается, и словесницы склоняются над экзаменационными сочинениями.
Учительский хлеб Елизавета Николаевна начала есть с корки. Она получила класс, от которого отказались другие филологи. Смеясь, директор Бергамот ей сказал:
– К ним надо надевать кольчугу.
Это был восьмой, выпускной, класс, – тогда школа была десятилетней – когда-то собранный из детей-озорников, безразличных к знаниям. Юные акселераты и акселератки привыкли безобразничать на уроках: дерзили учителям, скандалили, швыряли друг в друга бумажными шариками, запускали «самолетики», тайно играли в карты, перебрасывались любовными записками – одним словом, разнообразно убивали время. Особенно усердствовал умный парень за первой партой. Говорили, что у него лейкемия. Приговорённого страшной болезнью нельзя было приструнить: ему прощалось многое. Этот парень с чёрными китайскими глазами и нежным пушком на верхней губе позволял себе циничные фразы, приводя учителей в шок.
Елизавета Николаевна понимала: ругать, стыдить, обращаться за помощью к родителям учеников – бесполезно. Из-за кошмарного класса у неё болело сердце. Отношения с восьмиклассниками стали меняться с чтения в классе «Слова о полку Игореве». На учеников обрушился водопад интереснейших фактов: историко-филологический комментарий учительницы ошеломил их, заставил забыть о шалостях.
Разве не любопытно узнать, что «золотые», искусной работы шлемы русских князей были золочёными, так как шлем из сплошного золота был бы мягок и тяжёл? Почему щиты русских воинов автор сравнивает с зарёй? Да потому что деревянные, окованные железом щиты окрашивали черленью, ярко-розовой и алой краской, которую получали из насекомого – червеца. Кстати, бунчук – конский хвост на древке, символ власти, тоже красили черленью. Вам кажется, что серебряные берега Донца – это только красивый цветовой эпитет? Ничего подобного. Летом, когда вода в Донце, в которой много мела, спадает, его отмели, окрашенные в белый цвет, блестят на солнце, как серебро. Почему любящая жена князя Игоря, юная Ярославна, сравнивается в переводе Николая Заболоцкого с кукушкой? Странно, не правда ли? Кукушка подбрасывает свои яйца в чужие гнезда, она не может служить символом любви и преданности. Причина недоразумения – неправильный перевод слова. Оказывается, древнерусская «зегзица» вовсе не кукушка, а… речная чайка! Летя низко над речной водой, эта птица издает пронзительный звук «ки». Автор удивительно точно подбирает слова. У него «зегзица не кукует, а «кычет»! Долгое время считалось, что «бебрян рукав» Ярославны, которым она хочет утереть кровавые раны мужа, – это рукав с бобровой опушкой. Современные ученые-лингвисты выяснили, что «бебръ», или «беберъ» – белая шёлковая ткань особой выделки. В поэтическом сознании автора «Слова…» рукав из дорогого шёлка ассоциируется с белым крылом чайки, а не серым кукушечьим! Да и можно ли омыть раны рукавом, отороченным мехом? Жесты стоящей на забрале городской стены Ярославны, обращенные то к Ветру, то к Днепру-Славутичу, то к Солнцу, похожи на взмахи крыльев речной чайки, а не лесной жительницы-кукушки!
Елизавета Николаевна, с блестящими глазами и лёгким румянцем, словно парила. О, как играла в ней кровь! Впервые озорники забыли о звонке: заслушались учительницу.
Преображение отпетых учеников происходило медленно. Анненковой потребовались эрудиция, юмор, доброта, немалая сила воли и терпения, чтобы приручить ребят, победить чёрта, поселившегося в юной душе. Восьмиклассники, просыпаясь от духовной спячки, начинали читать, думать….
Всякий талант должен быть сначала испытан огнём и мечом. Этот бесценный опыт принес молодой учительнице сознание своей воспитательной силы и убеждённость в том, что душевный труд педагога рано или поздно приведёт его к нравственной победе, что ученики тогда больше всего нуждаются в любви учителя, когда меньше всего её заслуживают.
Прошло два года. Теперь Елизавета Николаевна не сомневалась в своем призвании. Её общению с детьми можно было позавидовать. Судьба подарила ей и женское счастье. Она встретила свою «половинку», кардиолога Алексея Езерского, и стала его женой. Казалось, жизнь складывалась замечательно….
Больше всех школьное начальство не любит тех, кем нельзя помыкать, поэтому учительская жизнь Елизаветы Николаевны не была безоблачной. С администрацией школы у неё установились сложные отношения.
Из-за клеветы Царицыной увяла первоначальная благосклонность к Елизавете Николаевне директора, который по загадочной причине так и не побывал на её уроках. Она чувствовала тайное недоброжелательство завуча первой смены, математика Аллы Борисовны Сабуровой, но не могла понять его причины. Езерской ещё не приходилось в жизни сталкиваться с завистью. Умная Алла Борисовна, полная шатенка средних лет, с невыразительной внешностью, абсолютно была лишена женского обаяния и несчастна в замужестве. Радостный блеск глаз Елизаветы Николаевны раздражал Аллу Борисовну, и завистнице страстно хотелось его погасить, но она не знала как. Неприветливость старшего завуча больно задевала молодую словесницу. Однажды неосторожный взгляд Аллы Борисовны открыл Езерской правду.
Завуч по воспитательной работе, филолог Диана Анатольевна Мурашкина была из породы «прекрасных дур». Когда эта золотистая блондинка с карими глазами открывала рот, её ядрёная красота куда-то исчезала. Речь главной школьной воспитательницы изобиловала грамматическими ошибками, канцелярскими и жаргонными словечками, вызывая улыбки учеников. По школе ходили нехорошие слухи о любовной связи Дианы Анатольевны с Бергамотом. Когда Мурашкина разговаривала с подчинёнными, её клюквенно-красные губки складывались в надменную улыбку, звонкий голос звучал высокомерно.
Завуч второй смены Ксения Михайловна Курбатова была добродушной, незамысловатой женщиной в роговых очках. Узнав, что школу посетит делегация немецких учителей, она в душевной простоте на педагогической летучке попросила:
– Не говорите немцам, что я учительница немецкого языка. Говорите – русского.
Езерской от этих слов было и грустно, и смешно.
Незримо и властно управлял упряжкой завучей директор школы Руслан Эмильевич Бергамот – коренастый мужчина с брюшком, лет за шестьдесят. В светло-каштановом ёжике волос немолодого сатира уже мелькала седина. На кухонном, без духовного отпечатка, лице светились житейским умом зеленоватые глазки. Семенящая походка и негромкий голос Руслана Эмильевича не вязались с его крепкой фигурой. Встретишь такого человека на улице – не обратишь внимания. Ни одной заметной черточки. Если узнаешь, что он директор школы, – удивишься. Человеческая наружность, как известно, штука обманчивая.
Директор Бергамот, историк по специальности, попал в очень некрасивую историю. Через три года после того, как Елизавета Николаевна устроилась на работу, в школе начала твориться настоящая чертовщина. Заварилось скандальное дело. Родители юной студентки-практикантки, обвинили Бергамота в свидригайловских наклонностях по отношению к их дочери и подали иск в прокуратору. В ходе судебного разбирательства, на которое допустили лишь немногих, выяснилось, что от тайных домогательств Бергамота страдало несколько учительниц. В школе поднялась буря. Коллектив учителей раскололся надвое. Одни с пеной у рта защищали «бедного», «оклеветанного» Руслана Эмильевича. Другие – верили в его виновность. Среди них была и Езерская, потрясённая подводным течением школьной жизни. Занозой в сердце Елизаветы Николаевны сидела клубничная фраза директора, сказанная ей без свидетелей, когда она проговорилась, что её муж умирает. Так Бергамот, вызвав взрыв отвращения, «утешил» молодую женщину, тайно носившую в себе огромное горе. Вероятно, и тогда коварный бес толкал в ребро пожилого донжуана.
Когда на школьном дворе расцвела душистыми гроздьями персидская сирень, директора Бергамота, выгнав из КПСС, уволили.
Обстановка в школе изменилась при новой директрисе, которую учителя на собрании выбрали из трёх претенденток открытым голосованием. Время было перестроечное, и все в эйфории упивались воздухом разрешённой свободы, мечтая о золотом веке для школы. Следующие годы развеяли много надежд.
Регина Альбертовна Мансурова, математик по образованию, была командиршей, женщиной энергичной, хотя не первой молодости. Коротко подстриженные волосы директрисы, похожие на мех серебристо-чёрной лисы, не старили её волевого цвета слоновой кости лица, чёрные вишни глаз невольно привлекали взгляд молодым блеском, резко очерченный рот пламенел алой помадой. От невысокой ладной фигуры Регины Альбертовны веяло нежным ароматом духов: она любила окружать себя цветочными запахами.
При Мансуровой Елизавета Николаевна расправила крылья и бескорыстно занялась театральным творчеством, которое открыло для неё новый источник радости.