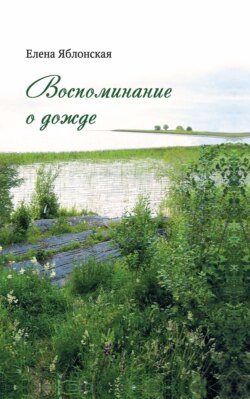Читать книгу Воспоминание о дожде - Елена Яблонская - Страница 2
Унас в Курослеповке
Воспоминание о дожде
ОглавлениеИногда мне кажется: этого не могло быть! На протяжении пяти лет повторялась сказка, достаточно было сесть сначала в электричку, потом в автобус… И сказка не приедалась, не становилась прозой, рутиной, напротив, с каждым годом обрастая новой плотью, она становилась всё чудеснее, полнее, сложнее, значительнее. А начиналось так.
В перерыве между парами мы с Сашкой сидели, взявшись за руки, на широком – дореволюционном – подоконнике. Институт наш помещался в здании бывших Высших женских курсов, что постоянно давало пищу для острот на «капустниках» и в стенгазетах. Всего лишь полгода назад, после торжественного посвящения нас в студенты, старшекурсники и аспиранты разыграли спектакль о том, как Киса Воробьянинов попадает на «женские курсы» и ему там, понятно, очень нравится. А нам с Сашкой не нравилось! Ему – оттого, что хотел быть врачом, но не прошёл медкомиссию в Ленинградскую военно-медицинскую академию, давление оказалось высоким. А мне не хватило одного балла на химфак университета, и ещё я знала про себя (и уж совсем «про себя» – тайно, даже Сашке не рассказала), что мне не в химию, а в филологию надо было идти, но филологический казался и вовсе недосягаемой мечтой… В общем, жизнь не удалась, что мы старались скрывать от однокурсников, только друг другу признались, отчего, наверное, и произросла любовь – товарищей по несчастью. Правда, к зимней сессии выяснилось, что мы не одиноки, почти все однокурсники недобрали куда-то (кто в МГУ, кто на физтех) одного-двух баллов и, подобно нам, разочаровались в жизни. Например, Варя из нашей группы – ей на биофак балла не хватило. А Саныч пошёл в институт только потому, что всё-таки надо получить «высшее», а то «родичи» – папа-полковник и мама-юрист – заедят, да и вкалывать простым аппаратчиком на химзаводе и тихо спиваться не слишком весело. И так – кого ни спроси… Но нам с Сашкой всё равно продолжало казаться, что мы особенные и любовь у нас тоже необыкновенная, на всю жизнь.
Варька с Санычем подошли к нашему подоконнику, и Варька сказала решительно:
– Мы вас выбрали! Вы нам нравитесь! Пойдёте с нами в поход?
– Да! – сказали мы одновременно.
Я увидела, как у Сашки сверкнули глаза. Будто отразились в зеркале. Я знала, что у меня они сверкнули точно так же. Мы вспомнили, что живём на свете непростительно долго, целых семнадцать лет, жизнь безобразно испорчена «женскими курсами», и если в самом ближайшем будущем не сесть в электричку и не поехать куда-нибудь, то всё окажется безвозвратно потерянным, непоправимым… Забрезжила надежда!
Оказалось, мы идём на Плещеево озеро, что в Ярославской области. Учившийся с Санычем на подготовительном отделении, так называемом рабфаке, Серёга Лапин перед тем, как бросить институт и исчезнуть в неизвестном направлении, успел рассказать, что на Плещеевом в огромном количестве ловятся щуки с помощью остроги, а прочая малозначительная рыба сама так и бросается на крючок. Может быть, Лапин был родом из Ярославля? Впрочем, это уже не имело значения, всё равно больше никаких сведений он не оставил.
Поход был назначен на тридцатое апреля. Мы лихорадочно готовились, делились планами и мечтами с однокурсниками. Случайный рассказ метеором промелькнувшего Лапина обрастал всё новыми подробностями, которые рождались как бы сами собой, из ничего – Саныч был немногословен и не склонен к фантазиям. Весь курс нам завидовал! Но почему мы не пригласили кого-то ещё? Ведь мы были очень дружны – и Саныч с Варькой впоследствии не раз ходили с ребятами из нашей группы на байдарках, а мы с Сашкой жили в общежитии и, естественно, дружили с соседями по комнатам и тоже ходили с ними в какие-то малозначительные, одно-двухдневные походы. Но на Плещеево никто из наших друзей даже не просился, потому, наверное, что всем, и в первую очередь нам четверым, озеро не вполне осознанно представлялось исполненным чудес, сказочным, заколдованным, куда могли попасть лишь посвящённые: таинственно исчезнувший Лапин, Саныч, которому Плещеево было Лапиным как бы завещано, Варька – девушка Саныча, да мы с Сашкой – почему-то Варькой и Санычем избранные.
Нам и вправду было хорошо вчетвером. Все три месяца, с февраля по май, мы собирались, составляли списки необходимых вещей, постепенно, от стипендии к стипендии, закупали продукты: крупы, макароны, тушёнку, чай, сахар, соль, водку… Присмотрели недалеко от общежития пункт проката: там надлежало взять спальники, надувные матрацы, рюкзаки, котелки для еды, миски и кружки, ножи, топоры, пилу и ещё какие-то специфические рыболовные принадлежности. Впрочем, мы с Варей в проблемы рыболовства принципиально не вникали, отвечали только за провизию. Перед самым отъездом у Вари дома мы до грамма взвешивали наши рюкзаки – всё было общим, а значит, всё должно было весить одинаково: наши рюкзаки не тяжелее десяти килограммов, рюкзаки мальчиков – по восемнадцать. Хотя Саныч, кажется, в последний момент взвалил на себя существенно больше.
Удивительно, но не только у нас, иногородних, но и у москвичей Вари и Саныча своих рюкзаков не было! Купить их было не так-то просто – и дефицит, и денег нет. А в пункте проката – пожалуйста, дёшево, на любой вкус! Палатка же нам досталась от Вариных родителей – Варя помнила, как они ставили её в саду на дедушкиной даче и спали, на потеху родственникам и соседям, в ней, а не в доме, так им, бедным, в поход хотелось! Что и говорить, Варькины родители очень нам сочувствовали и всячески помогали.
И вот тридцатого апреля 1977 года мы сели в электричку и поехали. Сначала в Загорск, нынешний Сергиев Посад, по-весеннему шалый и по-летнему пыльный. Наспех закусывали пирожками на автостанции, у бочки с квасом. Потом вдруг выяснилось, что дневной рейс на Переславль-Залесский мы пропустили, а следующий автобус пойдёт довольно поздно.
В Переславль прибыли в синих сумерках. Саныч высматривал на пустынной площади редких прохожих (в этот поздний час спешили с работы только пожилые мужчины) и подолгу с ними беседовал, выяснял, куда и как ехать. Потом ещё дольше стояли под холодным, быстро чернеющим небом с колко мерцающими звёздами. Подмораживало. «Звёзды, ночь будет морозная, – раздумчиво молвил Саныч, подняв к небу глаза. – Ну что, Варька, к мамашеньке захотелось? К ватерклозету?» Варька не удостоила его ответом, а я, как всегда, радостно засмеялась. Мне нравилась напускная Санычева солдафонистость. Наконец подъехал служебный автобусик с единственным пассажиром – дядька ехал на ночное дежурство куда-то «на линию», он же объяснил, что нам надо выйти «у ботика Петра» и пересесть на «кукушку», поезд, состоящий из паровоза и одного вагона, что ездит вдоль озера по узкоколейке всего лишь два раза в сутки, рано утром и поздно вечером. «А выйти вам надо, – добавил, – обязательно на третьей остановке, ближе всего к берегу, а то потом узкоколейка отклоняется от озера… а щуки та-ам… да-а… вот та-а-кие… я тоже иногда езжу рыбалить… не пожалеете!»
Мы слезли с «кукушки» в абсолютной темноте. Паровозик прощально прокричал, и мы захлюпали по подмёрзшей воде. Где же озеро? Что-то не видно, вон сосны торчат, вон ельник, а вот какие-то кусты, и всё вода, вода под ногами, болотный запах, тишина… Наконец скинули с уже ничего не чувствующих, одеревеневших плеч рюкзаки, наломали лапника, покидали его в мёрзлую воду, и пока Сашка с Санычем ставили на лапник палатку, мы с Варькой соорудили «могилу» – соединили молниями, кое-где сшивая, два ватных спальника. Всё было давно продумано до мелочей, возможно, Варькины родители подсказали: ни в какой мороз не замёрзнешь, если влезть в общий спальник вчетвером и раздеться до трусов и футболок – будете согревать друг друга дыханием и своими горячими молодыми телами. Конечно, перед тем как заснуть, мы и водки выпили, закусив баночной килькой в томате. Метался по брезентовым сводам палатки неяркий свет то и дело гаснущей свечи; Варя опасалась пожара и сердилась на Саныча, в очередной раз потерявшего спички; «Какие спички! – трагически отзывался Саныч. – Я, кажется, водку пролил»; Сашка в пятый раз вопрошал, где же нож – хлеба отрезать; я пищала, что банка с килькой перевернулась, а спальники-то казённые, теперь не отстираешь… И было – да, было очень тепло, даже жарко от нашего дружного дыхания, от взрывов хохота, от молодых и горячих здоровых тел…
Утром оказалось, что мы поставили палатку правильно – озеро было в двух шагах. За чередой невысоких сосен расстилался огромный песчаный пляж, который очень скоро, высохнув, был призван стать лугом, пока же его частично покрывала вода. Прямо перед нами светила с другого берега белая, чуть розовеющая от восходящего солнца стена монастыря, а в самом конце нашего берега, «в торце» озера, выглядывало из тумана бревенчатое строение – домик лесника в истоке реки Вёксы, не впадающей, а, напротив, вытекающей из Плещеева озера. Именно в неё, сказал Саныч, заходят на нерест щуки из Плещеева. С тех пор мы не называли его озером – просто Плещеево, одушевлённое и одухотворённое существо, такая же личность, как и каждый из нас, со своей историей и непростым характером.
Сложный характер Плещеева известен ещё со времён Петра Первого, когда он там флот испытывал. Были случаи – большие тяжёлые корабли в одночасье затягивало под воду, в бесконечный, как в пустыне, песок… А уж погода менялась на Плещеевом каждые полчаса, в этом мы сразу убедились: то снежные хлопья валом повалят, и прибрежный, уже начавший зеленеть лес быстро одевается в белую шубу, то с мгновенно расчистившегося ярко-синего неба начинает палить солнце, и снег тает на глазах, и кажется, что и почки раскрываются тут же, и листья распускаются… Неизменной, пожалуй, была только озёрная вода по утрам – хрусткая льдистая кашица, в которой мы с Варей мыли миски и котлы, а потом до блеска начищали их песком, уж его-то было в избытке.
Чудесными, баснословными, сказочными были все «плещеевские» дни, утра, вечера… Начать с того, что мы сразу же поймали зайца! Вернее, не поймали, а нашли – зайчонок сидел под кустом и, как нам показалось, дрожал от страха и холода. Мы взяли его в палатку, покормили морковкой и капустой (то и другое было в изобилии припасено для ухи), а к вечеру Саныч соорудил для него домик из веток. Назвал зайца почему-то Карасём и вознамерился забрать в Москву. Забегая вперёд, скажу, что он так и сделал, и Карась некоторое время жил у него в квартире на Воробьёвке, пока Санычева мама не выпустила его в парк на Ленинских горах (Саныч, понятно, был в институте). Ещё дальше забегая вперёд, покаюсь, что друзья-зоологи, которым я совсем недавно вздумала похвастать этой историей, сказали, что зайца мы тогда не спасли, а, наоборот, погубили, ведь на Ленинских горах его наверняка растерзали собаки. Оказывается, у зайцев принято с какого-то возраста не сидеть в норе, а пребывать в одиночестве под кустом, и любая пробегающая мимо зайчиха обязана зайчонка покормить. И так пока он не станет совсем взрослым… А тут мы подвернулись, вообразили, что бедный зайчик потерял маму! Правда, и эта научно-зоологическая история мне кажется похожей на сказку, а уж наш Карась точно вёл себя как сказочный персонаж. Он был вполне ручным и, когда мы с Сашкой брали его с собой на берег, некоторое время смирно лежал рядом с нами на начинающей проступать из песка траве, потом, когда ему казалось, что мы отвлеклись, прижав уши, пускался наутёк. Мы его легко ловили. Как-то, полёживая с зайцем, мы услышали странное шипение, оглянулись: большая берёза метрах в пятидесяти от нас вдруг полегла на землю и стала вращаться вокруг своей оси. В полной тишине. Через несколько секунд с шипением выпрямилась, и что-то – ш-ш-ш! – улетело. Это был смерч – обычное для Плещеева явление. Наш заяц не обратил на смерч никакого внимания, зато часто без видимой причины буквально вжимался в землю. И только через несколько минут мы с трудом начинали различать далеко и высоко в небе ястреба! Кто знает, может, наш Карась с такими способностями и на Ленинских горах не пропал? Льщу себя надеждой…
Зайца мы обрели первого мая, а второго к нам пожаловали гости – деревенские парни. Приехали на лошади, впряжённой в телегу. Долго сидели у нашего костра, выпрашивали спиртное, хоть и так были хороши, да у них и было с собой – предлагали самогон в обмен на водку. Саныч как-то отнекивался, отговаривался… дело кончилось тем, что телега уехала, а один, самый «хороший» гость так и остался лежать подле костра в луже. «Мы не можем его так оставить! – в ужасе говорила Варя, сверкая стёклами очков. – Он простудится… Где он будет спать?» – «С нами, Варька! – зловеще отвечал Саныч. – Между мной и тобой!» Принялись совещаться, как перенести гостя в палатку, и вдруг Сашка обнаруживает, что лошадь наступила на заячий домик и полностью его разрушила! А зайца нет, убежал… Забыв про гостя, Саныч полночи бродил окрест с криками «Карась, Карась!», а когда, отчаявшись, вконец измотанный, вернулся и присел у костра, мы заметили, что и гость исчез. Не в палатку ли забрался, пока мы искали зайца? И тут мы увидели нашего Карася, робко выглядывающего из-под полога! Не сказка ли? Лесной зверь ночью сам вышел к костру и спрятался в палатке! Конечно, был обласкан, накормлен и водворён в починенный домик.
А что уж говорить о щуках и прочей рыбе! Обещанные щуки действительно кишмя кишели на мелководье. Саныч с Сашкой ловили их и засаливали, коптили, сушили… Конечно, мы понимали, что занимаемся браконьерством, но рыбы было так много, что об этом не думалось. Да и каждую ночь всё озеро причудливо мигало огнями: окрестные жители целыми лодочными флотилиями сновали по озеру с фонарями и острогами! В этих движущихся огнях было что-то древнее, языческое, но совсем не страшное, наоборот, нам казалось, что мы всем миром совершаем очень важное и торжественное, необходимое для всех весеннее таинство…
Уху варили каждый день. Мы с Варей, конечно, умели чистить рыбу, но раньше нам доводилось иметь дело только с магазинной, мороженой. Взрезать же и потрошить живую, трепещущую рыбёху не было никакой возможности! По совету мальчиков рыбу сначала умертвляли: долго били несчастное создание ручкой ножа по голове. Однажды Варя таким образом выбила рыбе глаз, после чего сказала: «Всё! Не могу больше!» Вдобавок, когда сварили уху, в Вариной миске плавал на поверхности отдельный рыбий глаз, страшный, белый… Есть эту порцию она не смогла, а злодей Саныч ещё и поддавал жару: «Варька, – говорил, по-мефистофелевски хохоча, – это знак, предзнаменование!» Правда, после «предзнаменования» мы обе были освобождены от чистки и теперь только варили уху – тройную, четверную, по всем правилам.
Обидевшись на насмешки и попрёки в ничегонеделании, мы с Варей решили принять участие в утренней рыбалке на удочку. Краснопёрка, действительно, сама так и бросалась на крючок. Тем не менее рыбалка оказалась тяжелейшей процедурой. Мы обе не могли себя заставить снять трепещущую рыбу с крючка, а Варя ещё панически боялась дождевых червей, коих на крючок надо было насаживать. Впрочем, я тоже червей не жаловала. Сначала мы упрашивали кого-то из мальчишек «насадить», но рыба тут же клевала, и мы уныло бродили по берегу с удилищами на плече – умоляли «снять». Когда нас решительно послали – отстаньте, мешаете! – я наконец собрала волю в кулак. Мужественно выкапывала червя и принималась какой-нибудь щепкой резать его пополам – черви были так огромны, что насаживать следовало даже не половинку, а четвертинку. Пока я резала половинку на четвертинки, вторая половинка уползала. Тут уж пришлось подключиться Варе. «Держи половинку!» – говорила я, и Варя, тоже собрав волю в кулак и отвернувшись, накрывала половинку рукой в варежке. «Теперь держи четвертинку», – я с дрожью насаживала на крючок одну из четвертинок. Варя послушно накрывала оставшуюся четвертинку свободной рукой. Потом Варя, всё так же в варежках, худо-бедно научилась снимать рыбу с крючка. Но всё это было мучительно, и мы решили круто изменить жизнь.
В одно прекрасное утро мы сварили сразу обед и ужин и объявили, чтобы к обеду нас не ждали – идём обследовать окрестности. Сашка с Санычем выслушали невнимательно и побежали к своим острогам и удочкам. А мы пошли разыскивать спрятанное среди лесов и болот озеро Семинó, по сравнению с Плещеевым совсем маленькое, на карте выглядевшее симпатичной круглой бусинкой. Шли долго – сначала по уходящей от Плещеева узкоколейке, потом наобум через сырой, подтопленный лес. И вдруг неожиданно вышли в деревню! На одной из изб висела скромная табличка: «В этом доме жил писатель М.М. Пришвин». «Да, да, – важно покивала старушка с завалинки, – я его помню», – и показала направление к Семину: «Только к озеру вы не подберётесь, топко очень…» Мы всё же пошли и, конечно, не добрались: всё пространство на подступах к озеру было сплошь покрыто страшными чёрными топляками, висели, зацепившись друг за друга, полусгнившие деревья, раздавались странные чавкающие, хлюпающие «болотные» звуки, и даже один раз послышался протяжный вой. «Птица?» – предположила я, а Варя поёжилась: «Знаешь, пошли отсюда…» Я вспомнила: «Берендеево болото», но только много лет спустя догадалась, что пугал нас, не пускал дальше, должно быть, хозяин этих мест, сам давно ставший былиной, сердитый леший, он же лесной, болотный, озёрный царь – Михаил Михайлович Пришвин.
Возвращались в сумерках. Ноги уже не повиновались… Вдобавок мы, кажется, заблудились. Огромное Плещеево спокойно лежало перед нами, но где там наша крохотная, спрятанная в перелеске палатка? Может, надо было ещё пройти по узкоколейке? Или, наоборот, мы слишком рано свернули? Вдруг от темнеющего куста отделилась мужская фигура… Саныч! Мы со стоном бросились к нему, повисли на плечах – Варька на правом, я на левом… «Совсем сдурели! Целый день вас нет, – выговаривал Саныч, таща нас к костру, – мы уж не знали, что и думать…» Наконец-то мы дома! Стоящая посреди болота маленькая выцветшая палатка Вариных родителей показалась роскошным дворцом, действительно, она незаметно стала нашим домом.
Надо сказать, что это приключение нас нисколько не расхолодило, разве что путешествовать мы стали более осмысленно. Осмотрели город Переславль, побывали в музее «Ботик Петра», сходили на противоположный берег в монастырь, в котором находилась мастерская по ремонту сельхозтехники. Мы тогда не подозревали, что монастырь назывался Никитским, и сознаюсь, особо о нём, бывшем, не сожалели, бродили меж комбайнов и сенокосилок, а работающие там дядьки не обращали на двух девчонок ни малейшего внимания, решали какие-то производственные проблемы, спорили о нарядах и запчастях, перекликались раздражёнными голосами, но ни единого матерного слова мы не услышали. Как не слышали никогда ничего подобного ни на московских улицах, ни от пьяных деревенских парней у костра. Простой, бедной, честной и чистой была непостижимо чудесная, безвозвратно ушедшая, канувшая в Лету страна нашей юности…
Наверное, именно тогда, на пути из Никитского монастыря, я посетовала на непрекращающийся дождь. И было это, конечно, не в первый наш поход, а, наверное, на третьем или четвёртом курсе. «Всякий раз Плещеево другое, – сказала я, – помнишь, в первый год снег шёл и смерч налетал, в прошлом году было так тепло, что мы загорали, и тебе в плечо впился клещ, мы его и лучиной жгли, и маслом поливали, и спиртом… еле вытащили, а теперь и вспомнить нечего, только дождь…» – «Ничего, – ответила Варя, – значит, останется воспоминание о дожде».
* * *
На третьем курсе Сашка бросил институт и пропал в неизвестном направлении так же, как когда-то Серёга Лапин. Этому предшествовало наше длительное, страдальческое расставание. Но о том, чтобы из-за потери Сашки перестать ходить на Плещеево, нельзя было и помыслить. Варя и Саныч быстро нашли ему замену: Серёжка Бочков, паренёк из нашей группы, как и все мы, помешанный на походах. Лучшего товарища для меня трудно было придумать – ни о какой «любви» между нами речи не было. Лежим, бывало, в нашей четырёхспальной «могиле», засыпаем. «Бочков, ты меня уже затолкал своими острыми коленками!» – капризничаю я. Серёжка парирует: «А у тебя, думаешь, коленки лучше?» Кстати, Саныч – он тоже Серёжа, Сергей Александрович, но старше нас на четыре года, и потому звался по отчеству. Приятным сюрпризом стало то, что Бочков, подобно мне и Санычу, почитал Ильфа и Петрова. Мы с ним могли дуэтом шпарить наизусть целыми страницами. Но начинал обычно Саныч. «Варвара, волчица…» – говорил, любовно глядя на жену (они поженились на третьем курсе). «Волчица ты, тебя я презираю…» – с восторгом подхватывали мы с Серёжкой монолог Васисуалия Лоханкина. Правда, не меньшее место в репертуаре Саныча занимал «бравый солдат Швейк». Бочков и в этом его поддерживал, а я, подражая Варьке, надменно поднимала брови. И сколько ни пыталась читать «Швейка» впоследствии, так и не поняла ничего – по-моему, грубая солдафонщина.
После того как мы с Варей освоили все окрестности, пришла пора заняться животным миром. Возможно, нас не оставляла тоска по сгинувшему на Ленинских горах зайцу. Как-то набрели на целое скопище ужей, причём я проявила первобытный ужас перед змеями, но Варя вспомнила, что Саныч их очень любит. С ужами разбирались, как когда-то с червяками, только поменявшись ролями. Варя ловила и запускала змей в ведро, а я, отвернувшись и трепеща, придерживала крышку. Наловили полное ведро, крепко-накрепко притянули крышку верёвкой, принесли в лагерь: «Это вам подарок!» И действительно, Саныч отнёсся к презенту с интересом и симпатией. Но вот незадача – ночью все до одного ужи выбрались из ведра и уползли, хотя ведро, казалось, было так плотно закрыто и перетянуто верёвкой. Мы долго восхищались: «Какие сильные, мускулистые!» В следующий раз набрали целое ведро лягушачьей икры и с помпой поднесли мальчикам. Тут уж Саныч не выдержал: «Что ж вы всякую дрянь собираете и нам дарите?»
Кстати, поженились Варька с Санычем тоже, можно сказать, под знаком Плещеева. После зимних каникул Саныч сказал озабоченно:
– Варька, уже февраль, надо готовиться!
– К свадьбе?
Они подали заявления в загс, и свадьба была назначена на двенадцатое апреля.
– К какой ещё свадьбе? К походу!
Через две недели после свадьбы, естественно, отправились на Плещеево, как всегда, с тридцатого апреля по середину мая, точное число возвращения в Москву назначалось в зависимости от довлевших над нами зачётов.
Мы быстро обжили Плещеево и славный город Переславль-Залесский и не возвращались больше сложным и длинным путём с пересадками через Загорск. Просто один раз сели на автобус в Переславле и вышли на московском автовокзале. Свежая листва флагами плескалась по ветру, по ведущему в область шоссе вилась летняя пыль. Но после плещеевского леса симпатичная окраина майской Москвы показалась мне насмешкой. «И это Москва?! – изумилась я. – Ой, какой район противный!» Что и говорить, гений места, обитающий не только на Берендеевом болоте, но и на каждом автовокзале, не спустил обиды. Вскоре меня распределят в подмосковный академгородок Курослеповку, а попасть в него можно только автобусом, отправляющимся с этого самого автовокзала…
* * *
После института ездить на Плещеево по разным причинам не получалось, и Варя с Санычем развелись. Варька вышла замуж за своего коллегу и уехала с ним в Америку, а Саныч и Бочков хоть и остались в Москве, но совсем пропали из виду. Я тоже вышла замуж, осела с семьёй в Курослеповке, в Москву выезжала редко и всякий раз вспоминала трепещущую молодую листву, завивающуюся клубами майскую пыль, наши рюкзаки и вёдра с засоленной рыбой, вытаскиваемые Серёжкой и Санычем из переславского автобуса, вот здесь, на этом самом месте… А потом началась сумасшедшая перестройка, её сменили совсем дикие «лихие девяностые» с борьбой за выживание. И тут мне стало казаться, что теперь я одна призвана хранить всю Ярославскую область и наполненное чудесами Плещеево озеро. Больше ведь некому. За Москву я почему-то не беспокоилась – устоит! А вот Плещеево… Муж не мешал мне хранить исполненное чудес озеро и даже с интересом рассматривал мутные чёрно-белые плещеевские фотографии, и я была ему за это благодарна. А ещё потом как-то незаметно прошло двадцать лет…
Я уговорила друзей поехать в выходные на Плещеево, благо оно совсем недалеко от Курослеповки, чуть больше ста километров. Всю дорогу рассказывала о сказочном озере, о зайце, щуках, ужах… Муж важно кивал, подтверждая. А приехав – ничего не узнала. Мы долго кружили, пытаясь хоть куда-то поставить машину – то детский лагерь, то санаторий-профилакторий, то ещё какой-то забор… Домика лесника нет и в помине… Да что забор! Что домик! Само озеро стало другим, изменились его очертания, исчез наш пляж-луг, перелесок превратился в густой лес, заболотились берега… И только монастырь по-прежнему светит из-за озера белой стеной, говорят, он теперь очень красивый, отреставрированный, богатый… Оказалось, двадцать лет – огромный срок. Всё меняется, становится неузнаваемым или исчезает безвозвратно, растворяется без следа. Остаётся только воспоминание – мутным, нечётким, расплывающимся старинным снимком, где мы с Варей – обе в свитерах, штормовках, резиновых сапогах – выглядываем из-под полога палатки, подставляем смеющиеся юные лица под моросящий дождь… Одно лишь воспоминание… Воспоминание о дожде.