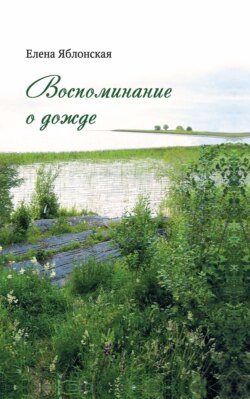Читать книгу Воспоминание о дожде - Елена Яблонская - Страница 5
Унас в Курослеповке
Тапочки Левитана
ОглавлениеЯ зашла к Орловым за книгами. Мне их много надо, я ведь теперь на Высших литературных курсах учусь. А в библиотеке, как ни придёшь, всё разобрано. По Средним векам надо, по Возрождению… По философии что-нибудь, по античности, если есть…
Я стояла в прихожей и укладывала книги в полиэтиленовый мешок, а Андрей кричал из комнаты:
– Аристотеля возьмёшь? «Сочинения», первый том…
– Давай! – радовалась я.
– «Памятники византийской литературы IX–XIV веков»… Давать?
– Византию нам не читали… Всё равно давай! А Платона нет?
– Что-то не вижу… – Андрюша, стоя на стремянке, рылся в книжных полках, набитых до самого потолка. – А это возьмёшь? «История зарубежной литературы XVIIXVIII веков»?
– Учебник? Конечно!
– Слушай, семьдесят третий год издания! Татьяна по нему училась… Зачем тебе это старьё?
– Ну, пригодится…
Из кухни вышла Татьяна, Андрюшина жена, учительница русского и литературы. Сказала решительно:
– Классика не устаревает. Вот ещё возьми, по девятнадцатому веку… Андрей, что ты её в коридоре держишь? Раздевайся, чаю попьём…
– Нет, спасибо, мне некогда…
Раздался звонок в домофон.
– А вот теперь ты останешься, – с довольным видом сказал Андрей и слез со стремянки. – Это Клименко.
Действительно, вошёл Саша Клименко, завлаб, химик, Андрюшин друг. В одной руке бутылка «Nemiroff с мёдом и перцем», в другой шоколадка.
Бутылку отдал Андрею, шоколадку – Татьяне, а на меня покосился неодобрительно:
– А ты всё с книжками? Иш-шь, пис-сатель…
Прошли на кухню.
– В морозилку её! – распорядился Клименко. – Водка должна быть вязкой, как глицерин. Они гуманитарии, а ты, бывший химик, ты-то хоть помнишь, как глицерин течёт? – Такое не забывается, – сказала я, чтобы сделать Клименко приятное.
Таня быстро накрывала на стол: квашеная капуста с клюквой, варёная картошка, рыбка жареная… Это потому что Филипповский пост.
– Ну, рассказывай, – сказал Клименко. – Говорят, в Москве теперь живёшь…
– Ага, вчера на Левитане была!
– Что, выставка? В Третьяковке?
– Нет, в ЦДХ, на Крымском Валу…
– Это и есть филиал Третьяковки, – вмешался Андрюша, – никакое не ЦДХ… Подождите, сейчас я… – и убежал. Клименко полез в морозилку. Вынул и придирчиво оглядел бутылку. Таня оглянулась от плиты:
– Саша, не надо… она не охладилась, как ты любишь… у него там ещё есть, да, вот эта, тащи…
Клименко вытянул за горлышко заиндевевшую «Старую Москву», одобрительно буркнул «угу» и разлил по рюмкам:
– Хозяин! Ты где? Не задерживай процесс!
Андрюша появился в дверях с большим альбомом в руках. На обложке знакомо рыжели берёзы над рекой. Вода в речке не голубая, а сизая оттого, что в ней отражаются осенние облака. Я обрадовалась:
– Ой, это же с выставки каталог! Ты что, тоже был?..
– Нет ещё, мне третьяковцы подарили… я им… э-э-э… тэк скэзать… материалы кой-какие… м-м-м… подобрал… по Морозову… только не Савва, а Сергей Тимофеич… Скорее всего, это он с Левитаном в Плёс ездил, а вовсе не Савва… Елена, не лезь, у тебя руки в рыбе!
– Ну, давайте, – сказал Клименко, – за тебя, Орлов, и за твою… э-э-э… тэк скэзать… успешную краеведческую деятельность…
– Саша, какой ты сегодня многословный, – удивилась Татьяна.
– Повод обязывает – сотрудничество нашего… м-м-м… выдающегося историка с Третьяковкой!
– За меня потом, – скромно сказал Андрюша, – давайте лучше за Исаака Ильича, хороший был мужик.
Чокнулись, выпили. Водка была такой холодной, что у меня заломило зубы.
– Ой, что ж это мы? – испугалась Татьяна. – Поминают не чокаясь.
– Молчи, женщина! – сказал Андрей. – Он умер сто десять лет назад. Мы не поминаем, а… м-м-м… за его картины, которые… э-э-э… тэк скэзать… вечно живы…
– Вот именно! – поддержал Клименко. – За искус-с-ство! – и налил по второй. Чокнулись. Выпили. Помолчали.
Я вспомнила, как студентами ходили в Третьяковку лет тридцать назад. Около картины «Над вечным покоем» Димка, мой однокурсник, остановился и сказал:
– Знаешь, Ленка, если на эту картину долго смотреть – голова закружится. Не замечала?
Я засмеялась:
– Точно! У меня уже кружится!
Голова и вправду кружилась. Была весна, а нам – по двадцать лет. Теперь Димка и сам «над вечным покоем», на машине разбился…
– Ну, рассказывай, – вывел меня из задумчивости клименковский голос. – Что там на выставке?
– Выставка замечательная, – пустилась я в объяснения. – Она до конца марта будет, сходи обязательно…
– Отлично! – воодушевился Клименко. – Мы всей лабораторией поедем… «Планы и отчёты» там устроим. А тебя, Орлов, я попрошу как экскурсовода и почётного гостя…
Андрюша согласно наклонил голову и чокнулся с Клименко. Вспомнилось, как проходили годовые «Планы и отчёты» в нашей лаборатории. Шеф имел обыкновение устраивать это мероприятие тридцать первого декабря в пять вечера и нарочно тянул, тянул… Вопросы задавал придирчивые… Назло. Поиздеваться над сотрудниками… Хорошо, что я ушла! Спросила Клименко:
– И что, ты прямо в зале под картинами будешь отчёты слушать?
– Зачем? После экскурсии соберёмся где-нибудь в приличном месте, в кафе каком-нибудь…
– Здорово! – восхитилась я. – Если бы у меня был такой завлаб, я бы, наверно, из института не ушла!
– «Если бы у меня был такой кот, я бы, пожалуй, и жениться не стал», – засмеялся польщённый Клименко.
– За науку! – провозгласил Андрей.
Чокнулись, выпили.
– Значит, всё-таки жалеешь, что науку бросила? – спросил Клименко, хрустя капустой.
– Да что ты! Ни одной минуты!
– А вот скажи, – повернулся ко мне Андрюша, – что тебе больше всего у Левитана понравилось? Нет, не понравилось, а… м-м-м… поразило?
– Поразило? Знаешь, там, на втором этаже, ну, как бы галерея такая небольшая, там не картины, а фотографии, письма всякие, в основном к Чехову, ну и открывает этот отдел огромная фотография Левитана. Он в толстовке, с таким же бантом, как на других фотографиях, на крыльце какого-то дома сидит…
– Это в Бабкино, – подсказала Таня.
– Молчи, женщина! – закричал Андрюша. – Ничего подобного! Хотя раньше все так и считали: деревня Бабкино, усадьба Киселёвых, восемьдесят шестой год. А мы вот недавно выяснили, что это не Бабкино Звенигородского уезда, что на Истре, а во Владимирской губернии, за Покровом. Левитан в девяносто втором году жил в деревне Городок, а рядом усадьба Сушнево, родственникам Морозовых принадлежала, профессору истории Карпову, Левитан гостил у них…
– Так ты знаешь! Чего ж ты спрашиваешь?.. – я потянулась к альбому, который Андрей по-прежнему держал на коленях.
Он строго остановил меня:
– Здесь этого нет. Продолжай!
– Меня поразило, что на нём тапочки типа мокасин на шнурочках – совершенно современные! Прямо видно, какие они мягкие… Я думала, они в грубых сапожищах ходили, как на другой фотографии… ну, знаешь, где на охоте, с ружьём и собакой, а так – штиблеты носили, узкие, неудобные…
– Во, женщина! Клименко, а? – засмеялся Андрюша. – Тапочки со шнурочками её поразили. А ещё писатель!
– И правильно! – вступилась за меня Таня. – Внимание к деталям, сама жизнь… Мокасины эти, наверно, на заказ шили… Леночка, а из картин что?
– А из картин… такая… девяносто девятого года, значит, за год до смерти… там косогор и избы красные, в закатных лучах. Не то чтобы она мне понравилась, но удивила. Если б не было подписано, что Левитан, я бы решила, что это «мирискусник» какой-нибудь, авангардист, Лентулов, что ли, или Кончаловский…
– Эта? «Последние лучи солнца», – Андрюша показал нам иллюстрацию, держа раскрытый альбом высоко над столом.
– Да, – уважительно вздохнул Клименко. – Ну, давайте… за природу!
Чокнулись, выпили. Таня положила всем ещё по куску рыбы.
– Андрюша, я хотела тебя спросить… – спохватилась я. – Помнишь чеховскую «Попрыгунью»? Так у неё вовсе не Кувшинникова прототип! То есть, может, и она тоже, но только отчасти… Я на выставке настоящую нашла!.. Я её как увидела, сразу поняла: это она! Потом уже прочитала, что она действительно убежала с художниками… Дай покажу, я руки вытерла…
– Не трогай, я сам! Она?
– Она!
Из раскрытого альбома смотрела молодая женщина. Кокетливая шляпка, на плечах летящая накидка из длинного меха. «Это называлось “горжетка”!» – объяснил Андрей. На шее чёрная ленточка, наверно, бархатная, – должно быть, это называлось «бархотка». Полные щёчки, капризно надутые губки, в каждой линии левитановского карандаша томность и лень, а в глазах растерянность, обида или что-то такое… не знаю даже…
– «Портрет А.А. Грошевой», – прочитал дальнозоркий Клименко, – «Анна Александровна Грошева – жена плёсского купца… м-м-м… в 1889 году, оставив мужа, уехала с художниками в Москву…» Иш-шь ты, кака-а-я!..
– И в кого она влюбилась? – спросила Таня. – В Левитана?
– Да нет же! – замахал свободной рукой Андрюша. – Самое обидное, что ни в кого! Ну, есть какие-то измышления современные, что всё-таки в Левитана немного, что он будто бы писал её портрет на фоне цветущего шиповника, а Кувшинникова ревновала… Но это не так! Они её не любовью, а учёбой соблазнили! Новой жизнью! Но в Москве им было не до неё, только Морозов какое-то время помогал… Она в театр поступила, но таланта не оказалось, и в общем… кончилось, видимо, тем, что она попросту пошла по рукам… Да, жалко… Но на портрете не она!
– А кто? – спросил Клименко.
…И тут я увидела розовый куст шиповника, белый кружевной зонтик, пухлую женскую ручку, лениво отгоняющую пчелу, синеющую волжскую даль, плавный изгиб реки, жёлтый песок на берегу… Я даже услышала, как томительно жужжат пчёлы, и ощутила, какой горячий этот песок, потому что у самой воды под прутьями ивы лежали тапочки типа мокасин с развязанными шнурками… Художник в подвёрнутых полосатых брючках осторожно и мягко ступал около мольберта босыми ногами… На песке оставались его следы…
– Вот, все думают, что Грошева, и только я обнаружил, что это не она! – похвастался Андрюша.
– Но этот портрет ведь на основании каких-то документов Грошевой приписали? – возразила я. – Ведь не просто так! Фотографии её, наверно, сохранились…
– Молчи, женщина! Видел я эту единственную фотографию супругов Грошевых, там ничего не разберёшь! Просто в 1903 году некий петербургский литератор… как же его… м-м-м… Авилов… Вавилов…
– Полилов, – шепнула Татьяна.
– Вспомнил! Северцов-Полилов! А ты откуда знаешь?
– В альбоме упоминается…
– Он написал роман об этой истории, что-то вроде «Просветители», нет, как-то по-другому, уничижительно… – «Развиватели», – пискнула Таня.
– А, точно! Молодец Татьяна Иванна…
– А Чехов читал этот роман? – спросила я.
– Да вряд ли, девятьсот третий год… Он в Ялте, меньше года жить осталось… До того ли ему было?
– Ему до всего было!.. И он как раз в этом году написал рассказ «Невеста», – сказала Таня. – Странный, между прочим, рассказ. Раньше мы детям объясняли, что девушки так в революцию уходили, но что-то я сомневаюсь… А Чехов вообще-то знал об этой истории?
– Трудно сказать, может, и знал. Они же потом помирились с Левитаном. Но это – не Грошева!
– А кто же?! – возопили мы с Клименко.
– А вот, слушайте… Татьяна Иванна, ты можешь сесть, наконец? Что ты мельтешишь?! – раздражённо закричал Андрей.
– Сейчас, – Таня метнулась к холодильнику. – Я только огурчиков вам достану… Саша, узнаёшь? Это с твоего огорода! Помнишь, летом, у тебя на даче… Открывай!
– Да-а? – Клименко с интересом воззрился на трёхлитровую банку. Огурцы за баночным стеклом толкались бурыми пупырчатыми боками, как крокодилы на отмели. Таня потихоньку вынула альбом из рук Андрея, тоже заглядевшегося на огурцы, и поставила на холодильник. Так он и стоял там, раскрытый на портрете Грошевой и подпёртый солонкой, рядом с иконкой апостола Андрея в яркой зелёно-красной рясе. В одной руке апостола Евангелие, другой рукой он придерживает большой крест в виде буквы «икс». Всё это на фоне сиреневатых гор и причудливо изрезанных бухт. Наш Херсонес, что ли? Или Кавказ?..
Клименко открыл банку и стал тыкать вилкой в одного из крокодильчиков, тот увёртывался, не поддавался. Мы с Таней, забыв о Грошевой, внимательно следили за поединком. Я не выдержала:
– Саш, дай я… У меня рука в банку пролазит!
– На! Скоро у тебя и голова будет туда пролазить! Она ж усыхает без умственной работы. И как это можно было, не понимаю, уйти из науки!
– Она лёгкой жизни захотела, как Грошева, то есть не Грошева, а вот эта вот, – поддакнул Андрюша, махнув рукой в сторону холодильника, – и мне тоже огурца… Профессор Клименко, за тебя… тэк скэзать… э-э-э… как выдающегося учёного!
Чокнулись, выпили. Помолчали. «Не-Грошева» укоризненно смотрела с холодильника: «И вам не до меня! Даже послушать не хотите…»
– Я так и не понял, почему это не Грошева, – встрепенулся Клименко.
– Да ты посмотри на неё! Нет, ты внимательно посмотри! Неужели не видишь? Разве могла купчиха из раскольничьей семьи так носить шляпку?
Все уставились на портрет, Таня даже привстала и вытянула шею, а я вдруг будто впервые её увидела, не Грошеву, а Татьяну: белая матовая кожа, соболиная бровь, ровный носик, сжатые губы… Кого она так напоминает? Из раскольничьей семьи… Боярыня Морозова с картины Сурикова! И как это я раньше не замечала! Я перевела взгляд на Андрюшу: а вот и протопоп Аввакум! Чёрная бородища, насупленные брови, в глазах упрямство… Нет, это неуместные и даже неприличные аналогии – должно быть, я слишком серьёзно готовлюсь к экзамену по древнерусской литературе. Уж Аввакум-то с боярыней Морозовой не стали бы в пост водку трескать… А впрочем, кто их знает? Опять же Клименко справедливо утверждает, что водка постная…
– Хорошо, не Грошева, а кто тогда? – спросил Клименко, доставая из морозилки «Немировку с перцем» и продолжая смотреть на портрет.
Андрюша обвёл нас торжествующим взглядом:
– А вот этого мы никогда не узнаем!
– Как?! – опешил Клименко и, не долив Андрюшину рюмку, поставил бутылку, сильно стукнув о стол. На клеёнку посыпался иней.
– Ну, просто какая-то их знакомая, не из раскольников… Портрет неизвестной… Ты лей, профессор, не отвлекайся!
Я возмутилась:
– Так ты, оказывается, ничего не знаешь и на основании какой-то шляпки берёшься утверждать…
– Да! Мне шляпки достаточно! У меня интуиция!
Клименко снова принялся разливать «Немировку»:
– А что? Между прочим, в науке интуиция – самое главное. В искусстве тем более… За интуицию!
– За искус-с-ство! – засмеялась Таня.
– Молчи, женщина! Не сбивай нас, это будет следующий тост. Клименко, наливай! А ты, пис-сатель, чем спорить со старшими… достань огурец!..