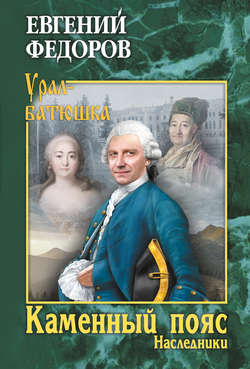Читать книгу Каменный Пояс. Книга 2. Наследники - Евгений Александрович Федоров - Страница 7
Часть первая
Глава шестая
Оглавление1
Первые русские поселенцы появились в Зауралье в семнадцатом веке. Перевалив Каменный Пояс, через нехоженные дремучие леса, предприимчивые сметливые искатели выбрались на широкую сибирскую долину, где среди дубрав, на берегах рек понастроили острожки, селения и монастырские обители. Так возник Далматовский монастырь, возведенный усердием охочих людей над красивой излучиной на левом берегу Исети.
Четко выделяясь на голубом фоне неба, и поныне грозно высятся на высоком юру величавые зубчатые стены каменного кремля, закопченные дымом башни и бастионы.
По глухим горным тропам, по еле приметным лесным дорогам шла сюда бродячая Русь: завсегдатаи монастырей, скитальцы-странники, бездомная голытьба – гулящие люди, беглые холопы. Окрест монастыря по долинам рек появились слободки и деревеньки. Край простирался тут привольный, плодородный, но жилось по соседству с Ордой беспокойно и хлопотливо. Избенки были отстроены из осинника, корявой ели, наскоро покрыты соломой, а то и дерном. Маленькие слепенькие окошечки затянуты пузырем, кой-где слюдой. Люди тут жили тесно, скученно, но сытно и вольно. В скором времени у слободки над Исетью отстроили острожек Шадринск, для обережения его от бродячих орд обнесли деревянным тыном, рогатками и окопали глубоким рвом. За Шадринском возник Маслянский острожек. Вокруг новых городков опять выросли села и деревни, населенные свободными землепашцами. Жили тут мужики, не зная кабалы, отбиваясь от набегов Орды и рачительно распахивая тучные земли.
Задумав строить Кыштымский завод, Никита Акинфиевич Демидов и обратил свои взоры на этот нетронутый край. В зиму 1756 года тагильский заводчик съездил в Санкт-Петербург, добился свидания с царицей и своими прожектами увлек ее. В 1757 году, по указу правительствующего сената, приписано было к новым демидовским заводам еще 7000 душ государственных крестьян, никогда не знавших барского ярма и живших по отдаленным селам Зауралья. В числе других сибирских сел к Кыштымскому заводу приписали и Маслянский острожек с прилегающими к нему селами и деревнями. По сенатскому указу предполагалось, что приписные должны были отработать лишь подушную подать – рубль семь гривен в год. Еще петровским указом была определена подённая плата приписным мужикам за их работу: пешему рабочему за долгий летний день – полгривны, конному – гривенник.
В день Еремея-запрягальника, в страдную пору, когда ленивая соха и та в поле, в Маслянский острог приехали приказный и демидовский приказчик с нарядчиками. В прилегающие села и деревеньки полетели гонцы с повесткой прибыть всем мужикам и выслушать сенатский указ.
После обедни староста согнал крестьян к мирской избе, и приказный объявил им:
– Ну, радуйтесь, ребятушки, больше подать царице платить не будете! За вас Демидов заплатит. А вы должны, братцы, свои подати на демидовском заводе отработать. К заводу, во облегчение вам, и приписываетесь вы, ребятушки!
Не успел приказный рта закрыть, заголосили бабы, недовольные крестьяне закричали:
– Это еще чего захотели: мы землепашцы, привыкли около землицы ходить! Нам заводская работа несподручна. Не пойдем на завод!..
Рядом с приказным стоял демидовский приказчик Селезень. Этот крепко скроенный мужик, одетый в суконный кафтан, в добрых козловых сапогах, по-хозяйски рассматривал крестьян. «Ничего – народ сильный, могутный, – прищуренными глазами оценивал он приписываемых. – Свежую силу обрел наш Никита Акинфиевич!»
Приказчик нагло шарил взором: нравилось ему, что мужики обряжены были по-сибирски – в крепкие яловые сапоги, в кафтаны, скроенные из домашнего сукна. «Это не расейские бегуны в лапоточках да в холщовых портках».
Заслышав гул недовольства в толпе и бабий плач, Селезень нахмурился:
– Ну, чего взвыли, будто на каторгу собрались! Эка невидаль, отработать рубль семь гривен!
– Подати мы и без того исправно казне правим, а в холопы не пойдем! Как же так, братцы? В ярмо нас хотят запрячь.
– Не быть тому! Не пойдем на завод, пахота ждет! – закричали в народе.
Селезень вытянул шею и пристально разглядывал толпу. Среди волнующегося народа он заметил коренастого парня с веселыми глазами. Ткнув в него пальцем, приказчик крикнул:
– Эй, малый, поди сюда! Больно ты шебаршишь!
Парень не струсил, не опустил глаз под угрозой. Он протолкался в круг, сдержанно поклонился.
– Ты что ж, милый, народ мутишь? Как звать? – вкрадчиво спросил Селезень.
Улыбка сошла с лица парня, он степенно отозвался:
– Зовут меня Иваном, а по роду Грязнов. А то, что селяне кричат, – справедливо. Суди сам, коренные пахари мы, к заводской работе несвычны.
– Верно байт парень! – загудели в толпе.
– Цыц! – топнул ногой приказчик, и глаза его гневно вспыхнули. – Сам знаю о том, но завод надо ставить, а кто против этого, тот против царицы-матушки.
– Да нешто мы против государыни идем? – высунулся из народа сутулый старик. Опершись на костыль, он сумрачно разглядывал демидовского приказчика. – Да ты не горячись! Мы на своей земле стоим. За нами мир, а ты сам кто? Что коришь нас и обзываешь возмутителями? От века свой хлеб едим. – Жилистые руки задрожали, он огладил седую бороду. – И ты, приказный, много воли ему даешь! – обратился он к чиновнику.
– Мое дело маленькое: прочел вам указ свыше, да и в сторону! – увильнул приказный. – Не послушаетесь, что прописано, солдат нашлют! Глядишь, дороже обойдется! – По его губам прошла ядовитая ухмылочка.
Демидовский приказчик снова обрел осанку, уверенность.
– Завтра на заре собирайтесь в путь да хлеба поболе берите, чать, свои харчи будут. Вот и весь мой сказ… А тебя, голубь, примечу, – повел он глазами в сторону Ивана. – На словах остер, посмотрим, как в деле будешь!
– Теперь, братцы, по домам торопитесь, сборы чтоб короткие! – предложил приказный, вместе с Селезнем прошел среди раздавшегося народа и скрылся в мирской избе.
Грязнов скинул гречушник, встряхнул головой.
– Ну и пес! Ну и варнак! – бросил он вслед приказчику.
Кручинясь о внезапном горе, крестьяне стайками выбирались из острожка и расходились по дорогам. Над обогретыми вешними полями звенели жаворонки, над мочажинами дымком вились комариные толкунчики: земля ждала пахаря.
А пахарь так и не пришел.
В страдную пору демидовские нарядчики оторвали крестьян от пахоты и обозом погнали за многие версты к приписному заводу. С тяжелым сердцем шли мужики сибирским простором, шли через привольные сочные луга и плодородные земли. Ссыхалась пашня под вешним солнцем, ждала хозяина, а хозяин, проклиная долю, тащился на чужую работу.
Голодные, истомленные, приписные крестьяне после долгого пути наконец добрались до завода.
Тут и началась демидовская каторга…
2
Широко размахнулся Никита Акинфиевич на новой земле. Среди гор он одновременно строил два завода: Кыштымский и Каслинский. Огромный богатый край подмял под себя Демидов, закрепил его за собой межеванием, а на лесных перепутьях и дорогах выставил заставы. Башкиры навечно лишились не только земель, но и права лесовать в родных борах, щипать хмель и опускать невод в озера, по берегам которых испокон веков кочевали их отцы. Как только отшумели талые воды и подсохли дороги, прибыли они к Демидову за обещанным. Почтенные старики мечтали о красных кафтанах, а оголодавшие за зиму ждали угощения. Никита Акинфиевич сам встретил кочевников и провел их в обширные кладовые. Там на стенах висели красные халаты, любой из них просился на плечи. Башкиры обрадовались, кинулись к одежде, стали примерять, прикидывать, который покрасивее.
– Добры, добры, бачка, кафтаны! – хвалили их старики и прищелкивали языками.
– Отменные халаты! – Никита, взяв из рук кочевника одежду, тряхнул ею перед глазами. Как пламень, вспыхнул, заиграл красный цвет. Башкиры от восхищения прижмурили глаза. А Демидов продолжал нахваливать: – Гляди, как жар горят! И в цене сходны: по шесть рублей халат.
Старик-башкирин протянул руку за подарком.
– Э, нет! – не согласился Демидов и повесил халат на стенку. – Эта одежда только за наличные.
Ахнуть башкиры не успели, как кафтаны уплыли из рук: демидовские приказчики быстро поотнимали их и попрятали в сундуки.
– Ну как, по душе, что ли, товар? По рукам, хозяин? – ухмыльнулся Никита.
Башкиры подняли крик:
– Посулено нам отпустить по красному кафтану, так надо слово держать!
– Верно, от своих слов не отрекаюсь, – подтвердил Демидов. – Но того я не сулил, что кафтаны задарма. Где это видано, чтоб свое добро зря кидать? Хочешь, бери, мил-дружок, но рублишки на прилавок клади. Небось за свою землицу отхватили с меня двести пятьдесят ассигнациями. Шутка!
Башкирский старец, приблизясь к заводчику, поднял к небу глаза:
– Там – Аллах! Побойся, бачка, Бога, покарает за обиду!
Никита положил руку на плечо старика:
– Дряхл ты, батюшка, а то я сказал бы словечко… Что Аллах? Господь Бог не построит завода. В таком деле нужны людишки да рублишки. Берешь, что ли, кафтаны?
Приказчик Селезень лукаво усмехался в бороду: своей купецкой хваткой Никита Акинфиевич отменно потешал холопов. Башкиры выли от обиды, плевались, а приказчики скалили зубы.
Понурив головы, кочевники выбрались из кладовой и побрели по берегу озера. Все родное здесь стало теперь чужим, неприветливым. На башкирской земле прочно вырастал завод. В горах взрывали скалы и камень, везли к озеру, где работные мужики возводили прочные стены. В окрестных кыштымских лесах звенели пилы, гремели топоры. В скалах ломали породу, громко о камень била кирка: грохот и шум стояли над землей и лесами.
Перелетная птица – косяки гусей и уток – пролетали мимо, не садясь на озеро.
– Шайтан пришел сюда! – сплюнул старик и махнул своей рукой: – Айда в горы!
Никита засмеялся вслед башкирам.
– Не уйдут, и в горах не укроются, разыщу да в шахту спущу работать! Дай срок окрепнуть, доберусь и до вас…
Кругом кипела работа: ставились первые домны. Клали из дикого камня, скрепляя белой огнеупорной глиной, облицовывали внутри горным камнем, который привозился издалека, от Точильной горы. Тяжелый труд достался демидовским работникам, согнанным на стройку со всей Руси. Демидовские нарядчики заманили многих из тульских оружейных заводов, где имелись умелые мастерки железного литья. Сманивали они умельцев из Москвы богатыми посулами. Из разоренных раскольничьих скитов с реки Керженца, из ветлужских лесов бежали сюда старообрядцы в поисках матери-пустыни. Оседали они в Уральских горах по древним скитам, а отсюда попадали к Демидову и работали горщиками.
Оглядывая просторы, Никита восхищался:
– Эх ты, край мой, край привольный! Одна беда: мало человеку отпущено топать по земле, коротка жизнь. Торопиться надо, людишек сюда побольше…
В этот час раздумья поднялся хозяин на курган и, всматриваясь в даль, заметил на окоеме густые клубы пыли.
– Никак наши приписные из Маслянского острожка идут! – обрадованно вскричал Селезень.
– Слава тебе, господи! – перекрестился Никита. – Дождались, наконец, прибытка в силе. Ну, теперь тряхнем леса и горы!..
3
Длинный обоз, сопровождаемый потными, грязными мужиками, втягивался на заводскую площадку и становился табором. Сибирским крестьянам все тут было в диковинку. Завод был полон дыма и огня. Над домной то и дело вздымались длинные языки пламени. К вершине ее вел крутой земляной накат, крытый бревнами. По накату исхудалый конь, выкатив глаза от натуги, тянул вверх груженную углем телегу. Длинный, отощавший возница, одетый в рваные порты и рубаху, стегал коня ременным бичом, несчастное животное выбивалось из сил.
На вершине домны возок с углем уже поджидали рабочие-засыпки, обутые в лапти с деревянной подошвой. Они торопливо пересыпали подвезенный уголь в тачки и везли его к железной заслонке, закрывавшей жерло домны. От пересыпки угля поднималось черное облако пыли. Потные чумазые работные, как черти, суетились наверху. Вдруг доменный мастер крикнул им что-то, и тогда широкоплечий мужик длинной кочергой сдвинул заслонку. Из жерла домны взметнулись языки пламени, и все, как в преисподней, окуталось зеленым едким дымом.
– Охти, как страшенно! – покосился на домну Ивашка.
– Засыпай калошу! Айда, жарь! – заревел наверху мастер, и на его окрик к огнедышащему пеклу ринулись чумазые с тачками и опрокинули уголь.
– Видал? – окликнул Ивашку заводской мужичонка. – Вот оно, чудо-юдо! Утроба ненасытная, чтоб ее прорвало!
– Преисподняя тут! Эстоль грому и жару!
– Это что! – словоохотливо отозвался мужичонка. – Эта утроба по два десятка телег угля да по десятку руды за раз жрет. Погоди, сибирский, тут горя хватите!.. Ой, никак главный жемон прет! – Заводской ссутулился и юркнул в людскую толчею.
По стану среди приписных проталкивался Селезень.
– А ну, подходи, поглядим, что за людишки! – Он неторопливо снял шапку, вынул лист. – Петр Фляжкин!
Стоявший с Ивашкой козлинобородый мужичонка вздрогнул, выбрался вперед, глаза его беспокойно заморгали.
– Я есть Петр Фляжкин, – тихим голосом отозвался он.
Приказчик окинул его недовольным взглядом, поморщился.
– Был Петр, ныне ты просто Фляжка! – громко отрезал Селезень. – Пойдешь в углежоги!.. Как тебя кличут? – спросил он следующего.
Мужик поднял голову, ответил степенно:
– Яков Плотников.
– Пригож! – оглядел его плечи Селезень. – К домне ставлю! Будешь к огненной работе приучаться… А ты? – перевел он взор на третьего.
– Алексей Колотилов, – спешно отозвался дородный бородач.
– Хорош! На курени жигарем шлю! – расторопно бросил приказчик, и вдруг глаза его заискрились: – А, кого вижу? – слащавым голосом окликнул он Ивашку: – Выходи сюда, милок!
Широкий, плотный парень плечом проложил дорогу к Селезню. Большие серые глаза его уставились на приказчика. Тронутое золотым пушком лицо парня сияло добродушием.
– Я тут! – бесстрашно отозвался крепыш.
– Вижу! – одернул его Селезень; насупился: – Иван Грязной, тебе в куренях кабанщиком быть! Смотри у меня, язык на цепи держи: с вами сказ короток!.. Следующий!
До полудня приказчик сбивал рабочие артели жигарей, определял им уроки. В таборе дымили костры, кипело в котлах хлебово, которое варили сибирские мужики. Урчали отощавшие в дороге животы. Но утолить голод не пришлось. В полдень приказчик привел двух стригалей и оповестил народ:
– Подходи, стричь будут!
– Да это что за напасть? – загудели в таборе.
– Тут тебе не деревнюха, не своеволье, делай, что сказывают! – по-хозяйски прикрикнул Селезень; поскрипывав новыми сапогами, он пошел по табору. – Я тут старшой! – кричал приказчик. – Перед Демидовым я в ответе! Стриги, ребята, вполголовы, бегать не будут!
Стригали большими овечьими ножницами стригли крестьянские головы, оставляя правую половину нетронутой.
– Так, подходяще! – одобрил стригалей приказчик. – Вот эта сторона, ошуюю, – бесовская, ее стриги по-каторжному! Эта, одесную, – божья, ее не тронь! Ну как, варнаки, ловко обчекрыжили? Теперь не сбежишь в Сибирь!
– Мы не каторжные, мы вольные землепашцы, – мрачно отозвался мужик, намеченный к работе у домны.
– И не то и не другое вы! – охотно согласился приказчик. – Ныне вы демидовские, приписные. Запомни это, Яшка Плотник!
Мужик не отозвался. Сверкнув белками глаз, он угрюмо зашагал вслед за другими…
На горке высились новые хозяйские хоромы. Никита Акинфиевич стоял у распахнутого окна и хмурился. Выждав, когда разойдутся приписные, он окрикнул приказчика.
– Ты что наробил, супостат? – строго спросил его Демидов. – Зачем каторжный подстриг учинил над людишками? Тут не каторга!
– Ха! – ухмыльнулся в бороду Селезень. – Каторга не каторга, а так вернее, хозяин. Пусть чувствуют силу варнаки!
Заводчик обвел взором леса и горы, вздохнул:
– Хлопот сколько приспело! Завтра гони всех на работу да отряди к ним добрых нарядчиков, мастерков, доглядчиков, чтобы работали спешно, радели о хозяйском деле.
Приказчик снял колпак, низко поклонился Демидову:
– Все будет исполнено!
4
Всю зиму лесорубы валили лес, пилили саженные бревна и складывали в поленницы. Летом, когда дерево подсохло, началось жжение угля. Жигари плотно складывали бревна в кучи, оставляя в середине трубу. «Кабан» покрывался тонким слоем дерна, засыпался землей и зажигался с трубы. Для куренных мастеров начиналась горячая пора: надо было доглядеть, чтобы нигде наружу не прорывался огонь, иначе беда – уголь сгорит. При летнем зное работному человеку приходилось все время находиться при «кабане». Тление древесины продолжалось много дней. Судя по дыму, кабанщик знал, когда гасить поленницу и разгружать уголь. Выжженный уголь подолгу лежал в куренях. С открытием санного пути его грузили в большие черные короба и отвозили на завод.
Тяжелая, изнуряющая работа была в куренях. Грязнов с однодеревенцами попал на эту лесную каторгу. Приказчик Селезень привел рабочую артель на делянку и пригрозил:
– Старайся, хлопотуны, угодить хозяину! Работу буду принимать по всей строгости. Худо сработаешь, потом наплачешься! А это вам куренной мастер: слушать его и угождать.
Рядом с приказчиком стоял горбатенький человечишка с длинными жилистыми руками. Злые глаза его буравили приписных. Губы его были влажны, мастерко поминутно облизывал их.
«Словно удавленник, зенки вылупил», – подумал Иван и сплюнул от брезгливости.
Горбун сердито посмотрел в сторону парня.
В лесу темной хмарой гудели комары: надоедливый гнус терзал тело. Неподалеку простиралось болото, от него тянуло прелью, грибным духом.
Приписные в тот же день обладили шалаши и принялись за работу. Куренной мастерко неслышной походкой пробирался среди рабочих и ко всему настороженно прислушивался.
– Кормов-то много вывезли из Сибири? – допытывался он и, когда мужики уходили в лес, шарил по котомкам. В полдень он примазывался к работягам и вместе с ними брел к артельному котлу. Расталкивая их, он первым принимался за трапезу. Ел мастерко неопрятно, торопливо.
Мужики соорудили ему шалаш на берегу болота, за большим мшистым пнем. Ночью над болотом стлался гиблый туман, по утрам от ветра он наползал на вырубки. И вместе с ним на ранней заре из шалаша выползал мастерко и взбирался на зеленый пень. Тогда по лесу раздавался его урчащий крик:
– Варрнаки, вставай!.. На рработу порраа!..
В эту минуту горбун с зеленым истощенным лицом походил на страшное лесное чудовище, которое, сидя на пне, пучило глаза, раздувалось и урчало на все болото.
Грязнов плевался:
– Заурчал леший в бучиле! Жаба!..
– И впрямь жаба! – соглашались мужики.
После побудки мастерко падал на колени, истово крестился и клал поклоны на восток.
– Гляди, Богу молится, нечистик! – удивлялись углежоги.
– Ошиблись, братцы! Разве не видишь, водяному кланяется! Беса тешит варнак!
Крестясь на восток, куренной, повернув голову, одновременно кричал через плечо работным:
– Прроворрней, каторжные!..
На каждый день мастерко Жаба задавал тяжелый урок. Сибиряки покорно трудились: от изнуряющей работы на рубахах выступал соленый пот, грязные холсты стояли коробом, однако, несмотря на усердие, работные не выполняли уроков. На душе было хмуро. Кругом беспросветная тайга, лесная земля дышала тленом, древесные раскоряки изодрали одежду, исцарапали тело. Мужики надрывались в непосильной работе, а Жаба еще грозил плетью.
К Ильину дню на лесных порубках были выложены «кабаны», и приписные во главе с кабанщиком Ивашкой разожгли их. Работа стала еще горше. От едкого дыма, копоти и смрада, которые беспрестанно вздымались от тлеющих под дерном дров, у жигарей разболелись глаза, тяжелым и неровным стало дыхание, у многих в груди появилась боль, сильное сердцебиение.
– Чертушки! Духи из преисподней! – горько шутил Ивашка, но от этих шуток и самому становилось тяжело на сердце.
Никогда парень до того не работал жигарем, и все казалось трудным и незнакомым. «Кабаны» часто задыхались, гасли. Днем и ночью Грязнов не сводил глаз с горевшей кучи. По соседству с ним возился Петр Фляжкин – тщедушный мужичонка. Выбиваясь из последних сил, он приготовил «кабан» и запалил его. Огонь то потрескивал в темной куче, выпуская из щели синий дымок, то угасал. И тогда мужичонка взбиpaлся на верх кучи и раскапывал пошире трубу. Дерн под ним разъезжался, Фляжку охватывало дымом. Глаза бедняги слезились, он задыхался.
– Негоже так, Петр, того и гляди в огонь угодишь! – предупредил его Иван.
– А что робить, коли тление гаснет?
Не спавший много ночей углежог сидел, раскачиваясь, не сводя сонных глаз с дымка над «кабаном».
Умаянные мужики улеглись спать, и тут среди ночи произошла беда. В полночь дремавший Фляжкин вдруг открыл глаза и заметил – гаснет «кабан», не дымит сизый дымок.
«Ну, пропал, – ужаснулся он. – Запорет Жаба! Осподи, что же делать?» – в страхе подумал углежог и кинулся к куче. Он проворно взобрался на вершину, руками разгреб дерн и стал выбрасывать поленья, уширяя трубу. Взыграло пламя, разом охватило жигаря, он оступился и со страшным криком упал в огонь.
– Братцы, мужик сгиб! – заорал Ивашка и бросился на помощь. Но жадное пламя уже охватило корчившееся тело…
Набежали мужики, раскидали дымящиеся бревна, извлекли бездыханного Петра Фляжку. По лесу потянуло гарью. Налетел ветер, вздул тлеющие поленья и ярким светом озарил вырубку. Угрюмые жигари стояли над останками односельца.
– Эх, ты, горе-то какое, ни за что сгиб человек? – потемнел Ивашка, и внутри его все забушевало.
Разъяренный убытками, горбун накинулся на жигарей с бранью.
– Это кто же дозволил разор хозяину чинить? Под плети, варнаки! – заорал Жаба.
– Ты что ж, не видишь, душа христианская отошла? – сердито перебил кабанщик.
Мужики подняли останки, понесли на елань.
– Бросай где попало! Сам Бог покарал нерадивого… – размахивая плетью, кричал горбун.
– Ну и мохнатик, много ль его есть, а злости прорва! Придавить – и в болото! – возмутился Грязнов, и вся кровь бросилась ему в лицо.
– Отыдь, Жаба! – крикнул кабанщик и схватил кол.
Мастерко не струсил, псом кинулся на приписного. Быть бы тут жестокому бою, но жигари разняли их и развели.
– Погоди, я еще напомню тебе это! – пригрозил куренной.
Днем томила жара, ночью пронизывала сырость, лезли с болота туманы.
Измученные за долгий летний день, жигари с заходом солнца наскоро утоляли голод и валились на отдых. Сон их был тяжел и беспокоен; как морок, он туманил их сознание. В тяжелом полузабытьи они ворочались, скрипели зубами, ругались.
В эту ночь Ивашка лежал с открытыми глазами и прислушивался к неумолчному лесному шуму. В просветы леса виднелось звездное небо, манило оно простором, но с болота наползали седые космы тумана, клубились и закрывали все. Грязнову казалось, будто лезет из трясин леший и тянет за собой лохматые одежды. Над зыбунами пронзительно заухал филин, и над лесом, над топью прокатился его лешачий хохот. По спине приписного пробежал мороз.
– Фу-ты! Пес тебя возьми! – парень испуганно глянул в темь.
Наутро, не выдержав тяготы, стосковавшись по семье, сбежал дородный богатырь Алексей Колотилов. Недалеко ушел горюн, демидовские заставы перехватили беглого. Приказчик Селезень с заводскими стражниками пригнал Алеху в курень. Тут его раздели донага и прикрутили к лесине. Тучи комаров налетели на живое тело, жалили, наливались кровью.
Стражники намочили в ржавой воде сыромятные ремни и немилосердно отстегали его.
5
Ивашка Грязнов затаил жгучую ненависть к мастерку. По его вине погибал добрый мужик Алексей Колотилов. После отъезда стражников горбун схватил палку и стал добивать истерзанного. Коваными каблуками он изломал ему грудь. Теперь Алеха лежал у костра и сплевывал кровь. Жигари из жалости ходили за ним. Но всем было понятно: не встать больше Алехе на ноги – угасал мужик.
Все нутро горело у Ивашки. Последние дни бродил он как в тумане. Скрипучий голос мастерка бередил его душу. Незримо крадучись, ходил работный следом за своим ненавистным врагом. Подолгу, затаясь, просиживал он в кустах, подстерегая Жабу. Не раз ночью кабанщик подбирался к его землянке, насторожившись, прислушивался к шорохам; из логова горбуна доносился лишь звучный храп.
«Спит, кровосос! Нешто войти и разом порешить мучителя?» – думал он и весь дрожал от темной мысли.
С болота обдавало гнилой сыростью, туман неслышно тянул сырые мокрые лапы. Кабанщику становилось страшно.
Истомленный душевной борьбой, он медленно отступал от землянки куренного. Глухой полночью на лесосеке кричал зверь, ухал филин на болоте, а Грязнов не спал, лежал, разметавшись на земле, широко раскрыв глаза.
«Так пошто я хожу следом, ежели не поднимается рука на гада?» – спрашивал он себя.
Между тем урочное время подошло к исходу. Отощавшие, измотанные непосильной работой, сибирские приписные пережгли все заготовленные поленницы. Однако долгожданная радость не пришла в курень. Жигарей донельзя истомил голод, вся припасенная домашнина давно иссякла, мужикам приходилось подмешивать к мучице толченую кору, добавлять мягкую глину и этим подпеченным месивом набивать чрево. Не брезгали жигари и палыми конями. От тягот и голода в лесном курене возникли хворости, больные маялись животами. А впереди предстоял дальний путь. «Кто знает, придется ли дотянуть ноги до родного погоста?» – с тревогой думали приписные.
А мастерко Жаба шмыгал по куреню, по-своему озабоченный.
– Погоди, варнаки, радоваться, работенка ведь не сдадена! – каркал он. – Может, ни я, ни старшой еще не примем ее. Это как нам поглянется!
Однажды, как всегда, после ужина горбун подошел к кострищу и подсел к старикам. Речи его внезапно изменились: на сей раз он не грозился, а шутками и прибаутками напрашивался на мзду.
– Это верно, что туго вам в лесу доводилось, братцы! – елейным голосом затянул он. – Но то помните, что за битого двух небитых дают. Первая указка, слышь-ко, кулак, а не ласка…
Лето клонилось к ущербу, призадумался лес. Птицы покинули гнездовья, летали стаями – приучались к дальнему пути. Тосковали мужики: «Ушли из дома на Еремея-запрягальника, как там обошлись с пахотой? Знать, осиротевшим лежит поле?» Эти думки, как ножом, полосовали сердце. Угрюмые и несловоохотливые, сидели они у огня. Поверху шебаршил гулевой ветер, слетал вниз и упругим крылом бил в костер. От огня сыпались искры, взметались жаркие языки пламени. Под кустом, освещенный огнем, лежал исхудалый Алексей Колотилов, руки его вытянулись, высохли. Задыхаясь от кашля, он тянулся к теплу. Большие страдальческие глаза укоряюще смотрели на Жабу.
– Через тебя гибну! – пожаловался он.
Горбун не отозвался, залебезил перед стариками:
– Эх, горюны вы мои, горюны, о чем призадумались? По дорожке, поди, стосковались, а то забыли, что не подмажешь колеса, не поедешь…
Мастерко прижмурил наглые глаза, усмехнулся.
– А где ее взять, подмазку? – отозвался старик-жигарь, задумчиво глядя в огонь.
– Денежка – молитва, что острая бритва, все грехи сбривает! – гнул свое горбун.
– Уйди! – крикнул Алеха, и на губах его показалась кровавая пена. – Уйди, дьявол, мало тебе наших мук! – Глаза истерзанного лесоруба зло уставились на ненавистного мастерка.
– Ой ли! – не сдался, ехидно ухмыльнулся горбун. – Кто там еще голос подает? Грех в мех, а сам наверх! То разумей, валет, захочешь добра, посей серебра…
– Ты вот что! – поднялся из-за костра седобородый степенный жигарь. – Впрямь, уйди от греха подале! У всех уже на сердце великая смута накипела…
Он не докончил, глаза его зловеще вспыхнули. Чтобы скрыть свое волнение, он отвернулся и пошел прочь. Пораженный страстной ненавистью, горбун отшатнулся.
– Ну и народ! Ироды! – покрутил он головой. – До чего жадные, по алтыну с рыла им жалко. Ишь как!.. – Он юркнул на тропку, укрытую молодыми елями, и засеменил к себе в землянку.
На другой день приехал Селезень с дозорным. На нем была новая поддевка и шапка с малиновым верхом. Налетевший ветерок парусом раздувал его черную бороду. Шел приказчик чуть подавшись вперед животом, за ним топал низкорослый щербатый дозорщик. Словно из-под земли перед ним вырос мастерко и засеменил рядом.
– Ну как, покончили жигари с работенкой? – весело спросил его Селезень.
Приблизясь к приказчику, Жаба что-то зашептал ему. Мужики стояли тихие, молчаливые. Селезень окинул их пытливым взглядом.
– Не тяни, показывай работу. Кто тут у вас за артельного? – спросил он.
Вперед вышел степенный старик и поклонился приказчику.
– Нет у нас артельного, побили его, батюшка, теперь исходит хворью. Один тут и есть за старшего. Он, батюшка! – приписной показал на мастерка.
– Добро! – обронил Селезень и бодро зашагал вдоль угольных куч.
Кругом простиралась лесная вырубка да мелкие изломанные кусты. У ручья в молодой поросли паслись кони, стояли телеги.
– В дорогу, стало быть, собрались, – усмехнулся приказчик. – А с мастерком разочлись? Кто за вас первый хлопотун тут? Мастерко! – по-хозяйски сказал Селезень. – Кто за вас передо мной в ответе? Мастерко!
Лохматые, оборванные приписные с обнаженными головами тянулись за приказчиком.
– Так, батюшка, мы свое отробили! Вот и уголек выложили, – засуетился старик.
– Уголек выложили! – подделываясь под тон, сказал приказчик и схватил саженку. – Добро, ой добро, хлопотуны-работнички! Сейчас прикинем, сколь сробили… А это что? Пошто уголь сырой? – вгляделся он в кучи.
– Так мы гасили. Просохнет ноне! – встревожились мужики. – Так и должно быть!
– Сам знаю! – вдруг остервенился приказчик. – Кто вам дозволил? Как на завод ставить эту грязь? – Он ткнул ногой в кучу. – Сказывай, варнаки!
Селезень выхватил из рук мастерка плеть, темной тучей надвинулся на жигарей. За спинами их притаился Грязнов. Кипел он, но сдерживал себя. Плечи парня за лето раздались вширь, лицо окаймляла золотистая бородка. В больших серых глазах погас озорной огонек.
«Покричит, полютует кровосос да угомонится, а там и домой двинем!» – успокаивал себя кабанщик.
Но не тут-то было: Селезень топнул ногой и закричал мастерку:
– Работа не доделана, зря меня встревожили! Кучи не так выложены, притом маломерки. Уголь мокрый, не просушен! Сечь варнаков! Дожить брюхом на пень и сечь! До той поры сечь будем, пока брюхом пня до земли не загладят! Слыхали, варнаки? – Он свистнул плетью. Однако накинуться на мужиков не посмел, круто повернулся и заторопился к бегункам. Мастерко остался на порубке. Уезжая, приказчик крикнул:
– В поучение пусть корчуют пни! Ныне оборуженных пришлю, порядок тут навести! – Он натянул вожжи и огрел плетью коня. По елани загремели колеса; Селезень умчался в Кыштым.
Встревоженные, растерянные приписные вечером собрались у костра: «Как тут быть? И без корчеванья в могилу ложись и умирай!» Над лесом навалилась тьма, неуемно гудел ельник. Опустив головы, хмурые сидели жигари в глубоком раздумье. Костер то вспыхивал, то мерк. Раскаленные угли подергивались синевой.
– Что же делать нам, братцы? – вымолвил, окинув всех взором, старик.
Никто не отозвался. Молчал лес, потрескивал огонь. Среди наступившей тишины, оттуда, где всегда лежал Алеха, раздался голос:
– Бежать, братцы, надо!
Жигари оглянулись на говорившего. По желтому истомленному лицу Алехи ползли слезы.
– Богом заклинаю вас, братцы, не покидайте меня тут…
Он поник головой и, замолчав, опустился на лесное ложе.
– Пустое он мелет! Ну куда вам уходить? Аль удумали быть битыми? – раздался вдруг тихий вкрадчивый голос. Из кустов показалась косматая голова мастерка, злые глаза его пристально разглядывали мужиков. – Ну куда вы убежите? – нагло переспросил он. – Кругом дозоры. Я вам сказывал, что будет, а вы не послухали, ась? – Он ящеркой выбрался из кустов и отряхнулся.
– Оборотень! – с презрением крикнул Алеха. – По кустам, кикимора, ползаешь, подслушиваешь!
В эту минуту шумно раздвинулись кусты, из них вышел Ивашка и жилистыми руками сгреб Жабу.
– Ты чего тут, зверюга? – Парень смертной хваткой прижал мастерка к себе.
– Братики, ратуйте! – заверещал горбун.
– Молчи, поганец! – Сильным махом кабанщик поднял его над головой и кинул в костер: – Гибни, тварь!
С треском взметнулись золотоперые искры. Над лесом взвился дикий вой. К темному небу поднялся яркий пламень; охваченный огнем и гарью, из него выкатился воющий клубок и помчался к болоту.
– Утонет, окаянный! Что ты наделал, парень! – укоряюще посмотрели односельцы на Грязнова.
– Туда ему и дорога! – переводя дыхание, отозвался Ивашка и заторопил народ: – Живо, братцы, собирайтесь в дорогу! Уходить надо!..
6
В непроглядную темень по глухой лесной дороге тронулся мужицкий обоз из демидовского куреня. Торопились приписные уйти от напасти. Еле тащились истомленные кони. Как ни скрытно уходили жигари, однако на реке Кыштымке у брода встретила их демидовская вооруженная ватага. Крестьяне двигались мрачные, решительные, держа наготове топоры и дреколье. Заводские дозорщики полегли за рекой и перегородили дорогу. То ли они устрашились грозной мужицкой силы, то ли от Демидова приказ был дан не дразнить первых сибирских приписных, но только они вступили с ними в затяжные переговоры. Сами же той порой послали гонца с вестью в Кыштым.
– Куда побегли, родимые? – закричал из-за реки чубатый казак, старшой дозора. – Вертайтесь лучше, пока всех не перестреляли!
– А у нас топоры и дубье, только суньтесь! – откликнулся Грязнов.
– Демидов сюда драгун пришлет, порубят вас! – грозил казак.
– Лучше смерть, чем демидовская каторга! – огрызался Ивашка. – Сторонись, лапотник, дай дорогу!
– Чалдоны! Пимокаты! – надрывался чубатый.
– Чалдоны, да ядрены! – не унывая, кричал кабанщик. – А ты кто? Отец твой онуча, мать тряпица, а ты что за птица?
Над лесом поднялось солнце, засверкали росистые травы. Над рекой растаял легкий туман. Демидовская стража поглядывала в сторону завода, ждала вестей. Приписные раскинулись табором у реки. Исхудалый остроносый Алеха лежал на возу и задумчиво смотрел в синюю даль. Над головой раскинулся безоблачный простор; по земле пробежал теплый ветер, покружил над рекой, взрябил воду и пронесся дальше…
«Кабы домой, на родную Исеть!» – с тоской подумал Алеха и поглядел на дорогу. Там в клубах пыли скакал всадник.
– Братцы, из Кыштыма мчит! – крикнул Алеха.
Мужики повскакивали на возы. У всех была одна думка:
«Что-то теперь будет?»
Затаив дыхание, они следили за быстрым конником. Вскочили и дозорщики, нетерпеливо поджидая своего.
Спорым, широким махом несся башкирский конь. Проворный всадник с разгона молодецки осадил коня на крутом яру. Скинув с мокрого лба шапку, он закричал мужикам:
– Братцы, жалует вас Никита Акинфиевич дорогой! Просит только в обереженье покоя выслать старшого. А как вышлете, тогда идите с богом, мы не помеха!
В крестьянском таборе шумной волной прокатилось оживление. Алеха умиленно поглядел на вестника, глубоко вздохнул:
– Слава те, господи, доберусь до родных мест! – Он обежал табор глазами, обронил: – Кого ж слать к Демидову, как не Ивашку, смел, упрям и умен он!
Всем по душам пришлась эта мысль. Хоть и жалко было парня, но степенные бородатые сибиряки поклонились Грязнову:
– Знаем, что просим тебя на горесть, не верим мы заводчику, но как быть, если беда за горло хватает? Пострадай за мир, парень!
Тяжело было землякам расставаться с проворным и смелым парнем, но тянулось сердце к родному дому, к милому полю, к привычной голубой речонке. Понял Ивашка, что творится у приписных на душе, вздохнул и поклонился, миру:
– Быть по-вашему, отцы! Один-одинешенек живу я, как трава при дороге, никто по мне не заплачет. Не забудьте и вы меня в случае беды!
Приписные сняли шапки и долго глядели, как он переходил вброд речонку, как отдался демидовским холопам. Те усадили его на коня и повезли в Кыштым.
Демидов сдержал слово: за уходящими приписными не было погони. Позади лежала пустая темень, ненавистный завод, и оттуда все глуше и глуше доносился сторожевой собачий лай.
Связанного кабанщика заводские приказчики приволокли к Демидову. Парень был высок, силен. Оглядывая его решительное лицо, золотистую бороду, Никита, нахмурив черные брови, спросил:
– Это ты поднял народ?
– Я! – бесстрашно ответил Ивашка.
– Храбрый больно! – недобро усмехнулся хозяин. – До сей поры рогом землю роешь!
– Пошто сверх положенного срока пахарей держишь? Свои нивы осиротели, поджидают трудяг! – Парень не опустил смелых глаз перед Демидовым.
Никита взглядом подозвал Селезня.
– Сего молодца убрать на шахту! – указал он на Ивашку. – В силе холоп, только руду ему и ломать!
– Не смеешь! – рванулся к заводчику Грязнов, но крепкие руки приказчиков удержали его.
Хозяин уперся в бока.
– Демидовы все смеют! – сказал он холодно. – Отвести его на рудник!
На другой день побитый, притихший Ивашка попал в шахту.