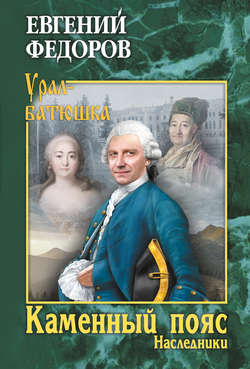Читать книгу Каменный Пояс. Книга 2. Наследники - Евгений Александрович Федоров - Страница 8
Часть первая
Глава седьмая
Оглавление1
Люди прокляли это место: кругом взгромоздились голые скалы, в каменистых трещинах нашли себе приют лишь плакучие березки да горькие осины. Под угрюмой скалой – нора, по ней каждый день, ссутулясь, пробирались рудокопы к своим забоям. Среди нависших красно-бурых глыб кажется Ивашке, что его навеки схоронили живьем глубоко в черную бездну и ему никогда-никогда не выбраться из нее. Трепетный свет лучины слабо освещает уголок каменной гробницы; неровные стены, изъеденные бугры, по которым неслышно сочится подземная вода. Кабальному стало страшно, в тоске сжалось сердце.
– Гляди, как вода камень точит! – сказал он старику-рудокопщику. – Отколь только она взялась тут?
– Это мать сыра земля по нас плачется. Томимся мы тут на работе непосильной, голодуем, холодуем, она, сердешная, и жалится. За нас ей скорбно. Слезы точит она, точит…
Горщик смолк, пристраиваясь в забое. На мгновение наступила гнетущая тишина, в густой тьме, отмечая вечность, одна за другой со звоном монотонно падали капли в невидимую лужицу. Старик положил рядом кайло и спросил Ивашку:
– Ты, парень, видать, впервые под землей? Ничего, привыкай, ко всему привыкай: к горю, к кручине, к слезам земным! Бывает, что и людей заливает тут… Как звать-то?
– Иваном.
– Хорошее имечко. А меня кличут Данилкой. Чуешь, парень?
– Чую, – отозвался Ивашка, согнулся и полез в забой.
Весь день он ожесточенно бил кайлом в кремнистую породу, бил неотступно, упрямо, словно хотел пробить себе дорогу из могилы. Скинул намокшую от едкого пота рубаху. Но и жаркая работа и глухой стук кайла не могли отвлечь его от мрачных дум. Слишком грозен и душен мрак. Крохотный глазок огня сиротливо томился среди каменных громад, предвещая беду. Железными острыми изломами поблескивала растущая груда руды. Кто-то черный, невидимый, с хриплым дыханием бросал ее в тачку и отвозил. Время тянулось медленно. «И когда наступит конец этому проклятому колдовству? И выберусь ли когда-нибудь на волю?» – думал Ивашка.
Усталость, как яд, разливалась в натруженных членах, в крови. Оцепенение леденило тело. Изломанный, ослабевший забойщик к концу дня выбрался из шахты. Он бросил наземь кайло и упал на траву. Грудь не вмещала хлынувшего могучего потока свежего воздуха: рудокопщик задышал часто-часто, закружилась голова, а глаза не могли оторваться и наглядеться на мир, на заходящее солнце, на широкую зеленую понизь, на которой стрижи с веселым писком чертили вечернее небо.
– Ну, вставай, парень, пора! – раздался над ним знакомый голос старого горщика.
Черные, угрюмые, рудокопы тронулись друг за дружкой к поселку. Ивашка пошел следом. Впереди и позади кабальных шли рудничные мастерки.
В темнеющем небе зажглись первые звезды. Над казармой редкими витками тянулся дымок – готовили ужин. Где-то поблизости в чахлых кустах в сумеречной тишине прозвучало ботало, одинокая буренка неторопливо брела к человеческому жилью.
– Эх, и жизнь горькая! – вырвалось у старика Данилки, и плечи его опустились еще ниже…
День за днем потянулась маета подневольного рудокопщика Ивашки Грязнова. И каждый раз перед спуском под землю тоскливое чувство сжимало сердце горщика; из черного зева шахты всегда тянуло леденящим холодом. В эту темную сырую пропасть нехотя уходили люди. Ивашка огрубел, мускулы стали словно литыми; в лицо въелась порода, только бородка гуще закурчавилась да на лбу пролегли глубокие морщинки от дум. Ночами в тесной рабочей казарме в спертом воздухе рудокопы на короткое время забывались в тревожном сне. Многие бредили, и во сне не покидали их муки, тяжелый кашель колыхал грудь.
Ивашка приглядывался к горщику Даниле. Благообразен, терпелив старик. Он, как пень, оброс мохом, могучими узловатыми руками вцепился в землю.
– Откуда ты? – полюбопытствовал молодой рудокоп.
– С Расеи беглый. Убийца, свою женку порешил и сюда на Камень хорониться прибег. Вот и ухоронился в демидовской могиле. Горюном стал! – охотно поделился с Ивашкой старик. Речь его была спокойна, незлобива, а глаза ясные, как небо в закат.
– За что ж ты ее? – помолчав, спросил парень.
– Бабу? За измену, не стерпело сердце, пролил кровь внапрасне!
И то дивно было Ивашке, что, неся расплату за кровь женки, никогда Данилка не клял женщин, не ронял про них грязных слов.
– Женщина велика сердцем, а мужик перед ней слабодушен. Каждого человека мать родила. Разве можно хаять родную мать? Неуместно, парень, дурное слово про родимую плесть… Бывает и так – добрая баба и телесной силой мужика превышает… Скажу тебе один сказ…
Старик приподнялся на жестком ложе.
– Уральскую бабу не возьмешь ни силой, ни страхом. Ее вода не берет и зверь обходит. На Камне баба прошла великое горе и стала крепкой, особых статей человек. Когда-либо слышал про камскую Фелисату? Нет? Эх, жалость! Великая атаманша была, слухом наполнила горы…
Горщик примолк, нахмурился, приводя в порядок мысли, и продолжал свою быль:
– Давным-давно на лесном Усолье жил один поп, было то назад лет сто, а может, и поболе. Женился этот поп на своей работнице, из Орла-городка пошла она к нему в услужение. Девка была кремень, красивая, глазастая, а силы такой, что раз переоделась парнем да на бой с солеварами вышла. Тогда в Усолье по праздникам кулачные бои бывали. Пристала она к партии, которая послабей, и всех покрушила. Увидел это поп и прилип, женился на ней. Человеку все мало, бес его на ссору толкает, часто поп забижал женку. Только терпела-терпела Фелисата, да размахнулась и ушибла попика, угомонила навек. Ну, похоронили попа с честью, хотели было Фелисату взять, не далась, кто с такой силищей справится? Тут стрельцов пригнали, сонную забрали, посадили… Что ты думаешь? Она, слышь-ко, в ту же ночь высадила ворота в остроге, сама ушла и всех колодников за собой увела. Вот тебе и баба!..
Данилка закопошился в своем тряпье, на стене качнулась его огромная лохматая тень. В оконный проруб заглянула робкая звездочка. Ивашка торопил:
– А дале что?
– Потерпи, дай помыслить. – И снова зажурчала неторопливая речь горщика: – В ту пору на Каме у самого Усолья стояла большая строгановская ладья. Села Фелисата с колодниками в ладью, отвезла их в Орел-город и отпустила на все четыре стороны. «Идите, братцы, промышляйте гулящим делом. Кладу вам завет: воевод и купцов хоть в Каме топите, а мужика не трогать! А кто мужика тронет, того не помилую!..» Сказала и ушла. А в Орле-городке подманила она двух сестер своих, девки могутные, в красе орлицы, перерядились парнями, раздобыли доброго оружия и стали по всей Каме-реке плавать… А где, слышь-ко, узнает, что есть сильная баба или отважная девка, сейчас Фелисата к себе сманит. Так и собрала она большую да грозную шайку, баб с полсотни у ней было. Нашли они себе пещеры потайные, изукрасили персидскими коврами да дорогой утварью и положили промежду себя зарок, чтобы добычу делить поровну и в стан свой мужиков не пускать, жить без соблазну. Э, вон как!.. Что-то бок ломит, недужится мне, – вздохнул старик и заворочался в своем логове.
Огонек в каганце то вспыхивал, то погасал. Робкая звездочка заметно отошла от оконного проруба. Ивашка сидел на жестких нарах, повесив голову.
– Ну что загорюнился, бедун? Слушай дале! – ободряюще сказал горщик и продолжал свою бывальщину: – А в той поре, слышь-ко, из Сибири караван с царским золотом по Каме шел. Проведала о нем Фелисата и на легких стругах кинулась по следу. Под Оханском нагнала, перебила всех стрельцов, что с караваном шли. Из Оханска поспешила царским слугам помощь, Фелисата помощь отогнала, а оханского воеводу на берегу повесила. Забрала награбленное и ушла в свои потайные пещеры… Пять годков бушевала Фелисата, ни купцу, ни царскому приставу ходу на Каме не было. Ежели кого начальство либо хозяева обижали, сейчас к ней шли. Она уж разбирала спор по всей правде. Одного князя как-то за обиду крестьянскую высекла розгами, а кунгурского купца, так того вверх ногами повесила. В Сарапуле вершил всем воевода один, ладился поймать ее. Все своим служакам, приказной строке, похвалялся: «Настигну да запру ее в клетку железную!»
Прослышала Фелисата похвальбишку воеводы и сама средь темной ночи наехала к нему. «Ну, запирай, – говорит, – посмотрю я, как ты с бабой один на один совладаешь».
А у воеводы от страха язык отнялся. Только потому, слышь-ко, она его и помиловала. Раз узнала она, что на Чусовой проявился лихой разбойник и себя за ее выдает. А разбойник-злодей этот больно простой народ обижал. Не стерпело ретивое, послала она к нему свою подручную: «Ой, уймись, лих человек, пока сердце мое злобой не зашлось». А подручная-то на беду была, слышь-ко, красавица писаная, пышная да синеокая. Разбойник не пожалел – обидел девку. Тут и поднялась сама Фелисата, повела за собой бабью вольницу и вызвала его на открытый бой. На Чусовой они и дрались. Два дня крепко бились, вода заалела от крови; на третий день одолела она злодея. Тогда собрала на берегу всех крестьянишек, кому разбойник обиду нанес, велела принести на широкий луг большой чугунный котел, связала поганца и живьем сварила его в том котле. И стали все ее бояться и уважать. И я там, слышь-ко, у ней был, мед пил, по усам текло и в рот перепало! – неожиданно оборвал свою байку старик и улыбнулся глазами. – Чур, меня ко сну клонит, старые кости гудят…
– Стой, погоди! – схватил за руку горщика Ивашка. – Не увиливай, скажи, что стало с Фелисатой-девкой?
– Что, хороша баба? – ухмыльнулся Данилка и огладил бороду. – Людская молва сказывает, под старость покаялась девка, в Беловодье ушла, там монастырь поставила и сама игуменьей стала. Другие гуторят, на Волгу ушла, Кама тесной ей показалась. А кто знает, что с ней? Может, и сейчас жива, такие могутные, слышь-ко, по многу веков живут… Ага! – кивнул старик. – Ишь ты, сверчок заиграл!..
Он улегся, укрылся тряпьем и быстро отошел ко сну, а Ивашка все сидел, думал, на сердце его кипела неуемная ненависть к Демидовым, искала выхода. Огонек мигнул и угас, в подполице заскреблась мышь, а думки, как тучки, бежали одна за другой, тревожили сердце. Полночь. На заводе ударили в чугунное било. Звук, как тяжелый камень, упал во тьму, и от края до края ее побежали круги… За оконным прорубом задернулся синий полог неба. Из темных углов казармы вылезли неясные тени. Горщик отвалился на спину и уснул…
2
Горюн Данилка занемог, старость да каторжная работа сломили крепкую, неподатливую кость. Горщик слег, не вышел на работу. Приказчик Селезень доложил о том Никите Акинфиевичу. Демидов нахмурился, сам наехал в рабочий закуток. Горщиков выстроил в ряд. Хозяин пытливо оглядел их.
– Притащить Данилку!
Два досмотрщика приволокли старика. Горщик опустился перед хозяином на колени.
– Почему на работу не вышел? – грозно спросил Никита.
Старик покорно склонил голову, прошептал запекшимися от жара губами:
– Хворь одолела, хозяин. Из сил выбился, видно, остатние отошли… Ох, смертушка…
– Не притворяйся, старый оборотень! – прикрикнул заводчик. – Ката сюда!
Данилка прошептал:
– Бога побойся, хозяин! Хвор я и немощен… – Глаза старика были печальны, вид – скорбный.
Демидов не отозвался. Заложив руки за спину, он не спеша прошелся перед фрунтом работных.
– Построить улицей, да по вице каждому! – кивнул Никита Селезню.
Ивашка стиснул зубы, однако вместе с горщиками построился в «улицу». Во двор въехала телега, нагруженная доверху лозняком. Рядом с ней шествовал заводский кат – плечистый варнак с дикими глазами. В недавнюю пору привез его Демидов из отцовской вотчины Тагила.
«Пусть привыкают к демидовским обычаям, – рассудил Никита Акинфиевич. – Холоп да беглый только боя и страшится!»
Глядя на ката, молодой горщик весь затрепетал. Рудокоп, сосед по забою, незаметно сжал Ивашке руку, шепнул:
– Ты, парень, не трепещи. Обвыкай! Против силы не супротивься. А будешь идти поперек – ребра поломают! – Он угрюмо поглядел на Ивашку, на его чумазом лице блеснули белки глаз.
– Не буду я бить! – тихо, но решительно отозвался молодой горщик. – Пусть лучше убьют, а псом не буду!
– Ну и убьют. А ты тише!.. – предупредил рудокопщик.
Кат схватил Данилку за шиворот и одним махом сорвал ветхую, рваную рубаху; он легко вскинул старика себе на плечи и подошел к хозяину.
Рудокопам дали по лозе. Селезень, вручая вицу, поучал:
– Бей наотмашь от всей силы! Недобитое сам примешь на свою спину.
– Начинай! – нетерпеливо крикнул Никита и захлопал в ладоши: – Раз-два… раз-два…
Медленно ступая, кат пошел по живой улице. Угрюмо опустив глаза, горщики друг за дружкой наотмашь опускали вицы на костлявую спину старика. Она мгновенно очертилась белыми рубцами; они бухли, наливались кровью.
Старый Данилка незлобиво крикнул товарищам:
– Умираю, братки, не выдержу!..
Никто не отозвался. Безмолвствовал и Грязнов. Только сердце его гулко билось в тишине, словно рвалось на волю. Чем ближе размеренный шаг ката, тем сильнее стучит сердце.
Рядом послышалось сопение, медленный шаг ката оборвался подле Ивашки. Кат злобно глянул горшику в лицо:
– Ну, что не бьешь? Не задерживай!
– Не буду! Пошто над стариком издеваетесь? – истошно закричал парень и бросил вицу под ноги кату.
Полуобнаженный старик с поникшей головой вдруг ожил и простонал:
– Бей, Иванушка! Мне все едино, а тебя жаль…
На лбу у молодого горщика выступил пот. Не помня себя, он рванулся вперед, но тут дюжие приказчики схватили его за руки.
– Пусти, пусти! – кричал Ивашка. – Все равно не дамся!
Демидов подошел к нему и, не повышая голоса, сказал:
– Не даешься, супостат? Петухом запоешь! Двести всыпать!..
Схваченный, зажатый в сильных руках, горщик задыхался от переполнявшей его злобы к хозяину. Он рвался из крепких рук; сильный горщик тянул за собой приказчиков…
Между тем стоны старика становились все глуше и глуше. Когда кат вернулся тем же медленным, степенным шагом обратно по живой улице, Данилка лежал на его спине – неподвижный, молчаливый.
Палач положил тело у ног заводчика.
– Никак не выдюжил! – удивился тот. – Отошел, ишь ты! – покрутил головой Никита и перекрестился: – Прости, Господи, его тяжкое ослушание… А парня проучить хлеще. Я из него вольный дух вышибу…
Ивашку вскинули на спину ката и повязали руки-ноги. Дюжие приказчики придерживали его.
Не от боли, от жгучей обиды зашлось сердце горщика: свои работные хлещут. Он вспомнил былые Данилкины наказы: «Тут, братик, слышь-ко, за каждую противность бьют, – поучал старик. – Ежели доведется тебе, распусти тогда тело. Пусть дряблится, как кисель…»
Провели раз по живой улице – Ивашка помнил все. Второй пошли – вокруг заволоклось туманом. В третий – парень обомлел. Бесчувственного, его бросили на истоптанную землю.
– Водой отлить! – скомандовал Демидов. – Этот еще молод, оберечь надо, для шахты надобен…
Приказчики отлили Ивашку, привели в чувство. Никита пригрозил рудокопщикам:
– Вот куда болезнь влечет! У меня чтобы хвори не было!
Горщик Грязнов после боя на третий день поднялся и по приказу Селезня спустился в шахту. К телесной боли прибавилась и душевная. Узнал рудокопщик: замученного Данилку кат сволок за ноги в перелесок и зарыл без домовины, без креста в землю.
– Ровно пса! – сокрушался Ивашка.
В темные ночи тайком он сладил восьмиконечный крест и водрузил его на могиле друга. Горшик поклонился праху Данилки и затаил еще пуще злобу на хозяина.
3
Однажды к Ивашке в забои перевели рослого парня.
– Робь, да сторожко! – предупредил его он.
Парень молча бил породу. Ни слов, ни песен у обоих не находилось. Так прошла неделя, горщик стал привыкать к молчаливому парню… И тут стряслась напасть: тюкнул сосед в породу – под кайлом зашумело, оторвалась грузная глыба и осела рядом с горщиком, чуть не придавила его. Обозленный Ивашка поднялся, крепко зажал в руке кайло, подполз к неосторожному рудокопу.
– Ты что ж, удумал захоронить меня тут? – в его голосе кипело раздражение. Он подобрался к рудной осыпи. Из-за нее высунулась лохматая голова, на густо вымазанном землей лице блеснули большие глаза.
– Ахти, грех какой! – тонко выкрикнул парень.
– Эй, берегись, ожгу! – сердито закричал Ивашка и сгреб парня за грудь. Кровь ударила в лицо горщика: «Девка! – ахнул рудокоп и присел на глыбу. – Как же так?» Он во все глаза с изумлением глядел на молодку. Как только он на заметил раньше! Лицо у молодки круглое, волосы светлые, перемазанные рудой, плечи широкие. Крупна и красива девка.
– Да как ты тут появилась? Уж не оборотень ли? – нахмурился горщик.
– Ну что я теперь делать буду? Куда укроюсь? – загорюнилась девка, и по ее щекам покатились крупные слезы.
Ивашка присел рядом с ней, заглянул в ее большие глаза, угадал тревогу. Сердце его отошло. Он положил ей на плечо руку и задушевно сказал:
– Ты, девка, не бойся! Поведай, кто ты? Уж не Фелисата ли?
Рудокоп впился взором в сероглазую и вдруг поверил в сказку: «Уж не про нее ли сказывал старый горщик Данилка?»
– Нет, не Фелисата. Аниска я!
– Так! – тяжко вздохнул горщик, но волнение не покидало его. – Что за горе-беда загнали тебя под землю, в темь кромешную?
– Ох, не спрашивай про мое горюшко! – Девка притихла, утерла слезы. – Известно, бабья доля! Сирота я, а дядья житья не давали, понуждали замуж за старого. Порешила я лучше живой в могилу, чем со слюнявым век вековать!
Как червоточинка, в сердце Ивашки просочилась внезапная ревность.
– Аль дружка заимела? – волнуясь, спросил он.
– Ой, что ты! Никого в целом свете! – с жаром отозвалась она и придвинулась ближе. – Христом молю тебя, не губи меня! Никто тут не догадывается, кто я!
– Не бойсь! – уверенно сказал Ивашка. – В обиду не дам и про все смолчу.
Огонек погас, и они долго сидели во мраке, вспоминая зеленый лес и вольную жизнь.
С этой поры у них началась тайная дружба, работали они в забое вдвоем спорко. Нередко после работы они вылезали нагора и ложились на камни, любуясь лесами, понизью, среди которой прихотливо вилась Кыштымка. От дневного жара камень был еще теплый, и воздух ласкал лицо. За дальними озерами в тайгу погружалось солнце, небо пылало пожаром. Устремив взор в безбрежную даль, они жадно дышали и не могли надышаться живительным запахом полевых трав и цветов. Никто не мог бы и помыслить, как жарко бились их сердца. По-иному теперь смотрела в прорубь окна темно-синяя ночь. Знакомая яркая звездочка в обычный час проплывала мимо, струилась голубым светом, проникала до самого дна человеческой души. И лес стал иным, дышал ароматом в окно.
Через каждые полчаса у заводских ворот караульщик отбивал время в чугунную доску, и теперь Ивашка ждал с нетерпением часа, чтобы побыть вместе с Аниской.
Над землей пролетел знойный июль, среди жмурого леса на елани пышным ковром цвели мятлик, медунка, багульник, звери хлопотливо бродили с выводками. Над долинами струился золотистый свет. Все радовалось жизни; радость, скупая и робкая, проникала даже под землю. Аниска часто вздыхала и задумывалась.
Кайло глубже врезалось в землю, а капели звучали чаще, обильнее. Тяжелые пласты сочились спорким дождем. Под ногами хлюпала стылая вода. Горщики копали отводы, но вода не спадала. Она накапливалась в глубоких выбоинах, журчала по стенам шахты, часто низвергалась потоком из невидимой щели.
Аниска в тревоге говорила горщику:
– А как да хлынет в шахту, сгибнем тогда?
– Я то ж чую, что идет беда! – согласился Ивашка и, припав плечом к девке, зашептал жарко: – Быть потопу, но нам это на пользу надо оборотить! Как хлынет, суматоха будет, тогда мы и уйдем в горы, слышь-ко, Аниска…
– Милый ты мой! – жарко прошептала она и, сами того не ожидая, оба крепко обнялись.
Когда оторвался Ивашка от радостной ласки, улыбнулся:
– Их, зелено! Даже в могилке, слышь-ко, любить можно крепко.
Аниска укрыла лицо рукавом, только большие чистые глаза горели, как огоньки…
4
В один из дней невидимые коварные воды промыли ход и с шумом устремились в шахту. Злобясь на тесноту и темь, воды яростно кидались на стены и развороченные пласты, швыряли на пути людей, губили их, заливая и перегрызая дорогу к спасению.
Страшные крики огласили земные недра:
– Братцы, ратуйте! Погибаем!..
Теряя рассудок, рудокопщики мчались по темным норам, а буйная кипень настигала их. Схватившись за руки, Ивашка и Аниска устремились к выходу. Они первыми выбрались из проклятой топи. К шахтам бежали встревоженные люди, выли бабы.
Горщик с подругой укрылись за камни, проползли в кусты и там просидели дотемна. Над заводом беспрерывно били в колокол, суетились люди. Из шахты выбрались отдельные горщики, многие тут же пали на землю. В ушах Аниски все еще стоял зловещий шум воды, полные предсмертной тоски крики людей. Она прижалась к любимому:
– Ой, как страшно, Иванушка!
Он бережно обнял ее:
– Страшно, а думать о том некогда. Надо выбиться нам в горы, Аниска. Люди подумают – утопли, и сыска не будет…
– С тобой хоть на край света!
С гор шли вечерние тучи, угасал закат, и над землей сгустились серые тени. Близилась ночь. За плотиной, за черными рощами вспыхнул огонек в хоромах Демидова.
Когда тьма окутала горы, завод, поселок, Ивашка встал, потянулся и сказал девке:
– Ты поджидай, я скоро вернусь!
Аниска осталась одна; каждый хруст ветки, внезапный шорох тревожили ее. От озер плыла прохлада. Лось – семизвездье – золотыми копытцами взбирался в синеву неба. Может, и часа не прошло, – в густой тьме в Кыштыме вспыхнуло и зацвело жаркими цветами пламя.
«Пожар!» – испуганно подумала Аниска, и страх охватил ее.
Во мраке зловеще поплыли тяжелые удары набата. По тому, в какой стороне прыгали и бесновались остренькие красные язычки пламени, Аниска догадалась – горят демидовские хоромы.
«Что с ним? Не приключилось бы напасти!» – с тревогой подумала она об Иванушке.
На каменистой тропе, бегущей от завода, послышался невнятный конский топот. Он нарастал с каждым мгновением. Всадник скакал в горы, близко зацокали подковы.
«Гонец мчит с завода!» – догадалась Аниска и припала за куст.
Стук копыт оборвался рядом, всадник свистнул, и по кустам прошелестел еле слышный зов:
– Аниска!..
Она выбралась на тропу, горщик подхватил ее и усадил позади. Девка прижалась к широкой его спине, обняла его крепче и затихла.
Заглушая топот, в лесу шумел ветер. Крепким смолистым духом дышала тайга. Вверху среди звезд по темно-синему небу катился золотой месяц. А внизу, на глухой тропке, в неизвестность уходили беглецы.
Днем среди скал, где в тишине зеленых мхов бормотал падун-ручей, они сделали привал.
Солнце кружило над лесом, звенела мошкара. Надо было угадать, куда держать путь…
Они были голодны, но полны счастья.
– Ушли от демидовской каторги. Утроба пусть немного потоскует, зато воля!.. – радовался Ивашка.
Не знал, не гадал он, что за ним следят зоркие глаза. Где-то вдали несколько раз болезненно-скорбным криком прокричал кулик, над мхами с глухим шумом пронеслась утиная стайка…
Среди леса внезапно раздался пронзительный свист, загикали десятки могучих глоток. От конского топота задрожала земля, проснулся тихий лес… На Ивашку кинулись скуластые молодцы и стали вязать руки.
«Башкирцы!» – ожгла догадка беглого.
Рядом, под развесистой сосной, остервенело, как волчица, отбивалась Аниска. Скуластый богатырь старался схватить ее. «Эх, разбойники!» – закипела у беглого кровь. Завидя подругу в беде, он рванулся и раскидал нападавших.
– Мухамет! Мухамет! – закричали башкиры.
Ивашка ударом кулака свалил косоглазого крепыша, проворно подобрал выпавшую из его рук кривую сабельку. Злые, разгоряченные лица окружали его, градом сыпались удары, но, припав спиной к лесине, горщик крушил врагов. Оставив Аниску, удальцы кинулись на Ивашку.
– Беги! На коня! – закричал он ей, но в этот миг меткий удар сабельки обрушился на его голову.
– Эх!.. – успел только промолвить горщик, и земля закружилась под ним. В голове беглого зашумело, невыносимая боль сдавила темя и отозвалась во всем теле. Он сделал два шага к своему противнику, но почувствовал, что силы оставляют его. Теплая струя крови застлала глаза. Он упал.
И не слышал Ивашка, как башкиры сволокли его под большой выворотень и бросили на сырую обнаженную землю. В разорванной рубахе, с медным староверческим крестом на орошенной кровью груди, лежал горщик, раскинув руки…
5
Когда Ивашка очнулся и пришел в себя, он увидел, что лежит на куче хвороста. Страшная боль терзала тело.
Вспомнив все, беглец застонал. Под ветром шумел лес, в просветы виднелось синее небо. Изнывая от боли, со стоном парень приполз к ручью и припал лицом к студеной воде.
Кругом безмолвие. Только неизвестно откуда залетевший ворон-ведун сидел на сухом суку и зловеще каркал.
«Сбегла или башкиры пленили?» – подумал горщик про Аниску и опять потерял сознание.
На ранней заре беглый открыл глаза. Он лежал на пригорке; кругом неторопливо, заливая кусты и кочки, расползлись холодные пряди тумана. Вершины сосен, озолоченные восходом, раскачивались над этими зыбкими белесыми волнами. И вдруг, словно из пучины, показалась страшная взлохмаченная голова. Седые растрепанные космы ее сливались с туманом, серое морщинистое лицо, запавший рот. Горщик задрожал. «Нечистое место!» – со страхом подумал он и мысленно стал ограждать себя молитвой.
С дальних гор сорвался холодный ветер, взволновал туман и погнал прочь.
Страшный призрак вновь окунулся с головой в белесую муть. Ивашка облегченно вздохнул: «Слава тебе, господи, отогнал!»
Но в эту самую минуту из уходящего тумана выбрела маленькая сгорбленная старушонка с подслеповатыми глазами. Она шла, опираясь на клюшку, бормоча что-то под нос.
«Ведьма!» – решил Ивашка. Откуда только и сила взялась! Крестясь и отползая прочь, он закричал:
– Уйди! Уйди!..
Старуха вздрогнула, огляделась и заметила беглого. Нисколько не страшась его, она подошла к пригорку. Подол ее платья был подоткнут, а в нем виднелись травы. Ноги старухи были босы. Она степенно оправила волосы, засунув их под платок.
– Кто ты? – спросила старуха горщика и, нагнувшись, оглядела его. – Ай-ай, горюшко какое!..
На горщика глядели добрые старушечьи глаза. Он притих, прошептал чуть слышно:
– Беглый я, демидовский. Отхожу тут… Аль по мою душу пришла? – опять охватило его сомнение.
Старуха внимательно осмотрела раненую голову Ивашки.
– Не бойся, милый! Не тужи!.. Оленка я – христианская душа. Кабы не пришла, сгиб бы ты, а теперь жить будешь…
Непрестанно бормоча, она просеменила к ручью, принесла воды, отмыла раны.
– Ты не вертись, собирайся с силушкой! Тут балаганчик есть, косцы откосились, сена много. Доберешься?
– Нет, не добраться мне, баушка! – поник головой Ивашка.
– А ты потужись! Надо добраться, там и укроешься, а я тебя травками, травками всю хворь облегчу…
Речь ее звучала усыпляюше-размеренно, как глухое бормотание падун-ручья.
Она схватила его под мышки и поволокла. Беглый, облегчая ей усилия, цеплялся руками, двигал ногами и полз вперед…
В шалаше среди сухой елани было тепло, приятно. Беглый зарылся в сено. Старуха подала ему горбушку хлеба. Он жадно съел и запил водой.
– А теперь, сынок, спи, набирайся сил. Я приду! – говорила старуха.
Олена сдержала свое слово: пришла и на другой и на третий день. Она принесла навар из лесных трав, омыла рану, перевязала чистой тряпицей и накормила беглого.
– Терпи, милый, не сдавайся. Выбирайся из хвори! – бормотала она и творила молитву.
Боли утихли, взор горщика стал ясен, разумен…
Старехонька Олена, а лесными травами выходила беглого. В скором времени он поднялся. Бродил по лесу травленым зверем, неслышно, крадучись. Однажды набрел на глубокое голубое озеро. У тихих вод встали изумрудные сосны с медными корнями, раскиданными по теплому песку. Сосны глядели в озеро, а там в глуби отражались другие, опрокинутые. И так сладостно-тихо было созерцать эту тишину. Долгие часы горщик сидел над озером, поджидая Аниску.
Но девка не шла; как звезда, мелькнула в жизни и упала далеко.
Ночью над заброшенным балаганом катился месяц, струясь зеленоватым светом, а на елань выбрался волк; сев на задние лапы, он поднял кверху острую морду и протяжно-тоскливо завыл на луну…
«Уходить надо!» – решил Ивашка. На другой день горщик поклонился бабке Олене, обнял ее, как мать. У старой потекли слезы. Утирая их, она присоветовала:
– Беги на восход, все по ручью выйдешь на речку, иди по ней день-два, увидишь ты горы, дремучий лес. Тут и быть пустыньке, скитам. Там нашей древлей веры людишки и укроют тебя…
Он взял от Олены узелок и ушел в тайгу. Темный ельник скрыл его, а старуха все стояла и глядела добрыми глазами в ту сторону, где исчез беглый…