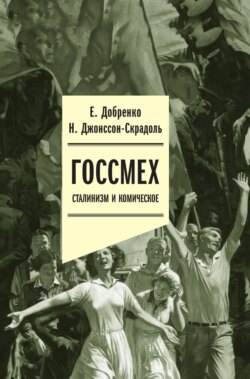Читать книгу Госсмех: сталинизм и комическое - Евгений Добренко - Страница 4
Часть I
Смеющийся Левиафан
Глава 1
Смеховой мир сталинизма: судьба комического в героический век
Эстетика «радикальной народности»: Политические измерения
ОглавлениеНи одна эстетическая категория не привлекала к себе большего внимания философов и теоретиков искусства, чем комическое, – от Аристотеля до Канта, от Гоббса до Гегеля, от Шлегеля и Шеллинга до Шопенгауэра и Кьеркегора, от Жан-Поля и Бергсона до Ницше, Фрейда и Юнга. О смехе писали и крупнейшие советские гуманитарии и литературоведы – Юрий Тынянов и Борис Эйхенбаум, Виктор Шкловский и Владимир Пропп, Лев Выготский и Ольга Фрейденберг, Михаил Бахтин и Дмитрий Лихачев, Елизар Мелетинский и Арон Гуревич, Сергей Аверинцев и Юрий Лотман[35].
То обстоятельство, что ни героическое, ни трагическое, ни возвышенное не были предметом столь пристального интереса, объясняется не в последнюю очередь тем, что, помимо дразнящей и так и неразгаданной «загадки смеха», именно комическое содержит в себе вызов самому теоретическому дискурсу. Оно – своего рода остраненная теоретическая серьезность. Вскрывая комизм в сходстве и различиях, алогизмах, гротескных и иронических тропах и приемах, философ фактически занимается самоанализом и самокритикой, мета-описанием, обращая на себя аналитический и ироничный взор.
Ни одна другая эстетическая категория не дает платформы для мета-философствования – ни героика, ни трагизм, ни возвышенное. Более того, эти категории «высокой эстетики» в силу близости к ненавистной интеллектуалам мелодраме и апелляции не к разуму, но к чувствам являют собой зону риска, тая в себе самую большую опасность – опасность оказаться смешным. Остроумие, напротив, – сфера интеллектуального комфорта, где интеллектуал чувствует себя вполне дома. А занятие смехом – своего рода занятие техникой (интеллектуальной) безопасности.
Но как никакая другая эстетическая категория, кроме комического, не притягивает теоретиков больше, так ни одна из них, кроме комического, не показала свою сопротивляемость теоретизированию. Огромное большинство работ о смехе посвящено бесплодным классификациям принципов и приемов комического, их бесконечным типологиям на различных основаниях, нередко унылой и пустой систематизации, определениям, номенклатурам, каталогам разновидностей, порой натянутым и надуманным, изобретенным досужими классификаторами исключительно ради расположения каждого жизненного примера и художественного образца по соответствующим логическим гнездам. Ситуацию хорошо суммировал Владимир Пропп:
Первый и основной недостаток всех существующих теорий (особенно немецких) – это ужасающий абстракционизм, сплошная отвлеченность. Теории создаются безотносительно к какой бы то ни было реальной действительности. В большинстве случаев такие теории действительно представляют собой мертвые философемы, причем изложенные так тяжеловесно, что их иногда просто невозможно понять[36].
В 1956 году насчитывалось восемьдесят теорий смеха[37]. Спустя четверть века их число достигло двухсот (включая варианты)[38]. Спустя еще тридцать лет оно, вероятно, перевалило за три сотни. Эти теории уже сами классифицируются (социальные, психоаналитические, когнитивные, физиологические, коммуникативные, структурные, формальные и т. д.). При всех различиях они схожи в том, что чаще всего посвящены смеху вообще, редко обращены к теме национального смеха, в котором отражается некий национальный вневременной ментальный профиль, еще реже – к историческим модификациям смешного. Именно эти два аспекта будут в фокусе нашей книги. Обычно в таких внеисторических и вненациональных перечнях мелькают имена Гарпагона и Дон-Кихота, Хлестакова и Тартюфа, Фальстафа и Фигаро. Проблема большинства этих работ, пестрящих примерами от Аристофана и Лукиана до Гриммельсгаузена, Рабле и Стерна, от Сервантеса, Шекспира и Мольера до Свифта, Гейне и Доде, от Гоголя и Салтыкова-Щедрина до Маяковского и Ильфа и Петрова, состоит в том, что смех лишен здесь какого бы то ни было национально-исторического измерения.
Между тем смех национально и исторически специфичен. Различны основания смеха романского и германского средневековых миров, но еще более различны смех Древней Руси и смех западноевропейского Средневековья. Смех допетровской эпохи отличается от смеха XIX века. Смех внутри этой эпохи различен в аристократическом салоне и в вертепе. Смех – явление не только национальное (английский юмор отличается от французского), но и цивилизационное.
Блестящий исследователь комического близкий к Бахтину Лев Пумпянский проницательно заметил, что «рождение комедии есть доказательство полной фиктивности, т. е. глубоко эстетического, действительно гениального характера культуры. Создание комедии было поэтому уделом немногочисленных цивилизаций – тех, которые были наиболее глубоко историчны»[39]. Бесспорно, что сталинизм, породивший свою эстетику смеха (а комическое понимается нами как эстетическое измерение смешного), и был одной из таких цивилизаций, породивших оригинальную смеховую культуру.
Поскольку сталинизм был культурой популистской, предметом нашего интереса станет перекресток исторического и социального смеха. Читатель не найдет здесь ни классификаций, ни типологий, ни общих рассуждений о природе смешного, которые, при всем различии, едины в том, что пытаются объяснить, почему смешно, а не почему не смешно; «как сделано» смешное, а не как сделано несмешное; как смех подрывает власть и устои, но не как укрепляет их и становится одной из опор власти. Именно эти пропущенные наукой звенья и являются центральными в нашей книге.
Неудивительно, что книга Бахтина о Рабле, впервые соединившая смех и «народную культуру», открыла во второй половине ХХ века новые ракурсы чтения культурных текстов и указала на ключи к дешифровке поведенческих кодов прошлого. В отличие от предшественников, занимавшихся типологизацией и психологизацией смеха, Бахтин открыл новое измерение народной культуры, социологизировав и историзировав смех[40]. То немногое, что было сделано в плане рассмотрения советской смеховой культуры с тех пор, опиралось, однако, на некритическое восприятие бахтинской теории: сталинская культура если не игнорировалась, то читалась плоско-антисоветски как официозный квазигероический эпос, где «смеховой культуре» просто не было места. Для подобного чтения бахтинская теория карнавала подходила идеально: она фундировала советологически-интеллигентскую картину героической борьбы диссидентствующей «смеховой культуры» с «нудительной серьезностью» сталинских догматов и государственного насилия[41]. Хотя, как мы увидим, к сталинской культуре вся эта патетика отношения не имела.
Согласно Бахтину, карнавал разрушал (пусть и временно) «всемогущие социально-иерархические отношения». Бахтин утверждал, что карнавал
отменяет, прежде всего, иерархический строй и все связанные с ним формы страха, благоговения, пиетета, этикета и т. п., то есть все то, что определяется социально-иерархическим и всяким иным (в том числе и возрастным) неравенством людей. Отменяется всякая дистанция между людьми, и вступает в силу особая карнавальная категория – вольный фамильярный контакт между людьми. Это очень важный момент карнавального мироощущения. Люди, разделенные в жизни непроницаемыми иерархическими барьерами, вступают в вольный фамильярный контакт на карнавальной площади[42].
Бахтин писал о субверсивном смехе как о единственно аутентичном. Но из описанной им «народной смеховой культуры» феномен «тоталитарного смеха» понять нельзя. Между тем, как замечает Младен Долар, «смех сам по себе не должен быть субверсивным. Он также может быть очень консервативным»[43].
Разница между субверсивным и тоталитарным смехом (или госсмехом) такая же, как между антисоветским анекдотом и «Кубанскими казаками»: оба принадлежат к советской смеховой культуре, однако на этом их сходство исчерпывается. По всем внешним параметрам сталинизм предлагал зрителю карнавал: ликующие на площадях и побеждающие бюрократов массы. Но на этом сходство с бахтинским карнавалом и заканчивается: в бахтинской системе координат невозможно помыслить карнавал, целью которого было не отрицание, а утверждение социальной иерархии, укоренение социальной дистанции и классовых барьеров, легитимация законов, запретов и ограничений, «карнавал», внутренним содержанием которого были страх и ликование[44].
Далее, бахтинская теория «народно-смеховой культуры» исходит из резкого противопоставления культуры низов и верхов. Подобное разделение культуры на «официальную» и «народную» было в советской эстетике общим местом. В его основе лежала так называемая ленинская теория двух культур. В советской школе заучивались наизусть цитаты из ленинских «Критических заметок по национальному вопросу» (1913) о том, что «есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, – но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова»[45]. При этом бахтинское разделение вписывалось как в эту официозную советскую модель культуры, так и в диссидентскую: в нем читались антисоветские аллюзии, а Бахтин квалифицировался как борец с советской ортодоксией.
Рассматривая книгу о Рабле как своего рода отражение эпохи террора, обычно указывают на то, что она является своеобразным ответом на конкретную политическую ситуацию.
Серьезность в классовой культуре, – утверждал Бахтин, – официальна, авторитарна, сочетается с насилием, запретами, ограничениями. В такой серьезности всегда есть элемент страха и устрашения […] Смех, напротив предполагал преодоление страха. Не существует запретов и ограничений, созданных смехом. Власть, насилие, авторитет никогда не говорят на языке смеха[46].
При чтении этих рассуждений о смехе (в особенности в той их части, где они выходят за рамки Средневековья и претендуют на широкие обобщения[47]) трудно поверить, что они писались в сталинской России, что все это говорилось в культурной ситуации, в эстетической среде, в окружении искусства, буквально залитых светом радости, улыбок, всенародного ликования («жить стало веселее»). Смех в сталинской (классовой) культуре был проводником и легитимацией насилия, запретов и ограничений. Он был орудием устрашения. Власть, насилие, авторитет, выражающие «народную», то есть патриархальную культуру, культуру вчерашних крестьян и освященные их «карнавальным мироощущением», говорили с ними и для них на языке смеха. Таким образом, «радикально народным» был не средневековый карнавал, предполагавший временность и знавший свои границы. Радикально народной становится власть, не противопоставляющая себя «народной культуре», но инкорпорирующая ее и адаптирующаяся под нее. Такими «радикально народными» были сталинизм и соцреалистическое искусство.
Бахтинская категорическая оппозиция двух культур сталкивается здесь с невозможностью (в отличие от Средневековья) противопоставить официальность и народность в Новое время, в эпоху «восстания масс», радикального популизма и массовых обществ (будь то фашизм, нацизм или сталинизм). Дело здесь в изменившемся принципе легитимности: если в Средневековье легитимация власти происходила от Бога, то Новое время, эпоха радикальной демократизации и обожествления «Народа», не нуждается в Боге. Именно Народ является источником и окончательным референтом власти и террора, идеологически оформленного и политически институализированного режимом. «Народ» и есть выразитель последней воли, а потому он становится субъектом, равным Богу и единственным объектом культа. Это, как точно замечает Михаил Рыклин, атеизм террора, опирающегося на коллективные тела и заключающего Бога в себе самом в виде народа, – «атеизм новой религии, способной питать собой социальную жизнь, основанную на насилии»[48].
В ситуации, когда богом стали массы, именем которых легитимируется политический строй, искусство обретает новые основания. В этом контексте сталинское искусство соцреализма было куда более «радикально народным», чем средневековый карнавал, который существовал в строгих «календарных рамках» и протекал в пространственной и временнóй резервации: «народная культура» в «Свинарке и пастухе» и «карнавал» в «Волге-Волге» не знали ни пространственных границ, ни временных рамок – они текли вне времени по всей стране – с севера на юг (в фильме Пырьева) и с востока на запад (в фильме Александрова). Сталинизм не только использовал, включал в себя низовую культуру, не только ориентировался на горизонт ожиданий вчерашних крестьян, но поднимал эти культуру и эстетику патриархального общества до государственного уровня, придавал им идеологический вес, эстетическую материальность и социальную акустику – медиализировал, институционализировал, инструментализировал, историзировал и бесконечно воспроизводил. Соцреализм, таким образом, творил сам легитимирующий политический субъект – «народные массы». В своей радикальности такая практика просто несопоставима со средневековым карнавалом.
Тему тоталитарной народности бахтинского карнавала развил Борис Гройс в эссе «Тоталитаризм и карнавал» (в немецком оригинале 1989 года название было куда более провокационным: «Карнавал жестокости. „Эстетическое оправдание“ сталинизма Бахтиным») он сформулировал основные претензии к идеям Бахтина с точки зрения своеобразного «постмодернистского гуманизма»[49]. Связав две главные теории Бахтина (полифонического романа и карнавала) в единую теорию тоталитарного коллективного тела, Гройс довел ее до противоположности. Политические импликации бахтинской мысли, согласно Гройсу, указывают на то, что Бахтина никак нельзя рассматривать в качестве «последовательно антитоталитарного мыслителя». Напротив, он был одним из тех, кто занимался «эстетическим оправданием эпохи». «Бахтинский карнавал ужасен – не дай Бог попасть в него», в нем – отрицание личной суверенности, гимн смерти всего индивидуального, радость по поводу «победы чисто материального, телесного принципа над всем трансцендентным, идеальным, индивидуально бессмертным». В нем – торжество
народного или космического, «телесного» идиотизма над мучительными корчами терзаемого индивида, который кажется ему смешным в своей одинокой беспомощности. Это смех, рожденный примитивной верой в то, что народ есть нечто количественно, материально большее, нежели индивидуум, а мир – нечто большее, нежели народ, т. е. именно верой в истину тоталитаризма […] личность не имеет в карнавале никаких шансов, кроме как осознать свою собственную гибель в качестве позитивной ценности[50].
Придя к заключению, что «целью Бахтина была вовсе не демократическая критика Революции и сталинского террора, a их теоретическое оправдание», Гройс завершал свои инвективы указанием на то, что бахтинская теория воспроизводит
атмосферу сталинского террора с его неправдоподобными восхвалениями и поношениями, а также постоянно неожиданными увенчаниями – развенчаниями, имевшими безусловно карнавальный характер. (Сам Сталин тогда говорил, что «жить стало веселее», и его любимым фильмом, как известно, был сугубо карнавальный фильм «Волга-Волга».) О специфической веселости 30-x годов сохранилось множество свидетельств. Характерно, в частности, что показательные процессы и, особенно, вынесение приговоров часто сопровождались тогда смехом публики. На сталинский контекст указывает также то обстоятельство, что и полифонический роман, и карнавальное действо, имея якобы народное происхождение, все же инсценируются у Бахтина конкретным суперавтором – Достоевским или Рабле, что косвенно указывает на автора соответствующего «жизненного текста», которым мог быть только Сталин[51].
Критика Гройса, дружно звучавшая со стороны бахтинистов, упускала, однако, главный дефект его позиции: важно не то, был ли Бахтин в своей теории карнавала «крипто-сталинистом»[52] (именно об этом – все эссе Гройса, в принципе чуждого моральных (о)суждений), но то, что в действительности бахтинская теория как раз не соответствовала сталинской культуре. С ее помощью сталинская культура не может быть описана, поскольку Бахтин видел «народную культуру» исключительно в оппозиции официальной, тогда как сталинизм (и шире – культуры массовых обществ ХХ века) попросту снимает это различие, инкорпорируя народную культуру и адаптируясь под нее.
Не в том даже дело, насколько адекватно бахтинская теория «народной смеховой культуры» описывает средневековый мир (заметим попутно, что Арон Гуревич, полемизируя с тезисом Бахтина о карнавально-смеховой природе средневековой народной культуры, подчеркивал теснейшую связь в ней смеха и страха[53]). Куда важнее то, что бахтинская теория амбивалентного смеха, построенная на «невстречающихся» оппозициях, оказывается бессильной описать смеховую культуру массового общества, в котором смех (и шире – «народная культура») давно стал частью официальной культуры. Это искусство просто не могло бы выполнять своих функций, будь оно основано на постулируемом Бахтиным расколе «низовой» и «официальной» культур. Изображаемые в нем массы не просто монументальны. Они застывают в момент ликования, торжества, радости, веселья, песни, пляски. Эти образы массы не были просто навязаны или «спущены сверху». Они были взяты из самой «низовой культуры», они питались желанием масс видеть себя возвышенными, облагороженными – в полном соответствии с массовым же вкусом. Именно их в промышленных количествах и производило сталинское искусство.
Бахтинская теория игнорирует то, что в сталинизме находится на самом видном месте. Исходя из нее, просто нельзя понять, что такое песни Дунаевского, фильмы Александрова, радостный мир спортивных парадов, оптимистически-раешный строй советской поэзии (точно, что не феномены «нудительной серьезности»!) – все то, что окружало Бахтина в то именно время, когда он создавал свою теорию. Кажется, что он просто не слышал, не видел, не знал этой культуры вокруг себя. Его теория поражает не тем, что она якобы «отражает» сталинизм, как утверждает Гройс, но как раз наоборот – абсолютной слепотой, глухотой и непониманием сталинизма.
Было бы несправедливо винить в этом Бахтина – автора книги о культуре Средневековья и Ренессанса: он не занимался советской культурой. Однако Бахтин – автор теории, претендующей на универсальность, – являет в этом смысле образец той именно интеллигентской зашоренности, когда не сконструированная, не идеально-утопическая и не чужая, но своя, реальная, здесь-и-сейчас протекающая «народная культура» попросту игнорируется, с презрением списывается как «масскульт», а всякие занятия ею третируются как недостойные серьезной науки. Именно это объединяет советскую интеллигентскую мифологию – в широком диапазоне от формалистов до Бахтина и структуралистов, идеологические фобии которых проявились в этом игнорировании реальной «народной культуры» наиболее зримо. Как представляется, здесь сказывались классовые фобии советской интеллигенции.
После появления книги Бахтина о «карнавальности» в русской культуре ХХ века не утихают споры. Одни доказывают, что ее расцвет приходится на эпоху Серебряного века с его интересом к арлекинаде, эксцентрике, балагану и «низким» жанрам[54]. Другие утверждают, что ее пиком стали 1920-е годы, революционная культура[55]. Но все сходятся на том, что сталинизм – пора угасания карнавальности. Такое восприятие сталинского искусства – аберрация, основанная на взгляде на него как на искусство «официоза». Под сталинским искусством обычно понимается героизация, монументализация, ориентация на классические формы, но совершенно игнорируется его популистская природа. Будучи сориентированным на массового потребителя – вчерашнего крестьянина с его представления о «красивом», оно стало ответом на массовый запрос, эстетически оформленным массовым вкусом, соответствующим горизонту ожидания своего потребителя.
Типичное рассуждение о сталинской культуре таково:
…по карнавальным законам, «официальная» и «неофициальная» сферы жизни равноправны и лишь приурочены к разному времени и месту, тогда как в конце 30-х годов они становятся в Советском Союзе почти исключающими друг друга. Кроме того, оказывается отверженным, все более вытесняется именно то направление в искусстве, которое как раз и содействовало возрождению карнавала в России[56].
В этой проекции соцреализм – это идеологическая жвачка, скучная дидактика, далекая от реальных вкусов «простого человека» и навязанная ему. Именно так он оценивался в западной советологии и советском диссидентском литературоведении в те редкие моменты, когда они, отвлекшись от Пушкина, Блока и Пастернака, бросали презрительный взгляд на убогие соцреалистические поделки. Вариацией на эту тему стало противопоставление неких реальных вкусов масс якобы «навязанной сверху» дидактике. Этот взгляд, как всегда, предельно радикально обозначил Борис Гройс:
30–40-e годы в Советском Союзе были всем чем угодно, только не временем свободного и беспрепятственного проявления настоящих вкусов масс, которые, несомненно, и в то время склонялись в сторону голливудских кинокомедий, джаза, романов из «красивой жизни» и т. п., но только не в сторону социалистического реализма, который был призван массы воспитывать и потому, в первую очередь, отпугивал их своим менторским тоном, отсутствием развлекательности и полным отрывом от реальной жизни, по радикальности не уступавшим «Черному квадрату» Малевича[57].
Однако соцреализм отнюдь не был чужд ни голливудских кинокомедий (а чем, собственно, были кинокомедии Александрова, Пырьева или Юдина?), ни легкой запоминающейся музыки и джаза (а чем иным были песни Дунаевского и джаз Утесова?), ни тем более романов из «красивой жизни» (по части описания «красивой жизни» советская лакировочная литература не знает себе равных). Более того, этот соцреалистический популизм не был какой-то периферией «парадного» (официозного) соцреализма, а кинорежиссеры Александров и Пырьев, композиторы Дунаевский и Захаров, поэты Исаковский и Твардовский, писательницы Николаева и Коптяева, актеры Жаров и Чирков, актрисы Орлова и Ладынина становились лауреатами многочисленных Сталинских премий. Создававшаяся ими популистская версия соцреализма была полноправной частью парадного («официозного») соцреализма. Как напоминает М. Чегодаева, картина Федора Решетникова «Опять двойка» популяризировалась и тиражировалась никак не менее, чем картина Федора Шурпина «Утро нашей Родины»[58]. Эти два типа соцреализма создавались одними и теми же авторами (так, Симонов писал в одно и то же время «Жди меня» и «Убей его!») и нередко неразделимы в одном произведении – будь то фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский», поэма А. Твардовского «Василий Теркин», роман М. Шолохова «Поднятая целина» или «Песня о встречном» Д. Шостаковича и Б. Корнилова. Нигде здесь соцреализм не был простой дидактикой. Прокламируемая им «истинная народность» – оборотная (патриархальная) сторона «буржуазной массовой культуры». Обе, несомненно, «принадлежат народу». Только вторая видит в нем лишь потребителя, а первая – еще и конструируемый объект. Разница принципиальная.
Из противопоставления «масскульта» официозу вырастает и другой интеллигентский миф – о непричастности великих мастеров советского искусства к производству соцреализма (коль скоро последний был сплошь «масскультом»). Эта позиция была хорошо сформулирована Чегодаевой:
Тоталитарная сталинская художественная культура была на девять десятых «масскультом». Под кличкой «социалистический реализм» она утверждалась в качестве высочайшей вершины мирового искусства всех времен и народов. Песенка Захарова на слова Исаковского «И кто ж его знает, чего он моргает» в исполнении хора имени Пятницкого учила музыкальной грамоте Шостаковича и Прокофьева. Утвердившийся во главе Академии художеств, прибравший к рукам всю власть над изобразительным искусством АХРР в бессильной злобе срывал с музейных стен Ван Гога и Сезанна[59].
Дело, однако, в том, что принадлежавшие «высокой культуре» Шостакович и Прокофьев, Эйзенштейн и Вертов, Жолтовский и Щусев создавали образцовые произведения сталинской культуры. Оборотной стороной этой интеллигентской «элитарной» мифологии была интеллигентская же «народническая» мифология (бахтинская теория смеховой культуры, несомненно, относилась именно к ней). Со всеми другими их объединял взгляд на соцреалистическое искусство как на искусство скучное, «серьезное», говоря словами Гройса, «отпугивающее своим менторским тоном», искусство, из которого
изгонялись шутки, трюки, смешинки – вольный язык лубка и балагана. Цензорами и редакторами последовательно, упорно, умело изгонялась народная стихия. Да, – утверждала Нея Зоркая, – в государстве победившего народа государственная идеология истребляла народную стихию. Вместе с наследием «позорного и постыдного десятилетия в истории русской интеллигенции», как именовался в советской историографии «русский Серебряный век», выбрасывалась на свалку лубочная, фольклорная культура этого периода[60].
Но поскольку последняя неистребима,
лубок (в широком смысле) исподволь проникал в виде троянского коня в торжествующую эстетику «социалистического реализма». Структуру и поэтику старинной «разбойничьей» легко найдем в «Чапаеве». Музыкальные «колхозные» комедии Ивана Пырьева – нормальные народные фарсы, слегка приправленные темами соцсоревнования и деревенского изобилия в реальных условиях тотального голода начала 1930-х годов, катастрофического на Украине – месте действия кинокомедии «Богатая невеста»[61].
О сказочности пырьевских картин писала и Майя Туровская[62]. Этот пласт легко читается в самой сюжетике этих фильмов, и вряд ли можно спорить с тем, что
героиня, будь она знатная трактористка-орденоносец или прославившаяся на весь СССР свинарка, выполняла функцию некоей Коломбины из русских балаганных представлений-«арлекинад» 1910-х годов, в которую влюблены одновременно прекрасный юноша и противный богатый старик-ухажер (вариант: комичный уродливый недотепа). Эти балаганные комедийные сюжеты, пришедшие из Европы в XIX веке, адаптировались и закрепились на российской почве. Разумеется, традиционные персонажи русского балагана прошли до пырьевских кинолент путем метаморфоз «осовременивания»[63].
Что представляется в высшей степени спорным в этих широко распространенных суждениях, так это сама исходная посылка: в противовес утверждениям о том, что «тоталитарная сталинская художественная культура была на девять десятых „масскультом“», здесь утверждается нечто прямо противоположное: якобы «низовая культура» проникала в культуру сталинизма «в виде троянского коня». В этой перспективе «случайностями» оказываются тотальная фольклоризация советского искусства под руководством Горького в 1930-е годы, соцреалистическая «народность», борьба с формализмом (который и был настоящим «троянским конем» в соцреализме), ориентация на стилевые конвенции традиционного «реализма»… Однако советская колхозная поэма писалась раешником[64], а «народническое» направление доминировало и в литературе (достаточно вспомнить дискуссию о Маяковском, в ходе которой выяснилось, что «лучший, талантливейший поэт советской эпохи» не имел в ней наследников), и в кино (начиная с «кинематографии миллионов» Б. Шумяцкого). В искаженной исследовательской проекции «высокая» («элитарная»?) сталинская культура третировала «низовую», тогда как в реальности все обстояло ровно наоборот: гостем в соцреализме был не композитор-хоровик Захаров, но композитор Шостакович; не кинорежиссер-сказочник Пырьев, но кинорежиссер Эйзенштейн; не поэт-песенник Исаковский, но поэт Пастернак… Доктор Живаго был здесь (незваным) гостем, а хозяевами – Василий Теркин и дед Щукарь.
Бесспорно, что именно масса задает параметры госсмеха. Она же является источником террора. В той мере, в какой смех «народен», он тоталитарен, будучи одной из террористических практик. «Народная» власть, будучи «машиной кодирования потоков желаний массы»[65], институционализирует, политически инструментализирует, эстетически и идеологически оформляет и обслуживает их. В этом смысле соцреализм есть радикально народная культура, которая понимается как культура, якобы навязанная сверху, только благодаря инерции интеллигентской (диссидентской, советологической, эмигрантской) мифологии о «неучастии» и «непотреблении» этой культуры, якобы абсолютно далекой от потребителей.
«Народные массы» были не только участниками, но и соучастниками создания сталинской культуры. Поэтому соцреализм может рассматриваться как матрица советского массового политического бессознательного; по нему можно изучать и эстетическое измерение этого бессознательного. Тоталитарная культура – это и есть «народная культура» Нового времени, которая не может рассматриваться в традиционной оппозиции «народная» vs «официальная», но лишь в категориях присущей ей «радикальной народности», то есть вне подобной оппозиции. Если в описываемую Бахтиным эпоху Средневековья и Ренессанса «народная культура» противостояла официальной, то в Новое время она превратилась в рудимент патриархальности, оказавшись полем борьбы крестьянской коллективистской культуры с наступающей модернизацией, основанной на индивидуализме и интеллектуализме.
Это, кстати, проясняет вопрос о статусе пародии в смеховой культуре. Согласно Бахтину, при всей «подлинности», «вторая жизнь, второй мир народной культуры строится в известной мере как пародия на обычную»[66]. Иначе говоря, карнавальная жизнь, будучи пародией, еще и обладает сущностной подлинностью того, пародией чего она является. Мысль эта взята Бахтиным у О. М. Фрейденберг, которая утверждала, что этот пародийный двойнический аспект имеет отрицательный, «нарушительный и мнимый» характер, заключающийся в повторении только внешней формы, без подлинной сущности явления. Но, как верно заключает Рюмина, ни о какой самостоятельности и «подлинности» этого «второго мира, на чем базируется весь пафос книги Бахтина, речи быть не может, наоборот, О. М. Фрейденберг подчеркивала его мнимый, зависимый и „изнаночный“ характер»[67]. Идея Бахтина о том, что пародия может быть самодостаточной, продолжает Рюмина, абсурдна, поскольку пародия по определению «паразитирует» на том, что пародирует, и самостоятельной субстанциально быть не может, то есть сущностной ценности не имеет, потому она и «„тень“ и „изнанка“ чего-либо»[68]. Одновременно просто нельзя обладать подлинной сущностью и быть пародией. В этом смысле, бахтинский карнавал – феномен «несамостоятельный, вторичный, производный», имеющий «паразитарную» природу[69].
«Народная культура» эгалитарна, безлична и коллективистична, ее пережитком в Новое время является культура новых же «социальных низов» – прежде всего, культура крестьянская и органически связанная с ней культура слободы, городских окраин. Эта культура отличается эстетическим консерватизмом и конвенциальностью. К сталинскому карнавалу этот момент имеет прямое отношение: в отличие от бахтинского карнавала, «народная культура», будучи основой соцреализма, ничего не пародирует, то есть, в отличие от бахтинского, сталинский карнавал не является пародией. Он первичен.
35
Формалисты проявляли постоянный интерес к проблеме комического. В 1918 году вышла работа Б. М. Эйхенбаума «Как сделана „Шинель“ Гоголя», в 1921 году – «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» Ю. Н. Тынянова, в 1923 году появляется книга А. Л. Слонимского «Техника комического у Гоголя», в 1924 году вышла в свет книга В. В. Гиппиуса «Гоголь». Добавим сюда работы В. Шкловского и опоязовские сборники работ о Зощенко и Бабеле и др.
Второй поток литературы о комическом был вызван политической кампанией 1952 года, когда прозвучал призыв к оживлению сатиры. Помимо книг: Ермилов В. Некоторые вопросы теории советской драматургии. О гоголевской традиции. М.: Сов. писатель, 1953; Эльсберг Я. Наследие Гоголя и Щедрина и советская сатира. М.: Сов. писатель, 1954; Фролов В. Советская комедия. М.: Искусство, 1954; Борев Ю. О комическом. М.: Искусство, 1957, назовем сб. Вопросы теории сатиры. М.: Сов. писатель, 1957; Выходцев П., Ершов Л. Смелее разрабатывать теорию советской сатиры // Звезда. 1953. № 2. С. 146–156; Павловский A. Сатира и общественный конфликт // Сибирские огни. 1954. № 4. С. 161–168; Ершов Л. Некоторые вопросы теории сатиры // Известия АН Латвийской ССР. Вып. 12. 1955. С. 23–38; Пьянов В. За боевую советскую сатиру // Коммунист Украины. 1953. № 8. С. 72–80; 1957; Дикий А. Героика и сатира // Литературная газета. 1954. 9 сентября; Калачева С. Что же такое юмор? // Советская культура. 1956. 14 июня; Коган Л. В чем сила юмора? // Советская культура. 1956. 12 июля и мн. др.
И наконец, третий поток работ последовал после публикации книги Бахтина (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1965): Борев Ю. Комическое. М.: Искусство, 1970; Киселев И. Н. Проблемы советской комедии. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1973; Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М.: Искусство, 1976; Лихачев Д. С., Панченко А. М. Смеховой мир Древней Руси. Л.: Наука, 1976; Лук А. Н. Юмор, остроумие, творчество. М.: Искусство, 1977; Николаев Д. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М.: Худож. лит., 1977; Николаев Д. Сатира Гоголя. М.: Худож. лит., 1984; Вишневская И. Комедия на орбите. М.: Сов. писатель, 1979, и др.
36
Пропп В. Проблемы комизма и смеха. М., 1999. С. 5–6.
37
Их обзор см.: Berger E. Laughter and the Sense of Humour. New York: Intercontinental Medical Book Corp., 1956. P. 1–31.
38
См.: Holland N. Laughing, a Psychology of Humour. Ithaca: Cornell UP, 1982. P. 115, 117.
39
Пумпянский Л. В. Гоголь // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 258.
40
Укажем на работы последних нескольких десятилетий, где «политический смех» рассматривается не только как субверсивный феномен, но и как элемент политического манипулирования: Billington S. The Social History of the Fool. Brighton: Harvester, 1984; Stallybrass P., White A. The Politics and Poetics of Transgression. London: Methuen, 1986; Sociology through Humour / Ed. J. Faulkner. St. Paul, MN.: West Publishing Co. 1987; Humour in Society: Resistance and Control / Ed. C. Powell. Macmillan Press, 1988; Mulkay M. On humour: Its Nature and Its Place in Modern Society. Cambridge: Polity Press, 1988; Palmer J. Taking Humour Seriously. London: Routledge, 1994; Corbeill A. Controlling Laughter: Political Humour in the Late Roman Republic. Princeton: Princeton UP, 1996.
41
См.: Гюнтер Х. Михаил Бахтин: Теоретическая альтернатива социалистическому реализму // Бахтинский сб. Вып. III. М.: Лабиринт, 1997. С. 56–75. Эта работа представляет собой главу из кн.: Günther H. Die Verstaatlichung der Literatur: Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch-realistischen Kanons in der sowjetischen Literatur der 30er Jahre. Stuttgart: J. B. Metzler, 1984.
42
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 4-е. М.: Сов. Россия, 1979. С. 141–142. Выделено Бахтиным.
43
https://conversations.e-flux.com/t/interview-with-mladen-dolar-i-think-to-make-art-is-to-make-a-break/5075
44
См.: Рыклин М. Пространства ликования: Тоталитаризм и различие. М.: Логос, 2002.
45
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 24. М.: Политиздат, 1970. С. 120–121, 129.
46
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. С. 104.
47
Как точно замечает С. Аверинцев, «Бахтин берет Рабле не как индивидуального автора каких-то десятилетий, а как универсальную философско-антропологическую парадигму» (Аверинцев С. Бахтин, смех, христианская культура // М. М. Бахтин как философ. М.: Наука, 1992. С. 10).
48
Рыклин М. Террорологики. Тарту; М.: Ad Marginem, 1992. С. 214.
49
Бахтинский сб. Вып. III. М.: Лабиринт, 1997. С. 76–80. См. ответ Гройсу Ренаты Лахманн (Там же. С. 81–85).
50
Там же. С. 78–80.
51
Там же. С. 79.
52
Всестороннее рассмотрение этических аспектов бахтинской теории карнавала в контексте сталинского террора содержится в диссертации: Simons A. Carnival and Terror: The Ethical Meaning of Bakhtin’s Rable. University of Utrecht, 1996.
53
См.: Гуревич А. Смех в народной культуре средневековья // Вопросы литературы. 1966. № 6.
54
См.: Гаспаров Б. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы ХХ в. М.: Наука, 1994. С. 4.
55
См.: Химич В. Карнавализация как стилевая тенденция в литературе 20-х гг. // ХХ век: Литература. Стиль: Стилевые закономерности русской литературы ХХ в. (1900–1930 гг.). Екатеринбург, 1994. С. 46–58.
56
Гуськов Н. А. От карнавала к канону: Русская советская комедия 1920-х годов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 23.
57
Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 15.
58
Чегодаева М. Массовая культура и социалистический реализм // Вопросы искусствознания. Х (1/97). С. 119. Чегодаева ошибочно указывает, что картина «Опять двойка» удостоилась Сталинской премии. В действительности, Решетников удостоился Сталинской премии в 1949 году за две другие картины и, что очень показательно, явно относящиеся к «парадному» и к «популистскому» соцреализму: «Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин» и «Прибыл на каникулы», что лишь подчеркивает одинаковый статус обоих направлений. Точнее было бы говорить лишь о разнице в предмете изображения, поскольку при полной разножанровости (парадный портрет и комически-бытовая сюжетная сценка) обе картины разрешены в сходной стилевой манере и воспроизводят все соцреалистические конвенции. Интересно, что совокупный тираж открыток с репродукцией картины «Прибыл на каникулы» (1948) составил свыше 13 миллионов экземпляров. Это больше, чем тираж какой-либо другой открытки, выпущенной в Советском Союзе.
59
Там же. С. 125.
60
Зоркая Н. М. От «Максима» до «Комиссара»: Советское кино как агиография // Культурологические записки. Вып. 11. М.: ГИИ, 2009. С. 210.
61
Там же.
62
Туровская М. И. А. Пырьев и его музыкальные комедии: К проблеме жанра // Туровская М. Зубы дракона. Мои 30-е годы. М.: АСТ, 2015.
63
Зоркая Н. М. От «Максима» до «Комиссара». С. 211.
64
См.: Добренко Е. Раешный коммунизм: поэтика утопического натурализма и сталинская колхозная поэма // Новое литературное обозрение. 2009. № 4 (98).
65
Надточий Э. Друк, товарищ и Барт. Даугава. 1989. № 8. С. 115.
66
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. С. 27, 16.
67
Рюмина М. Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность. М.: Editorial URSS, 2003. С. 215–216.
68
Там же. С. 216.
69
Там же. С. 223.