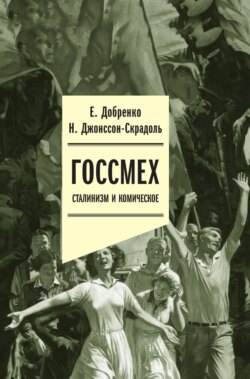Читать книгу Госсмех: сталинизм и комическое - Евгений Добренко - Страница 9
Часть I
Смеющийся Левиафан
Глава 2
Смех в законе: эволюция сталинского большого нарратива
ОглавлениеКонечно же, это было незаконно, но где был Закон? Закон был везде, невидимый и живой.
Джефф Райман. Детский сад
После турбулентных лет революции сталинизм принес с собой торжество закона – точнее, законополагающих практик. Зеркально отразив вывод Эмиля Бенвениста о том, что в индоевропейских языках слова, связанные с отправлением законодательства, являются производными от глагола «говорить»[215], сталинизм основывался на убеждении, что все сказанное имеет отношение к закону[216] – либо как уголовное преступление, либо как законообразующий речевой акт, то есть как выражение принципов законопорядка в обществе в широком смысле, без ограничения сугубо юридическими рамками. В сталинской системе, где будничное поведение, неосторожные слова и даже мысли часто классифицировались как уголовные преступления, законополагающие практики имели двойную функцию: с одной стороны, они играли важную роль в повсеместном и ежечасном дисциплинировании граждан, с другой – являлись подтверждением постулата о демократичности советского строя, где нормы, регулировавшие отношения между государством и гражданами, определялись при непосредственном участии самих граждан, в самых разных контекстах и на самых разных уровнях.
Столь нестандартные практики требовали соответствующего языкового оформления, что, видимо, почувствовал и Государственный прокурор Андрей Вышинский, когда выразил опасение относительно того, что его классическое юридическое образование может не позволить ему адекватно сформулировать свое отношение к обвиняемым на московских процессах. «В своем лексиконе я не могу найти этих слов!» – восклицал он в отчаянии. Впрочем, прокурор недооценивал себя. Он нашел эти слова, и, если судить по опубликованным в печати стенограммам, публика зачастую встречала их смехом. Мишель Фуко рекомендовал исследователям политических систем «попытаться зафиксировать власть на крайнем полюсе ее проявления, где она всегда носит наименее законный характер»[217], – а что может быть более отдаленным от сферы формального закона, чем смех в зале суда, когда вот-вот будет произнесен смертный приговор?
Исходной точкой дальнейших рассуждений является предположение, что именно «политически правильный» (потому что зафиксированный в качестве ремарок в соответствующих стенограммах) смех легитимизировал фундаментальное для сталинизма деление на «своих» и «чужих». Поскольку сходство первой категории с невиновностью, а второй – с виной имело прямые юридические последствия, смех следует рассматривать как неотъемлемую часть законополагающего дискурса сталинизма. Трансформации контекстов, в которых раздавался (и фиксировался) смех в зале, отражают эволюцию самих основ сталинского мастер-нарратива. После того как советские люди приучились к смеху в нужных местах, шутки превратились в приговоры и в законы, объясняющие закономерности исторического развития. Так, при непосредственном участии публики, отрабатывался основной закон сталинизма, гораздо более фундаментальный, чем Конституция, ибо только правильное его восприятие могло гарантировать незыблемость сталинского строя. Им стал Краткий курс истории ВКП(б). Увидевший свет в 1938 году, этот сталинский труд не только утверждал определенное прочтение партийной и советской истории, но и окончательно зафиксировал критерии, по которым своих нужно было отличать от чужих, созидание – от вредительства, хорошее – от плохого. Роль шуток властителей и смеха публики в подготовке правильного восприятия этого текста и составляет предмет нашего анализа на следующих страницах.
Начало сюжета
Начнем мы с «Доклада т. Сталина об оппозиции и внутрипартийном положении» на 15-й партконференции осенью 1926 года[218]. Этот сравнительно ранний текст – один из знаковых, поскольку здесь наиболее внятно и развернуто, по сравнению с предыдущими партийными форумами, были оглашены параметры, по которым друзей следует отличать от врагов. Судя по огромному количеству примечаний «Разрядка моя. И. Ст.», вождь внимательно отредактировал текст перед публикацией; следовательно, смех публики зафиксирован с его согласия и в «нужных» местах. «Нужные» места включали в себя в основном представление вождем точки зрения оппозиции, и в первую очередь – Троцкого, автора «великолепной и музыкальной отписки», то есть книги «К социализму или к капитализму?». Сталин цитирует «заблуждающегося» товарища по партии много и охотно, спрашивая предварительно у своей аудитории, «не угодно ли [им] послушать», и представляя цитаты в обрамлении соответствующих комментариев, подчеркивающих несуразность стиля Троцкого:
«Ленинизм, как система революционного действия, предполагает воспитанное размышлением и опытом революционное чутье, которое в области общественной – то же самое, что мышечное ощущение в физическом труде» (Л. Троцкий, «Новый курс», изд. «Красная Новь», 1924 г., стр. 47).
Ленинизм, как «мышечное ощущение в физическом труде». Не правда ли, и ново, и оригинально, и глубокомысленно. Вы поняли что-нибудь? (Смех.)
Письмо Троцкого от сентября 1926 года относительно предполагаемых результатов внутрипартийной борьбы насмешливо определяется как «почти что предсказание… почти что пророчество чисто марксистского типа, предвидение на целых два месяца. (Смех.) (…), [в котором], конечно, … имеются некоторые преувеличения. (Смех.)». Процитировав еще ряд пассажей, где у т. Троцкого имеются «некоторые преувеличения», и придя к выводу, что, «ежели отвлечься от всех этих преувеличений, допущенных т. Троцким в его документе, то от прогноза как будто ничего, собственно, и не остается, товарищи. (Смех.)»[219].
Потуги Троцкого излагать свои мысли наукообразно должны быть смешными не только потому, что в философии сталинизма, как известно, правда – за простотой, а сложность формулировок в лучшем случае смешна, а в худшем – подозрительна и попросту преступна. Троцкий покусился на то, что должно восприниматься как область, доступная и подвластная исключительно самому Сталину: прогнозы на будущее. В этом есть определенная логика: поскольку лишь сам вождь имел право определять политику развития страны на каждый определенный момент, будь то прошлое, настоящее или будущее, все остальные прогнозы и анализы были изначально ошибочны и могли служить лишь поводом для смеха – как то происходит и в заключающей выступление развернутой метафоре, основанной на цитате из Зиновьева:
Я кончаю, товарищи. Тов. Зиновьев хвастал одно время, что он умеет прикладывать ухо к земле (смех), и когда он прикладывает его к земле, то он слышит шаги истории. Очень может быть, что это так и есть на самом деле. Но одно все-таки надо признать, что т. Зиновьев, умеющий прикладывать ухо к земле и слышать шаги истории, не слышит иногда некоторых «мелочей» (Сырцов: «Он другим ухом слушал»). Может быть, оппозиция и умеет, действительно, прикладывать уши к земле и слышать такие великолепные вещи, как шаги истории. Но нельзя не признать, что, умея слышать великолепные вещи, она не сумела услышать ту «мелочь», что партия давно уже повернулась спиной к оппозиции, а оппозиция осталась на мели. Этого они не услышали. (Голоса: «Правильно!»)
Что же из этого следует? А то, что у оппозиции, очевидно, уши не в порядке. (Смех.)
Отсюда мой совет: товарищи из оппозиции, лечите свои уши! (Бурные продолжительные аплодисменты. Конференция, стоя, провожает т. Сталина.)[220]
Основываясь на убеждении, что все написанное и сказанное не вершителями закона и смысла обретает истинный смысл только в устах верховных правителей и только в их репрезентации, Сталин не просто цитирует конкретных лидеров оппозиции – он их представляет в значении represent как почти перформативного акта вызова в настоящем (present) некоего образа, который иначе был бы ограничен рамками письма (как у Троцкого) или же походя сказанной фразой (у Зиновьева). Подобное представление сопровождается комическим эффектом – неизбежным следствием переноса прежде написанного или сказанного из одного медиума в другой, в другие контекстуальные, временные и ситуативные рамки. Кроме того, метафора, однажды употребленный словесный оборот, превратившись в развернутый тезис, приобретает в полном смысле этого слова анекдотический характер по отношению к настоящему. В этом Сталин очень напоминает Ивана Грозного, любившего комические эффекты в общении с врагами. Деспотичный монарх тоже ценил комический потенциал цитат, многократно повторенных с подчеркнутой точностью, копируя стиль адресата и его манеру говорить, будь то на письме или же в личном общении[221].
Приведенные примеры показывают, как два противоположных стиля – и чрезмерно туманный, наукообразный способ изложения Троцкого, и слишком «простецкие» образы Зиновьева – оказываются смешными в представлении вождя. В принципе, не так важно, как именно или что именно говорили политические противники Сталина. Эффект смешного в данном случае достигается не формой или содержанием высказываний его оппонентов, а приемом преувеличения, утрирования, укрупнения деталей при их изложении.
Ролан Барт утверждал, что «каждый режим обладает собственным письмом, история которого до сих пор еще не написана»[222]. Это верно, как верно и то, что стратегии письма каждого режима напрямую связаны со стратегиями прочтения фактов и явлений, которые предшествовали или сопутствовали его появлению. Поскольку чтение (чужих текстов) и письмо (производство собственных текстов) тесно взаимосвязаны, герменевтические методы авторитарного режима неизбежно приобретают законополагающий характер, и ремарки «смех» в стенограммах сталинских выступлений – неотъемлемая часть этой дисциплинарной герменевтики. Аудитория приучается к тому, что оппоненты ошибаются, ибо до смешного неверно интерпретируют события, находят неверный стиль выражения, употребляют гротескно неподходящие метафоры. Приучаясь смеяться, широкие массы партийцев узнают, как следует аккумулировать и перерабатывать голос оппонента/врага; это важный урок чтения и репрезентации.
Анализируя язык официальных документов, Бертон и Карлен замечают, что «авторство само по себе является коннотативным эффектом дискурса, [ибо] дискурс производит автора, а не наоборот». Используя терминологию Жака Лакана, исследователи продолжают: «…Автор становится Другим. Но реально существующий разрыв между автором и Другим всегда оставляет открытой вероятность того, что текст получит „несанкционированное“ прочтение и что автор будет прочитан в форме, радикально эксцентричной по отношению к нему самому»[223]. Этот потенциал «несанкционированного прочтения» и использует в данном случае Сталин, буквально создавая авторов текстов, эксплуатируя демократический принцип предоставления права голоса оппонентам – пусть этот голос и опосредован одним всевластным лидером, – подготавливая почву для обвинений авторов на основе их же собственных слов в репрезентации суверена. Вождь выступает здесь в роли комика, даже шута – не переставая при этом быть всемогущим властителем. Только властителю-шуту можно говорить от имени любого, утрируя, нарушая меру, празднуя «несанкционированное» автором прочтение.
Стиль, сам способ выражения оппозиционеров смешон еще и потому, что свидетельствует об их отрыве от коллектива – то есть от общепринятой линии выражения мыслей и их прочтения. Поэтому и обвиняется оппозиция прежде всего в упрямстве и пренебрежении волей большинства. Ошибочность эта представляется как некоторая объективная категория, нечто, что ясно и Сталину, и простым рабочим, и даже, как кажется, самим оппозиционерам, которые упорствуют и отвергают дружеский совет несколько смягчить формулировки своей вопиюще неверной политической платформы:
215
См.: Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1991. Р. 41.
216
Игал Халфин – историк, уделяющий первостепенное значение дискурсивному измерению пенитенциарных практик сталинизма, – отмечает в качестве одной из характерных особенностей сталинских юридических практик то, что «юриспруденция не была ограничена определенной сценой, не имела четко очерченной сферы действия» (Halfin I. Stalinist Confessions: Messianism and Terror at the Leningrad Communist University. University of Pittsburgh Press, 2009. Р. 14).
217
Foucault M. Two Lectures // Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon, 1980. Р. 97.
218
Цит. по: Сталин И. В. О социал-демократическом уклоне в нашей партии: Доклад на XV Всесоюзной конференции ВКП(б) 1 ноября 1926 г. // Сталин И. В. Сочинения. Т. 8. М.: ОГИЗ; Гос. изд-во полит. лит., 1948. С. 276.
219
Цит. по: Сталин И. В. Заключительное слово по докладу «О социал-демократическом уклоне в нашей партии» на XV Всесоюзной конференции ВКП(б) 3 ноября 1926 г. // Сталин И. В. Сочинения. Т. 8. С. 354, 355.
220
Там же. С. 356.
221
Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 32–33.
222
Barthes R. Writing Degree Zero. Beacon Paperback, 1970. Р. 25.
223
Burton F., Carlen P. Official Discourse: On Discourse Analysis, Government Publications, Ideology and the State. London: Routledge, 1979. Р. 32.