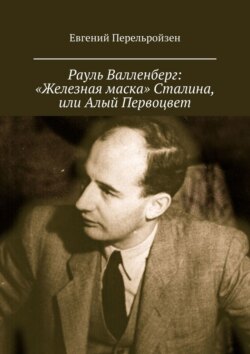Читать книгу Рауль Валленберг: «Железная маска» Сталина, или Алый Первоцвет - Е. З. Перельройзен, Евгений Перельройзен - Страница 4
Часть 1. Алый Первоцвет
Глава 1. Клан Валленберг
Оглавление«Быть, но быть невидимым» («Esse non-Videri»)
Девиз клана Валленберг
1.1 Основатель клана Андре Оскар и его сыновья
Основателем финансово-промышленной империи Валленберг был Андре Оскар Валленберг (1816—1886).
Андре Оскар Валленберг
Именно он в 1856 году основал частный семейный банк – «Stockholms Enskilda Bank (Стокгольмс Эншильда Банк)» (SEB) и тридцать лет был его генеральным директором (1856 – 1886). У Андре Оскара было в общей сложности 20 детей (от двух жен плюс внебрачные дети). Достаточно подробное генеалогическое дерево клана Валленберг можно найти в книге [1]. Автор сразу хочет сказать читателю, что не намеревается в этой книге писать историю этого клана. Все сведения о нем, которые будут приведены, необходимы для понимания судьбы нашего героя – Рауля Валленберга. Один российский писатель написал в своей книге, что Андре Оскар «не вел свою родословную от викингов». Видимо, эта «изящная» формулировка должна была подсказать читателю, что он был еврей. Нет, вынужден огорчить (или обрадовать?) того писателя: Андре Оскар, да, был потомком викингов (конечно, если считать, что таковы шведы). До середины ХХ века лишь один человек, носящий фамилию Валленберг, имел в своих жилах малую толику еврейской крови. Это был наш герой – Рауль Валленберг. Он был на одну шестнадцатую еврей.
Кнут Валленберг
Лишь два сына Андре Оскара – Кнут Валленберг (1853—1938) (министр иностранных дел Швеции в 1914—1917 гг.), а затем его сводный брат Маркус Валленберг-старший (1864—1943) пришли к руководству SEB: Кнут был генеральным директором SEB (1886—1911) и председателем совета директоров SEB (1911—1914 и 1917—1938), Маркус Валленберг-старший был генеральным директором SEB (1911—1920) и председателем совета директоров SEB (1938—1943).
Маркус Валленберг старший
С 1938 года (после смерти Кнута) Маркус Валленберг-старший стал главой семейного банка и выросшей на его основе семейной финансово-промышленной «империи», контролируемой через многочисленные сегодня инвестиционные фонды клана Валленберг (все это принято называть «сферой Валленберг»). Еще один сын Андре Оскара – Аксель Валленберг (1874—1963) – был одно время членом совета директоров SEB, послом Швеции в США, совладельцем лесопромышленных компаний и основал транспортную компанию. Отметим, что вторым по старшинству сыном Андре Оскара был Густав Валленберг (1863—1937), участие которого в «сфере Валленберг» ограничивалось лишь владением скромных пакетов акций предприятий, принадлежащих к ней [1,2]. Он и был дедом нашего героя, Рауля Густава Валленберга.
Густав Валленберг
1.2. Густав Валленберг, дед героя
Густаву Оскару Валленбергу на момент рождения внука исполнилось 49 лет. Он родился в 1863 году в Стокгольме и был старшим сыном Андре Оскара и Анны фон Сидов (которая в течение 21 года родила своему супругу четырнадцать детей). Кнут Валленберг доводился ему старшим сводным братом, а Маркус Валленберг – младшим родным братом. Как и Маркус, Густав учился на морского офицера, но в отличие от него продолжил образование и дослужился до капитана. Однако в начале 1890-х годов, оставив офицерскую карьеру, посвятил себя предпринимательской деятельности, главным образом в сфере пароходства. Его особенно интересовали вопросы транспортировки, развитие навигации и торговых связей Швеции, за которые он ратовал как член парламента (от партии либералов) и в бесчисленных газетных статьях.
Густав Валленберг был предприимчивым, энергичным и импульсивным человеком, не лишенный и некоторого авантюризма. Своей экспансивностью он отличался от Кнута и Маркуса, девизом которых был семейный принцип Валленбергов – «быть, но быть невидимым». Густав вошел в правление SEB, но произошло это из-за отсутствия других кандидатов. Когда в следующем году Кнут предложил его в качестве вице-президента правления банка, Маркус ответил решительным отказом. Все последующие годы отношения между Густавом и Маркусом были напряженными и это сказалось на судьбе внука Густава, Рауля Валленберга. Маркус считал, что Густав не рассудителен, и впоследствии его отстранили от дел в семейном банке.
Густав Валленберг, выбрал карьеру дипломата. После того, как в 1906 году он был назначен послом Швеции в Японии (а с 1907 года и в Китае), отношения между братьями (внешне?) улучшились. Когда несколько лет спустя Густав был обвинен коллегами в разглашении содержания шведско-китайского торгового договора, прежде чем тот дошел до шведского МИДа, а также, в том, что будучи на государственной службе выставил на продажу в Японии собственные суда, Маркус взял его под защиту. Густав получил выговор от МИДа, но не лишился своего поста. Через несколько лет Маркус спас Густава, когда тот по ошибке выступил в качестве поручителя по огромному гарантийному обязательству. Вместе с Кнутом Маркус предоставил гарантии, в результате чего Густав освободился от своих обязательств, за что горячо благодарил братьев. «Надеюсь, его благодарность выразится в том, что он никогда больше не станет заниматься бизнесом» – прокомментировал это Маркус в письме к Кнуту. Густав оставил бизнес.
Кроме двух дочерей, у него был сын Рауль Оскар (1888—1912), ставший морским офицером. Густав видел своего сына, в общей сложности, считанные недели в течение жизни сына, пытаясь воспитывать его на расстоянии порядка десяти тысяч километров при помощи писем. Рауль Оскар женился на красавице Май Висинг, дочери первого в Швеции профессора неврологии Пера Висинга, происходившего из рода евреев, давно принявших в Швеции лютеранскую веру (Май была на одну восьмую еврейкой). У них родился сын Рауль, наш герой. Но родился он через несколько месяцев после смерти отца от скоротечной саркомы [1,2].
Эти два обстоятельства: невхожесть деда Густава в «сферу Валленберг» и ранняя трагическая смерть отца Рауля Оскара, имевшего по старшинству преимущество перед сыновьями Маркуса на занятие руководящих постов в SEB, оказали решающее влияние на всю судьбу нашего героя, Рауля Густава Валленберга – ему уже не было места в «сфере Валленберг», как мы увидим далее.
1.3. Рауль Оскар Валленберг, отец героя
Отец Рауля, сын Густава и Анни Валленбергов, родился 13 июля 1888 года. Густав Валленберг в юности был морским офицером, и мальчика крестили в стокгольмской церкви, приход которой состоял из военно-морских офицеров и членов их семей.
Рауль Оскар Валленберг
Рауль Оскар был у своих родителей первым ребенком и единственным сыном. Необычное имя, возможно, было навеяно чтением романов Александра Дюма: Раулем зовут сына мушкетера Атоса. Позднее на свет появились две дочери: Карин (родилась в 1891 году) и Нита (родилась в 1896 году).
Сыновья в семействе Валленбергов по традиции учились сначала в школах-пансионах за границей, а затем в Королевском военно-морском училище в Стокгольме. Школа, где в течение трех лет учились Густав и Маркус находилась под Штутгартом: «классическая, математическая и коммерческая школа для юных джентльменов». В основе преподавания лежали идеи просвещения и прогресса, милые сердцу Андре Оскара. После этой школы мальчики попали в военно-морское училище в Стокгольме, в точности повторив путь отца. Карьера морского офицера во второй половине XIX века привлекала многих молодых людей из высших слоев общества.
В отличие от отца и дяди, Рауля Оскара не послали в пансион, а отправили в Новое элементарное училище в Стокгольме, проводившее в жизнь важные педагогические новшества: признание ненужности телесных наказаний, факультативное изучение классических языков и посещение богослужений по желанию). Однако традиция учебы за границей сохранялась: летние каникулы Рауль проводил в Германии и Англии, а весной 1902 года его отправили на год учиться в Париж.
С осени 1903 года Рауль Оскар приступил к учебе в Военно-морском училище. Учеба была рассчитана на шесть лет. После успешно сданного экзамена курсанту присваивалось звание мичмана, а затем младшего лейтенанта. Теоретическое образование дополняли военная подготовка и морские экспедиции в другие страны. С 1904 по 1909 год Рауль Оскар объездил весь мир, посетив не менее 24 городов. 28 октября 1909 года он сдал выпускной экзамен на звание морского офицера и вышел из училища третьим учеником из 18 курсантов курса. Наивысшие баллы (по гражданским дисциплинам) он получил по родному языку, английскому, немецкому и французскому, а также политологии и рисунку. По алгебре было всего лишь «хорошо».
Рауль Оскар обладал художественным дарованием. Любил рисовать военные корабли и морские сюжеты, делал копии известных живописных полотен. Усыпальница клана Валленберг в их родовом поместье Мальмвике была выстроенная по эскизам Рауля Оскара.
Рауль Оскар был энергичным молодым человеком с живой фантазией, чувством юмора и острым взглядом. После военно-морского училища он служил во Флоте береговой обороны. Первоначальной его целью было стать лейтенантом, на что требовалось три года.
Май Висинг
Зимой 1910 года Рауль Оскар влюбился. Предметом любви Рауля стала Май Висинг, дочь врача, профессора Пера Висинга и его жены Софи. Май, пишет он, «здоровая, сильная и развитая девушка, способная за полдня пройти пешком 30 км. К тому же у нее необычайно изящная и хорошая фигура», она «по сути очень серьезная и очень целеустремленная», но одновременно «очень веселая, оживленная». И он, и Май отнеслись к случившемуся «крайне серьезно», поскольку они «ужасно боятся, каждый по своим причинам», что родители не одобрят их образ действий – то есть что Рауль Оскар попросил ее руки, не уведомив сначала собственных родителей.
Страх был небезоснователен. Что касается родителей Май, то с ними проблем не было, они имели возможность наблюдать за влюбленными с близкого расстояния с самого начала и были убеждены, что молодые обладают «лучшими предпосылками стать счастливой парой». Но отец Рауля с 1906 года занимал пост шведского посланника в Токио и ни разу не видел будущей супруги сына (добавим, что и сына он видел редко и воспитывал его… по переписке). К тому же Густав Валленберг неоднократно предупреждал сына об опасности со стороны «коварных сирен, жаждущих поймать юношу в свои сети». Однако в результате переписки с сыном он согласился на этот брак.
Венчание состоялось 27 сентября 1911 года. Перед красивой парой открывались самые блестящие перспективы. Они поселились в четырех-комнатной квартире в центре Стокгольма. В том же доме находилась большая угловая квартира родителей Май. Но радость оказалась недолгой. Перед Рождеством Рауль заболел, и в январе 1912 года врачи поставили диагноз «саркома», рак костного мозга, чаще всего поражающий молодых. Когда Рауль заболел, ему было 23 года.
Болезнь развивалась стремительно, но и от больного, и от его молодой жены скрывали, что надежды нет. Ничем помочь было нельзя, разве что уменьшить боли. 23 апреля 1912 года Маркус Валленберг сообщал брату Густаву, что сын его переносит свое положение мужественно: «Я иногда захожу к нему и пытаюсь развлечь разговором. К сожалению, ничего нельзя сделать. Лучший его друг теперь – морфий».
Рауль Оскар скончался 10 мая 1912 года и был похоронен четыре дня спустя. Первым в своей семье он был погребен в усыпальнице в Мальмвике, построенной по его собственным эскизам. «Было поучительно видеть, как несла свою тяжкую скорбь молодая супруга. Родители прибыть домой на погребение сына не смогли… в связи с осложнением положения в Китае Густав считал, что должен оставаться на посту… [1,2].
1.4. Май Висинг, мать героя
Пра-пра-прадед Рауля по материнской линии, еврей по имени Бенедикс, переехал в Швецию в конце восемнадцатого столетия и был одним из первых евреев, поселившихся в этой стране. Бенедикс перешел в лютеранство, женился на христианке, быстро разбогател и через год стал ювелиром при дворе короля Густава IV Адольфа. Впоследствии он был финансовым советником призванного шведами на трон короля Карла XIV Юхана, в прошлом – наполеоновского маршала Бернадота. Сын Бенедикса стал одним из пионеров шведской сталелитейной промышленности. У других его потомков обнаруживался художественный талант, семья считалась для того времени высококультурной – один из ее членов, певец, учился у Листа
К моменту смерти своего супруга Май Валленберг (1891—1979) только что исполнился 21 год, она была на седьмом месяце беременности. 5 июля 1912 года она пишет своей свекрови: «Ах, мама, что же будет с нашим крошкой? Я часто спрашиваю себя, хватит ли у меня мудрости, чтобы воспитать из него приличного человека. Бедное дитя, лишившееся своего папы!»
Начало лета Май провела в Мальмвике, где могла посещать могилу мужа. Затем она перебирается в Капста, в Лидингё – летнее местопребывание семьи Висинг. Роды наступили 4 августа. Пер Висинг писал Густаву Валленбергу: «Как ты, вероятно, уже знаешь из телеграммы, наша дорогая Май разрешилась от бремени, родив, как она сама и желала, мальчика, которого она назвала дорогим для нее именем Рауль Густав Валленберг». Роды прошли хорошо, мальчик родился весом 3 кг 300 г и сразу же взял грудь. «Сама я не в силах описать то счастье, которое переживаю от того, что у меня есть этот младенец, живое напоминание о моей счастливой любви», – писала Май свекру.
Май и Рауль Валленберг
С момента рождения Рауля Густав Валленберг перенес на внука все свои планы и амбиции, которые прежде связывал с сыном. В 1919 году он стал официальным опекуном Рауля.
После кончины мужа Май вернулась в родительский дом. Она полностью отдалась заботам о малыше. Вскоре пришла новая беда. Отец Май заболел воспалением легких и умер 5 декабря 1912 года. Мать и дочь в течение одного года потеряли мужей, для обеих Лилле-Рулле (Раульчик) стал играть роль маленького «дорогого утешителя». Рауль – основная тема писем, написанных за эти годы Май свекру и свекрови, которых она постоянно держала в курсе всех новостей жизни ребенка. Из писем следует, что Май и Рауль общались в основном с родственниками, включая, родных по линии Валленбергов. В рождественский сочельник Май с Раулем ездит к «дяде Маркусу». Они частые гости в Мальмвике, и Маркус Валленберг в октябре 1913 года очень постарался, чтобы в склепе было не так влажно, что принесло Май «совершенно безграничное счастье» [1,2].
1.5. Якоб и Маркус-младший Валленберги, дяди героя
У Рауля-старшего были двоюродные братья и сестры, все моложе его, – четыре девочки и два мальчика, дети Маркуса Валленберга-старшего, дяди Рауля Оскара. Мальчики – Якоб, родившийся в 1892 году, и Маркус Валленберг-младший (Додде), родившийся в 1899 году, – получили образование, призван-ное способствовать их карьере в SEB. Будучи самым старшим среди кузенов, Рауль Оскар в своем поколении был первым претендентом на руководящую роль в этом банке. Как только его не стало, эстафетная палочка перешла к его кузену Якобу, который был на четыре года моложе и осенью, в год смерти Рауля, закончил военно-морское училище. Якоб мечтал о продолжении карьеры морского офицера, но отец и дядя Кнут Валленберг заставили его оставить эти планы и начать работать в банке.
Якоб Валленберг
В книге [1] можно увидеть трогательную фотографию рабочего места двух братьев-банкиров: придвинутые вплотную друг к другу письменные столы Якоба и Маркуса-младшего, словно олицетворяющих их братское единство и дружбу. Якоб был генеральным директором банка SEB в 1927 – 1946 гг. Затем на этом посту его сменил Маркус-младший (1946 -1958 гг.), а Якоб занял самый главный пост в банке SEB – председателя совета директоров (1950 – 1969 гг.).
Маркус Валленберг младший
Маркус-младший уступил пост генерального директора своему старшему сыну Марку (1958 – 1971 гг.), который занимал этот пост почти до самого слияния семейного банка Валленбергов «Stockholms Enskilda Bank» с еще одним крупным шведским банком «Skandinaviska Banken» 1 января 1972 года (за два месяца до слияния Марк Валленберг покончил жизнь самоубийством …). Якоб Валленберг был против этого слияния и между братьями возник бескомпромиссный конфликт, в результате которого Маркусу-младшему удалось изгнать Якоба из SEB в 1969 году и самому занять пост председателя совета директоров SEB (1969 – 1971). Образовавшийся в результате слияния этих двух крупных банков «Skandinaviska Enskilda Banken» мог на равных конкурировать с крупнейшими мировыми банками (сегодня активы этого нового SEB превышают треть триллиона долларов). После смерти Марка, ключевой пост в новом SEB занял второй сын Маркуса Валленберга-младшего – Петер Валленберг (1926 – 2015), а сегодня председателем совета директоров банка является сын Марка Валленберга – Маркус Валленберг (1956 -).
Якоб и Маркус-младший, двоюродные дяди нашего героя, Рауля Густава Валленберга, сыграли в его судьбе отрицательную роль. Их отец, Маркус Валленберг-старший, еще в то время, как Рауль безмятежно учился в Мичиганском университете, стал предпринимать некоторые усилия, чтобы нейтрализовать попытки Густава Валленберга, деда Рауля, трудоустроить его в семейном банке, и тем самым сохранить «сферу Валленберг» лишь для своих сыновей и их будущего потомства (см. ниже – глава 2, п.2.4). Эти усилия были им продолжены по возвращению Рауля из Америки. В этой деятельности Маркус-старший получил полную поддержку своих сыновей и дочери Гертруд, которая нашла в Рауле «так много еврейского» (глава 3, п.3.3.). Читатель может убедиться, читая переписку Рауля с его дядями Маркусом-младшим и Якобом, что они полностью блокировали вход в «сферу Валленберг» для Рауля в 1937 – 1941 гг., когда он после смерти деда, так и не сумевшего обеспечить внуку начало нормальной трудовой деятельности, безуспешно искал для себя работу.
И это несмотря на многочисленные возможности трудоустройства в обширной финансово-промышленной империи Валленбергов, к тому же, сильно разросшейся в то самое время из-за поглощения самых лакомых кусков рухнувшей империи Ивара Крейгера (глава 3, п.3.3.). В годы войны Якоб и Маркус-младший участвовали в попытках организации сепаратных переговоров между западными союзниками и представителями консервативной антигитлеровской оппозиции («черной капеллы») (глава 4, п.4.8), а также были замешаны в тайном сотрудничестве с германской военной промышленностью (именно поэтому на банк после войны были наложены американские санкции, а Якоб почти на четыре года (1946 – 1950) «ушел в подполье», оставив пост генерального директора банка SEB) (глава 14). За всей этой деятельностью внимательно следили советские разведчики сразу нескольких ведомств (НКГБ, ГУКР СМЕРШ, РУ ГШ РККА) и их соответствующая информация достигала Сталина. Расплатился за это в будущем Рауль Валленберг, оставшийся за пределами «сферы Валленберг», но носящий одинаковую со своими двоюродными дядями фамилию… Участие Якоба и Маркуса-младшего в борьбе за освобождения Рауля из недр ГУКР СМЕРШ – МГБ СССР ограничилось визитом Маркуса-младшего к советскому посланнику А. М. Коллонтай в советскую миссию в Стокгольме и написанием ей двух писем, после того, как она была спешно «эвакуирована» из Стокгольма в Москву (глава 8, п.8.2). В дальнейшем братья-банкиры отказывались встречаться с представителями «комитетов Валленберга», общественной организации, боровшейся за освобождение Рауля. Сын Маркуса-младшего в середине 90-х годов прошлого века отказался финансировать исследовательскую работу в советских архивах сводного брата Рауля, Ги фон Дарделя, и закрыл ему доступ в архивы банка SEB (глава 2, п.2.1)…
1.6. Ивар Крейгер и его империя
Ивар Крейгер родился 2 марта 1880 года в шведском приморском городке Кальмар в семье Эрнста Августа и Женни Эмили Крейгер и был их старшим сыном. Отец Ивара был владельцем трех маленьких спичечных фабрик. Окончил школу на два года раньше обычного, беря частные уроки. В 16 лет стал студентом Королевского технологического института в Стокгольме, который закончил в возрасте 20 лет, получив вторую степень магистра сразу двух факультетов: механического и гражданского строительства.
После окончания учебы провел 7 лет за границей, путешествуя и работая инженером в США, Мексике, Южной Африке и других странах, но большую часть времени он провел в США. Работая в различных инжиниринговых компаниях, он познакомился с новой запатентованной системой для железо-бетонных конструкций, которая в то время не использовалась в Швеции. В 1907 году ему удалось получить представительские права на эту систему как на шведском, так и на немецком рынках, и в конце 1907 года он вернулся в Швецию с целью внедрения новой технологии в обеих странах одновременно.
В мае 1908 года Крейгер основал строительную фирму Kreuger & Toll в Швеции вместе с инженером Паулем Толлом и своим кузеном Хенриком Крейгером. Новый способ строительства зданий в то время не был полностью признан в Швеции, и для того, чтобы внедрить новую технологию, Крейгер прочел несколько лекций и написал иллюстрированную статью по этому вопросу в ведущем техническом журнале. Эта новая технология строительства зданий оказалась успешной, и фирма выиграла несколько престижных контрактов, таких как строительство Стокгольмского Олимпийского стадиона (1911—12 гг.), возведение фундамента для новой Стокгольмской ратуши (1912—13 гг.) и универмага NK (1913—14 гг.) в Стокгольме.
В течение шести лет после регистрации компания Kreuger & Toll получила годовую прибыль в размере около 200 000 долларов США и выплатила существенный дивиденд в размере 15%. В 1917 году компания была разделена на две отдельные компании: Kreuger & Toll Construction AB (большинство акций принадлежало Паулю Толлу, а Ивар Крейгер не был даже членом совета директоров этой строительной компании) и Kreuger & Toll Holding, которая стала финансовой холдинговой компанией Ивара Крейгера. Он был ее генеральным директором и основным акционером. Совет директоров состоял из Ивара, его отца, Пауля Толла и двух очень близких коллег Ивара Крейгера. После того, как Ивар принял участие в управлении спичечными фабриками своего отца в Кальмаре, он перешел на «строительство» новых компаний или на приобретение контроля над другими компаниями, обычно оплачивая это своими ценными бумагами вместо денег, вместо строительства зданий и мостов. Таким образом, к 1927 году Ивар приобрел банки, горнодобывающие компании, железные дороги, фирмы по производству лесоматериалов, бумаги и фильмов, недвижимость в нескольких европейских городах, а также контрольный пакет акций ведущей телефонной компании Швеции «Эриксон» (L.M. Ericsson & Co). Он контролировал около 50% мирового рынка железной руды и целлюлозы, владел рудниками по всему миру, в том числе рудником Болиден (Boliden) в Швеции, который был одним из самых богатых месторождений золота за пределами Южной Африки.
В 1911—12 годах три спичечные фабрики семьи Крейгера столкнулись с финансовыми проблемами. Банкир Крейгера, Оскар Ридбек, посоветовал ему превратить эти фабрики в акционерную корпорацию, чтобы привлечь капитал. Это стало отправной точкой для реформирования шведской спичечной индустрии, а также основных компаний-партнеров в Норвегии и Финляндии. Цель состояла в том, чтобы получить контроль над всей спичечной отраслью в Скандинавии. С этой целью Крейгер впервые основал шведскую корпорацию AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik в 1912 году. Далее, в результате ряда успешных поглощений других компаний, в 1917 году появился монополист шведской спичечной промышленности, принадлежащий Ивару Крейгеру – «Шведская спичка» (Svenska Tändsticks AB).
Ивар Крейгер
Крейгер не только приобретал компании, но и проявил новый образ мышления в шведской спичечной промышленности с крупномасштабными производственными мощностями, идеями для повышения эффективности производства, администрирования, распределения и маркетинга. Ему удалось объединить шведскую спичечную отрасль, а также крупнейшие спичечные компании в Норвегии и Финляндии. Благодаря этому спичечная индустрия в Скандинавии стала сильным конкурентом крупных производителей спичек в других странах. Методы Ивара Крейгера напоминали те, которые Джон Д. Рокфеллер использовал при создании Standard Oil Trust, превращающие десятки борющихся фабрик в сильную и прибыльную монополию. Эти методы стали незаконными в США из-за антимонопольных законов, но в то время они не были противозаконными в Швеции. Шведы улучшили дизайн, используя более безопасный красный фосфор, и назвали свои спички «безопасными спичками». Они сделали Швецию ведущим экспортером спичек и спички стали самым важным шведским экспортом: в начале 20-го века спички были необходимы для курения, освещения печей и газовых приборов и поэтому спрос на них был крайне неэластичным: монополист мог повысить цены (и, следовательно, прибыль), зная, что это незначительно повлияет на объем продаж в будущем. Расширяя компанию Swedish Match благодаря приобретению монополий, созданных правительством, шведская компания стала крупнейшим в мире производителем спичек. В конечном счете Крейгер основал в Нью-Йорке «Международную Спичечную корпорацию» (International Match Corporation), которая контролировала почти 75% мирового производства спичек.
С 1925 по 1930 годы, когда многие страны Европы никак не могли оправиться от ущерба, нанесенного Первой мировой войной, компании Крейгера предоставляли кредиты правительствам этих стран для ускорения реконструкции. В качестве обеспечения этих кредитов правительства предоставляли Крейгеру монополию на производство и продажу спичек в своей стране. Капитал Крейгер увеличился в значительной степени за счет кредитов шведских и американских банков в сочетании с выпуском большого количества облигаций. Крейгер также часто переводил деньги с одной корпорации, которую он контролировал на другую. Крейгер не ограничивался спичками: он получил контроль над большей частью лесной промышленности в северной Швеции и планировал стать главой целлюлозного картеля. Он также попытался создать телефонную монополию в Швеции. После основания производителя целлюлозы SCA в 1929 году, Крейгер смог приобрести большинство акций телефонной компании «Эриксон» и горнодобывающей компании «Болиден» (золото), контрольный пакет акций производителя шарикоподшипников SKF, банк «Skandinaviska Kreditaktiebolaget» и т. д. За границей он приобрел Deutsche Unionsbank в Германии и Union de Banques Paris во Франции. Эти операции стали возможными благодаря изобретению Крейгером финансовой инженерии в печально знаменитом стиле корпорации Enron нашего времени, которая сообщала о прибылях, когда их не было, и выплачивала все увеличивающиеся дивиденды за счет привлечения новых инвестиций и / или расхищения капитала вновь приобретенных компаний.
К 1931 году Крейгер контролировал около 200 компаний. Тем не менее, крах фондового рынка 1929 года оказался основным фактором в раскрытии его бухгалтерского учета, которое в конечном итоге оказалось фатальным как для него, так и для его империи. Весной 1930 года Крейгер посетил Соединенные Штаты и прочитал лекцию о ситуации в мировой экономике в Индустриальном клубе Чикаго под названием «Проблема переноса и ее важность для Соединенных Штатов». Он был приглашен президентом Гувером в Белый дом, чтобы обсудить этот вопрос, а в июне ему был присвоен звание «Доктор делового администрирования» Университетом Сиракуз, где он работал молодым главным инженером, когда в 1907 году там был построен старинный стадион «Арболболд». В 1929 году, на пике его карьеры, состояние Крейгера оценивалось в 30 миллиардов шведских крон (приблизительно 100 миллиардов долларов США в 2000 году), и состояло из более чем 200 компаний. В том же году общий объем кредитов, выданных Крейгеру шведскими банками, составил 4 миллиарда шведских крон [3].
Банкиры Валленберг были во вражде с «империей» Ивара Крейгера. Случилось так, что это повлияло на судьбу Рауля Валленберга.
Важнейшими среди переговоров о концессиях и лицензиях, которые СССР вел во второй половине двадцатых годов прошлого века с иностранными фирмами, были переговоры с могущественной спичечной монополией Ивара Крейгера «Свенска тэндстикс АБ» («Шведская спичка»). Имелась в виду концессия на все производство спичек в СССР. В течение 1922 – 1928 гг. перезаключались ежегодные соглашения о покупке этой компанией осинового леса взамен поставок оборудования советским спичечным фабриками.
В 1925 году Крейгер предложил советскому правительству уступить ему монопольное право на все производство и продажу спичек в СССР в обмен на предоставление крупного займа советскому правительству в 50 млн. долларов.
Крейгер уже имел подобные соглашения с рядом правительств Восточной Европы и Латинской Америки. В 1927 году был согласован текст соглашения и одобрен советской стороной, но Крейгер внезапно отказался от сделки, возможно, под влиянием разрыва советско-британских дипломатических отношений в мае 1927 года. Началась торговая война цен. С тех пор Ивар Крейгер, «спичечный король», стал яростным врагом Советского Союза. Его огромная финансово-промышленная «империя» представляла серьезную силу. Советский Союз, в свою очередь, стремился нанести урон сердцевине «империи» Крейгера – тресту «Шведская спичка», используя демпинговые цены на советские спички, идущие на экспорт [4].
Вот, что можно прочитать в популярной тоненькой книжке для юного читателя, вышедшей в СССР в 1934 году [5]: «После революции вплоть до 1922 г. экспорта спичек из СССР не производилось. Но уже в 1922/23 г. на первой Бакинской ярмарке было продано и вывезено в Персию около 30 тыс. ящиков. Вслед за этим наши спички начали завоевывать турецкий, греческий, а потом западноевропейские и даже американские рынки. В 1927/28 г. наш экспорт уже в 2 1/2 раза превысил довоенный, и мы заняли одно из первых мест на мировом спичечном рынке. Само собой разумеется, что успешная конкуренция советских спичек пришлась совсем не по вкусу капиталистическим спичечным монополистам, и они повели отчаянную борьбу против советского экспорта, не брезгуя при этом никакими средствами. Как вам понравится например такое письмо, адресованное германской фирмой одному из своих представителей:
ГЕРМАНИЯ
А. РОЛЛЕР
ТОРГОВОЕ О-ВО
ПО ПРОДАЖЕ СПИЧЕЧНЫХ МАШИН
Берлин 1929 г.
М. Г.
Как вы знаете, русские сбывают в Германии и других странах спички за бесценок. Поставив русским большое количество спичечных машин и предоставив им продолжительные кредиты, мы в настоящее время подвергаемся недоброжелательным пересудам со стороны промышленности тех стран, которым русская конкуренция приносит вред. Мы узнали, что вы также продаете русские спички; когда узнают, что вы представляете и нашу фирму, этот факт будет способствовать разжиганию злобы против нас. Поэтому мы должны просить вас прекратить продажу русских спичек и обязать не производить подобной продажи и в будущем. Если вы не согласитесь с нашим предложением, нам придется 30 сентября отказаться от продления нашего контракта с вами.
Но бойкот предприятий, торгующих нашими спичками, – это только один из многочисленных методов борьбы взбесившихся капиталистов и, пожалуй, один из сравнительно «невинных». Изобретательные монополисты выкидывали штуки и почище этого. Вот, например, в Персии появляются в продаже советские спички, которые оказываются никуда негодными, так как они вовсе не зажигаются. Эти спички были предварительно скуплены нашими конкурентами и выдержаны продолжительное время в сырых помещениях. В Германии закрывается несколько спичечных фабрик, и рабочим, очутившимся вдруг перед ужасами безработицы, говорят, что это происходит из-за «недобросовестной» конкуренции советских спичек. В печати поднимается кампания за бойкот советские спичек, так как они служат якобы «средством большевистской пропаганды и борьбы против святой религии. В Бельгии на специально созванных церковных собраниях домохозяек-прихожанок попы проводят решения о воздержании от покупки русских спичек. В Боливии подстрекают туземное население чуть не к бунту, долженствующему выражать протест против ввоза спичек из СССР. Наряду с этим помещается ряд статей о плохом, якобы, качестве наших спичек, о нашей торговой „несолидности“ и т. д. Особенно отличался в этой антисоветской кампании концерн Крейгера, основным ядром которого был Шведский спичечный трест и во главе которого стоял Ивар Крейгер. На долю этого концерна падало 3/4 мирового производства (без СССР) и 80% мирового экспорта спичек. Но кроме того Крейгер, вкладывая большие капиталы в спекуляцию недвижимостями, в правительственные займы, в ряд различных отраслей промышленности, занимался очень темными жульническими операциями. И этот жулик стал почти легендарной личностью в загнивающем капиталистическом мире. С величайшим искусством он извлекал сверхприбыли из народной нищеты, обирал доверчивую публику, бросавшуюся покупать его „самые надежные акции и облигации“, получал субсидии от шведского правительства, монополизировал в ряде стран производство и продажу спичек. Крейгер пытался навязать кабальные условия сделок и СССР, но неудачно – советская спичка не давалась ему в руки и пробивала чувствительные бреши в его монополиях. Тогда Крейгер всеми силами и средствами стал бороться против СССР. Он окружил Союз кольцом спичечных монополий чуть не во всех граничащих с нами странах, финансировал антисоветские кампании, поддерживал белоэмигрантские банды в Китае, агитировал всеми способами против наших спичек. Но костлявая рука небывалого еще в истории капитализма экономического кризиса схватила за горло и Крейгера. Окончательно запутавшись в своих темных махинациях, он в марте 1932 г. покончил самоубийством, а концерн его начал расползаться по швам… Мы проследили историю развития и выделки маленькой спички. Для того чтобы мы могли воспользоваться этой спичкой, нужна затрата труда очень многих людей: лесорубов, горняков, химиков, спичечников, транспортников и т. д. Мы видели, что этот труд может быть легким и радостным только в социалистическом обществе, а продукт этого труда – дешевым и доступным широким массам трудящихся только тогда, когда его производство обходится без участия хищников-капиталистов. И маленькая коробочка спичек, на которой написано „made in USSR“ („сделано в CCCP“), вызывает бешеную ненависть иностранных капиталистов не только потому, что она благодаря своей дешевизне угрожает их сверхприбылям, но и потому, что она является грозным напоминанием о близком наступлении и их очереди передать свои фабрики и заводы в руки трудящихся».
Действительно, в марте 1932 года случилась загадочная, внезапная смерть Ивара Крейгера, его империя распалась и начала поглощаться кредиторами. Львиная доля досталась… банкирам Валленберг (см. главу 14).
Крушение Крейгера, этого врага, отметил сам Сталин в отчетном докладе XVII съезду ВКП (б) («съезду победителей») 26 января 1934 года [6]: «… Большую роль сыграло здесь падение цен на товары. Несмотря на сопротивление монопольных картелей, падение цен росло со стихийной силой, причем падали цены прежде всего и больше всего на товары неорганизованных товаровладельцев, – крестьян, ремесленников, мелких капиталистов, и лишь постепенно и в меньшей степени товаровладельцев организованных, объединенных в картели капиталистов. Падение цен сделало положение должников (промышленники, ремесленники, крестьяне и т.п.) невыносимым и, наоборот, положение кредиторов – неслыханно привилегированным. Такое положение должно было привести и действительно привело к колоссальному банкротству фирм и отдельных предпринимателей. В продолжение последних 3 лет на этой почве погибли десятки тысяч акционерных обществ в САСШ, в Германии, в Англии, во Франции. За банкротствами акционерных обществ пошло обесценение валют, несколько облегчившее положение должников. За обесценением валют – легализованная государством неуплата долгов как внешних, так и внутренних. Крах таких банков, как Дармштадтский и Дрезденский банки в Германии, Кредит-Анштальт в Австрии, и таких концернов, как концерн Крейгера в Швеции, Инсул-Концерн в САСШ и т. д. – всем известен. Понятно, что за этими явлениями, расшатавшими основы кредитной системы, должны были последовать и действительно последовали прекращение платежей по кредитам и иностранным займам, прекращение платежей по межсоюзническим долгам, прекращение экспорта капитала, новое сокращение внешней торговли, новое сокращение экспорта товаров, усиление борьбы за внешние рынки, торговая война между странами и – демпинг. Да, товарищи, демпинг. Я говорю не о советском мнимом демпинге, о котором еще совсем недавно до хрипоты кричали некоторые благородные депутаты благородных парламентов Европы и Америки. Я говорю о действительном демпинге, практикуемом теперь почти всеми „цивилизованными“ государствами, о чем благоразумно хранят молчание эти храбрые и благородные депутаты».
1.7. Советский полпред Александра Коллонтай о Валленбергах, Крейгере и советских интересах в Швеции. «Шведская миссия» Давида Канделаки.
«Шведы помешаны на аристократизме, и я не ошибаюсь, если замечаю, что мне „прощают“ мой большевизм и что я посланник СССР потому, что я по происхождению из „хорошей“, т.е. дворянской семьи. „Сейчас видно, что мадам Коллонтай воспитывалась in einer guten Kinderstube“ (…в хорошей детской (нем.)), поймала я как-то замечание за моей спиной. Это и смешит и сердит своей глупостью.»
А. М. Коллонтай. «Дипломатические дневники»
«Когда монарх доверяет подданному государственную тайну, тот не должен удивляться, услышав по себе колокольный звон».
Английская мудрость
Дипломатические дневники советского полпреда в Швеции рассказывают об отношениях между банкирами Валленберг и Советским Союзом, вражде между Крейгером и Валленбергами, о лесе, золоте и займе… Именно тогда, в начале тридцатых годов прошлого века в памяти Сталина прочно засела фамилия Валленберг (Рауль также носил эту фамилию, он в то время кончил школу и вскоре уехал за океан учиться на архитектора в Мичиганском университете) и все, что с ней связано. Менее чем через 15 лет это разбухшее со временем «досье» в сочетании с дошедшей до Сталина 15 или 16 января 1945 года информацией, что секретарь шведской миссии в Венгрии Рауль Валленберг уже несколько дней находится в расположении 7-ой гвардейской армии, ведущей бои за Пешт, тогда как сама шведская миссия укрывается от превратностей войны на другом берегу Дуная, в Буде, пока еще прочно удерживаемой немцами, привела к роковому для судьбы Рауля решению. Это решение обрело форму письменного распоряжения заместителя наркома обороны СССР Булганина об аресте Рауля Валленберга и отправке его в Москву.
Александра Михайловна Коллонтай находилась на советской дипломатической службе 23 года. Из них 15 лет она провела в Швеции: Полномочный Представитель СССР (с 20 июля 1930 года по 9 мая 1941 года) и Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР (с 9 мая 1941 года по 27 июля 1945 года).
А. М. Коллонтай
Именно к этому, шведскому периоду относятся самые значимые ее дипломатические достижения. Однако официальная дата окончания ее работы в качестве посланника СССР в Швеции – 27 июля 1945 года – не соответствует действительности. На самом деле она покинула Швецию в «аварийном порядке» 18 марта 1945 года по приказу тогдашнего главы НКИД СССР Молотова, переданному по телеграфу вечером 17 марта. В телеграмме говорилось, что утром следующего дня за ней прилетит специальный самолет, который срочно доставит ее в СССР. Для оказания ей медицинской помощи в пути (она была частично парализована) рекомендовалось взять с собой шведского врача, который согласился бы лететь вместе с ней. В главе 8 (см. п.8.2) рассказывается, чем была вызвана эта принудительная, поспешная эвакуация: событие было тесно связано с делом Рауля Валленберга, которое омрачило, в известной степени, весь остаток жизни Александры Михайловны.
Коллонтай получила назначение на должность полпреда СССР в Швеции в 1930 году ввиду чрезвычайных событий в советском посольстве в Стокгольме.
Ее предшественник на этом посту, Копп Виктор Леонтьевич, уже несколько месяцев не мог исполнять свои обязанности – находился в больнице по поводу онкологического заболевания – и скончался от этой болезни 27 мая 1930 года.
Советник полпредства, Дмитриевский С. В., рассчитывавший стать новым полпредом и понявший, что надежды на это нет, попросил политическое убежище в Швеции. Вслед за ним последовал военно-морской атташе, резидент Разведупра Соболев А. А., бывший офицер русского флота, начавший службу в РККФ еще в 1918 году. Получив приказ вернуться в СССР и напуганный этим, он отказался выполнить приказ и вскоре уехал во Францию.
21 апреля 1930 года Коллонтай записала в седьмой тетради своего дневника: «Очень тревожное сообщение из Стокгольма, возможны большие неприятные последствия. Одна измена за другой и все же в стокгольмском полпредстве. За Дмитриевским новый предатель и посерьезнее: это военный атташе Соболев…
Срочная телеграмма из Москвы: Политбюро назначило меня на временным поверенным в делах Швеции с оставлением меня на посту в Норвегии, выезжать немедленно… В стокгольмском полпредстве царит неразбериха и паника, два невозвращенца за две недели. Полпред Копп безнадежно болен и находится в больнице. Советника нет, остался лишь секретарь – но с ним МИД не считается: нет официальных полномочий.» [7]
Для восстановления полпредства в Швеции были назначены новые дипломаты: советник, торгпред, военный атташе, первый секретарь… Самым значимым из этих назначений стало назначение Давида Владимировича Канделаки на пост торгпреда (политбюро 20 мая 1930 года приняло предложение народного комиссариата торговли (НКТорга) СССР утвердить его торгпредом СССР в Швеции).
8 июля 1930 года Коллонтай записала в той же седьмой тетради: «Приехал новый торгпред сюда в Швецию. Кавказец. Культурный, приятная внешность, приятные манеры. Умный. Провели с ним вечер за интересной беседой. Мне с ним легко и просто. Кажется, в работе будем созвучны, если… я буду здесь, а не в Осло» [7]. Коллонтай пришлось оставить Норвегию: 20 июля решением политбюро она была назначена полпредом СССР в Швеции, однако верительные грамоты вручила королю Густаву V значительно позднее, 30 октября 1930 года, представив ему новых торгпреда и советника [8].
Давид Канделаки сменил пост наркома просвещения Грузии на должность торгпреда СССР в Швеции и покинул Швецию самом начале 1935 года.
Д. В. Канделаки
Этот человек стал первым из когорты личных дипломатических представителей Сталина (в этом ряду можно назвать Астахова, Рыбкина-Ярцева, Деканозова, Синицына-Елисеева…). Знакомый Сталина с дореволюционным стажем, дворянин, эсер в ранней молодости, проходивший в переписке охранного отделения под кличкой «Топор» [9] …Широко известна «германская миссия» Канделаки (1935—1937 гг.), которая, несмотря на отсутствие видимых результатов, подготовила почву для будущих переговоров по заключению пакта «Молотова – Риббентропа». По аналогии с этим можно назвать годы работы Канделаки в Швеции (тоже важной для Сталина) «шведской миссией» Давида Канделаки.
Это имя всплыло из небытия, наверное, в первый раз, на страницах журнального варианта романа А. Рыбакова «Тридцать пятый и другие годы (Страх)» в 1990 г. В эпизоде о размышлениях Сталина о будущих жертвах второго московского показательного процесса в начале 1937 г. читаем: «…что касается Берлина, то переговоры ведет теперь Канделаки, работает в Берлине, встречается не с третьестепенными дипломатами, как встречался Радек, а с главными руководителями рейха… На таком уровне Радек не мог вести переговоры… Не дипломат. Канделаки гораздо лучше. Радек больше не нужен…» [10]. А. Н. Рыбаков узнал, в свою очередь, о Канделаки, видимо, из книги Вальтера Кривицкого, изданной в США и Англии еще в конце 1939 года.
В. Кривицкий писал: «…Сталин уже направил в Берлин в качестве торгпреда своего личного эмиссара Давида Канделаки с тем, чтобы он, минуя обычные дипломатические каналы, любой ценой вошел в сделку с Гитлером. На заседании Политбюро, состоявшемся в это время, Сталин с уверенностью сообщил своим соратникам: „В самом ближайшем будущем мы осуществим соглашение с Германией“. В декабре 1936 года я получил задание заморозить нашу агентурную сеть в Германии. Первые месяцы 1937 года прошли в ожидании благоприятного исхода секретной миссии Канделаки. В апреле я был еще в Москве, когда он прибыл из Берлина в сопровождении представителя ОГПУ в Германии. Канделаки привез с собой проект соглашения с нацистским правительством. Он был принят лично Сталиным, уверовавшим в то, что наконец-то все его маневры увенчались успехом… Давид Канделаки, выходец с Кавказа и земляк Сталина, официально состоял советским торговым представителем в Германии. В действительности он был личным посланником Сталина в нацистской Германии… Канделаки в сопровождении Рудольфа (псевдоним секретного представителя ОГПУ в Берлине) как раз вернулся из Германии, и они оба быстро были доставлены в Кремль для беседы со Сталиным. Теперь Рудольф, который подчинялся Слуцкому по заграничной разведывательной службе, достиг такого положения с помощью Канделаки, что был направлен непосредственно с докладом к Сталину через голову его руководителя. Канделаки добился успеха там, где другие советские разведчики оказались бессильными. Он вел переговоры с нацистскими лидерами и даже удостоился личной аудиенции у самого Гитлера. Истинная цель миссии Канделаки была известна только пяти-шести человекам. Сталин считал это триумфом своей личной дипломатии, так как теперь в течение многих лет он один мог контролировать ход развития Советского государства. Только немногие из его ближайших помощников знали об этих переговорах. Наркомат иностранных дел, Совет Народных Комиссаров, то есть советский кабинет министров, и Центральный Исполнительный Комитет, возглавляемые председателем Калининым, не принимали участия в политической игре Сталина – Канделаки. Для советских внутренних кругов, конечно, не было секретом, что Сталин стремился к взаимопониманию с Гитлером. Прошло почти три года с ночи кровавой чистки в Германии, которая убедила Сталина уже в тот момент, когда произошла, что нацистский режим прочно стоит у власти и что необходимо прийти к соглашению с сильным противником. Теперь, в апреле 1937 года, после возвращения Канделаки в Москву Сталин был уверен, что союз с Гитлером дело решенное. В тот момент, когда шли переговоры с Гитлером, он уничтожал своих старых товарищей, объявив их немецкими шпионами. Он узнал, что в настоящее время Германия не представляет для него реальной угрозы. Путь для чистки Красной Армии был свободен…» [11].
В этом отрывке у Кривицкого, по крайней мере, две ошибки. Одна, не принципиальная, связана с вышеупомянутым «Рудольфом». Нетрудно выяснить, кем был этот человек. Ответ можно найти в книгах [12,13]. Речь идет о Гордоне Борисе Моисеевиче, который в 1933 году был переведен на работу в ИНО ОГПУ. С декабря 1934 года он – легальный резидент ИНО в Берлине («Рудольф», «Густав») под прикрытием должности сперва пресс-атташе, а с августа 1935 года – 2-го секретаря полпредства СССР в Германии. Привлек к сотрудничеству с советской разведкой ряд ценных источников, в том числе крупного чиновника Министерства экономики доктора Арвида Харнака («Корсиканец»), возглавившего позднее подпольную антифашистскую сеть «Красная капелла». Помимо разведывательной деятельности Б. М. Гордон действовал и на должности прикрытия, работая с контингентом советской колонии в Германии, насчитывавшей в тот период около 2 тысяч человек. Избирался секретарем парткома полпредства и парторгом колонии. В феврале – марте 1937 года в этом качестве присутствовал на печально известном пленуме ЦК ВКП (б) в Москве, открывшим фазу самого интенсивного «ежовского» террора. В мае 1937 года отозван в Москву. 20 июня 1937 года арестован. 21 августа 1937 года по обвинению в шпионаже и «за связь с врагом народа Артузовым» комиссией в составе наркомвнудела, Прокурора СССР и Председателя ВК ВС СССР приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Вполне вероятно, что Гордон был в Москве и в начале апреля 1937 года, о чем написал Кривицкий. Однако, он не сопровождал Канделаки, который также оказался в Москве в апреле 1937 года после отзыва из Германии вместе с советским полпредом в этой стране Я. З. Сурицем.
Вторая, принципиальная, ошибка заключается в том, что Канделаки не встречался с Гитлером и другими лидерами нацистов, не привез с собой проект соглашения с нацистским правительством. В тот момент Сталину удалось лишь с помощью Канделаки довести до сведения нацистского руководства, что он, Сталин, в принципе готов к установлению дружественных отношений с Германией. После этого Сталину оставалось лишь ждать, когда и у Гитлера возникнет такая же готовность (и она, как хорошо известно, возникла у Гитлера в процессе подготовки нападения на Польшу. Что же касается «чистки» Красной Армии, то Сталин считал весной 1937 года, что у него есть на это время и без соглашения с Гитлером: перед военным столкновением с СССР, которого Сталин хотел бы избежать, Гитлеру нужно было присоединить Австрию, захватить Чехословакию и Польшу…
Специалист по истории советской разведки (и сам ее сотрудник) И. А. Дамаскин причислял Канделаки к «личным разведчикам» Сталина: «… Некоторые авторы утверждают, что у Сталина действительно была личная разведка и даже был начальник личной разведки и контрразведки в генеральском звании. Официальными документами это не подтверждается, хотя мир Сталина полон такого множества тайн, что возможно все. Но скорее всего, никакой формальной службы такого плана не существовало. В то же время были люди, выполнявшие секретные разведывательные задания Сталина. Они числились по другим ведомствам, а задания Сталина носили разовый характер. Отчитывались они только перед Сталиным, и только он давал оценку их работе и решал их судьбу. Вот несколько человек из плеяды „личных разведчиков Сталина“, если их можно назвать таковыми … (вслед за Канделаки И. А. Дамаскин упоминает в этом ряду Г. А. Астахова, Б. А. Рыбкина… – прим. авт.). Давид Владимирович Канделаки (1895—1938), знакомый со Сталиным еще с дореволюционных времен, когда-то был членом партии эсеров, после революции стал большевиком, наркомом просвещения Грузии. В 1934 году Сталин вызвал его в Москву и направил в качестве торгпреда в Швецию. Но там он проработал недолго, это было как бы его стажировкой на зарубежной работе. Он выдержал экзамен, оставив у полпреда Коллонтай прекрасное впечатление о себе. После возвращения Канделаки в Москву Сталин снова принял его и имел с ним продолжительную беседу. О чем шла речь на ней, мы можем только догадываться. Дело в том, что с приходом Гитлера к власти сразу же стали ухудшаться советско-германские отношения. Германия решительно порвала с традициями Рапалло, которые были основой политического и экономического сотрудничества двух стран. Такое развитие событий шло во вред интересам СССР, но Сталин еще надеялся спасти положение. В своих выступлениях он не был особенно резок. На XVII съезде партии он говорил: „Конечно, мы далеки от того, чтобы восхищаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной“… В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом он подчеркнул свое личное дружелюбие к Германии и немецкому народу. Однако резко антисоветские высказывания Гитлера и не менее резкая отповедь, которую давала ему советская пресса (конечно же с ведома Сталина, не желавшего „терять лицо“), не позволяли искать какого-то нового сближения с Германией на официальной основе. Требовалось делать шаги, которые предпринимались бы в обход государственных дипломатических органов. Именно этим, по заданию Сталина, и должен был заняться Давид Канделаки. В 1935 году он был направлен в Германию в качестве торгового представителя…» [14]
Здесь тоже приходится сделать поправки:
• Давид Канделаки сменил пост наркома просвещения Грузии на должность торгпреда СССР в Швеции уже в 1930 году и прибыл в Стокгольм 8 июля 1930 года, еще до того, как 20 июля 1930 года А. М. Коллонтай была назначена официально полпредом СССР в Швеции [15]. Возможно, кандидатуру Канделаки поддержал перед Сталиным и А. И. Микоян (один из двух не расстрелянных бакинских комиссаров, вторым был Самсон Канделаки, один из многочисленного рода Канделаки), его наркомат торговли 22.11.1930 был разделен на два наркомата: внутренней торговли (Микоян) и внешней торговли (Розенгольц),
• назвать пребывание Канделаки в Швеции в 1930 – 1934 гг. стажировкой неправильно: когда Сталин считал нужным, дипломатическая квалификация роли не играла, тому примеры: полпред СССР в Германии Мерекалов – инженер по холодильному оборудованию, еще один полпред СССР в Германии Шкварцев – бывший директор Текстильного института, полпред СССР в Финляндии Деревянский – директор электродного завода,
• Канделаки, как будет видно далее, не нуждался в хороших отзывах Коллонтай, наоборот, Коллонтай искала расположения Канделаки, вхожего к близким родственникам Сталина и к самому вождю.
Упомянем также о появлении имени Канделаки на страницах книги Э. Радзинского [16]. Здесь загадочный Фудзи (очень похожий на С. И. Кавтарадзе, врага-друга Сталина) вспоминает о Канделаки: «… в нашем торгпредстве появился странный человек – некто Давид Канделаки. (Это был наш с Кобой давний знакомый. С шестнадцати лет он участвовал в Революции, был боевиком. После Революции стал наркомом просвещения в Грузии). По непривычно свободному поведению „странного“ Канделаки становилось понятно, что он – личный агент Кобы. Только личный посланец Самого мог затеять сверхсекретные переговоры с Ялмаром Шахтом, главой рейхсбанка, о возобновлении торговых отношений СССР с фашистской Германией. Да еще в разгар яростных официальных взаимных проклятий! Переговоры продвигались успешно, и в них участвовал Герберт Геринг, брат Германа Геринга, работавший у Шахта. Герберт передал Канделаки слова самого Геринга: „На самом деле мы не питаем ненависти к Стране Советов. Фюрер и руководство рейха питают ненависть к мировой буржуазии и к мировому еврейству, зловредной опухоли человечества. В Германии весьма позитивно оценили то, что товарищ Сталин вывел большинство евреев из руководства СССР. Руководство рейха все больше думает, что пришла пора поговорить о союзе против жадной мировой плутократии во имя мира во всем мире…“ (То же потом повторит Муссолини!) И уже тогда Шахт заявил: „Очень многое в наших взаимоотношениях могло измениться, если бы состоялась встреча Сталина с фюрером! Фюрер высоко ценит Сталина“. Однако слухи о переговорах просочились в прессу, и тотчас переговоры свернули. Слишком много знавший Канделаки по возвращении в СССР, как и положено, исчез. (Помню, впоследствии, году в сорок седьмом, я спросил Кобу о нашем хорошем знакомом. Коба только вздохнул: „Не выдержал за границей твой Канделаки, шпионом стал. Кстати, наговорил следователю, будто ты тоже шпион. Я велел сказать ему: „Не важно, что Фудзи шпион, важно, что человек хороший“, – и шутник Коба засмеялся. – Но твой Канделаки был плохой человек. Ликвидировал его Николай (Ежов). Может, и поторопился, но сам знаешь, какая у вас быстрая, решительная организация!“)» [16].
Итак, наш герой – Давид Владимирович Канделаки (1895, с. Кулаши Кутаисского уезда и губернии – 29.07.1938, расстрелян). Член партии эсеров с 1912 года, с 1918 года – член РКП (б). Был лично знаком со Сталиным с дореволюционного времени. Нарком просвещения Грузии в 1921—1930 гг. Торговый представитель СССР в Швеции (5.1930 – 12.1934 гг.) и в Германии (12.1934 – 4.1937 гг.) (в 1932 – 1934 гг. торгпредом в Германии и одновременно заместителем наркома внешней торговли был Израиль Яковлевич Вейцер, который, будучи евреем, уже не мог эффективно вести переговоры в нацистской Германии). Заместитель наркома в Наркомате внешней торговли СССР с апреля по сентябрь 1937 года. В начале апреля 1937 года было опубликовано сообщение об освобождении Д. В. Канделаки от обязанностей торгпреда СССР в Германии и в том же номере газеты публиковалось постановление Президиума ЦИК СССР о его утверждении заместителем наркома внешней торговли СССР. Вместе с Канделаки 5 апреля 1937 года был отозван и полпред СССР в Германии Я. З. Суриц, который 7 апреля 1937 года был освобожден от должности полпреда СССР в Германии и переведен полпредом во Францию. Отзыв Д. В. Канделаки и Я. З. Сурица был вызван утечкой информации, организованной немецкой стороной, о миссии Канделаки. 10 июля 1935 года он был награжден орденом Ленина. Арестован 11 сентября 1937 года в Москве и приговорён 20 июля 1938 года к расстрелу. Расстрелян 29 июля 1938 года на спецобъекте «Коммунарка». Реабилитирован 26 мая 1956 года [17,18].
Дело о награждении Канделаки орденом Ленина
«Германская миссия» Давида Канделаки наиболее подробно и точно описана Л. А. Безыменским [19]. Здесь же будет кратко рассмотрена «шведская миссия» Канделаки (1930 – 1934 гг.), о которой до сих пор есть лишь отдельные, отрывочные, не всегда точные сведения. С момента назначения торгпредом в Швецию Канделаки уже стал «личным разведчиком» Сталина. Это подчеркивает важность его «шведской миссии», подкрепляя тем самым, по мнению автора, версию о «шведской спичке» в деле Рауля Валленберга (см. главу 14). Действительно, обратим внимание на дату награждения Канделаки орденом Ленина. А. И. Ваксберг писал в своей книге [20]: «И выгодный Германии торговый договор заключил, конечно, не по своей воле, а все по той же, по той же… За этот договор Канделаки сначала был награжден орденом Ленина, потом за него же – расстрелян.» Никакого договора Канделаки не заключал [19], а орденом Ленина был награжден не в 1937, а в 1935 году (см. Постановление Президиума ЦИК СССР от 10 июля 1935 года и дело о награждении №КЗ-845/118 [21]) с формулировкой «за выдающиеся заслуги, энергию и инициативу в области внешней торговли.» Это важно: Канделаки покинул Стокгольм лишь в январе 1935 года (запись в дневнике Коллонтай от 14.01.1935 [8]): значит орденом Ленина он был награжден не за будущую «германскую миссию», а за уже выполненную – «шведскую миссию»!
Постановление ЦИК СССР о награждении Канделаки
(Лишили Канделаки ордена, уже мертвого, Указом Президиума ВС СССР от 19.02.1940 «за поступки, порочащие звание орденоносца…»)
Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Канделаки ордена Ленина
В эти годы основная работа Коллонтай также лежала в сфере торговых отношений между СССР и Швецией. Кто из них был главным в этом тандеме? Никто, наверное, не сможет ответить на этот вопрос в наше время. Все дипломатическое прикрытие было на Коллонтай, Канделаки же вел всю практическую работу и всю тайную деятельность (таковая была!) по достижению поставленных целей.
Видимых целей было три (в порядке возрастания их значимости):
• возвращение в СССР русского золота,
• заключение торгового договора с соответствующими кредитными рамками,
• заключение лесоторгового соглашения между СССР, Швецией и Финляндией об экспортных квотах.
Среди не называемых явно целей были:
• борьба против «спичечного короля» Ивара Крейгера и
• возможное сближение с финансово-промышленной «сферой Валленберг» (это способствовало бы достижению вышеперечисленных целей) и наблюдение за ее деятельностью.
Все это делалось для достижения главной цели, которую П. А. Судоплатов описал так [22]: «Мало кто знает о попытке Сталина и Молотова создать три „буферные зоны“ отношений с капиталистическим миром. Советская разведка и дипломатия действовала по трем направлениям ведения тайных переговоров о разделе сфер влияния и противодействию агрессии Германии и Японии – в Центральной Европе, Скандинавии и Китае. В Финляндии мы активно поддерживали политические партии, в частности мелких хозяев, которые выступали за то, чтобы Финляндия и Швеция стали посредниками между странами Запада и Советским Союзом в открытии постоянного коридора для поставок советского сырья в Европу. Наш посол в Швеции А. Коллонтай неоднократно высказывалась в доверительных беседах о необходимости установления особых отношений между СССР и Скандинавией. В обмен на гарантированный благожелательный нейтралитет наша страна готова была предоставить серьезные экономические льготы для Швеции и Финляндии, включая даже право реэкспорта древесины, нефтепродуктов из СССР в третьи страны.»
История с золотом была такова. В ходе Первой мировой войны на Россию постоянно оказывали давление Великобритания и другие ее союзники, требовавшие дополнительных поставок российского золота как условия предоставления военных кредитов на межгосударственном уровне. России в первые два года войны удавалось сдерживать эти устремления Запада. Там, где возможно, она прибегала для финансирования военных закупок к средствам, которые не требовали перевода за границу драгоценного металла (коммерческие кредиты, государственные кредиты от США и Японии). Однако в дальнейшем золото стало уходить из казны за пределы страны, прежде всего в Великобританию В ходе войны Россия перевела в Банк Англии 498 т золота; 58 т вскоре были проданы, а остальные 440 т лежали в сейфах Банка Англии в качестве обеспечения. После февральской революции Временное правительство также успело внести свою лепту в вывозе золота за рубеж: буквально накануне октябрьского переворота оно отправило партию золота в Швецию для оплаты будущих военных заказов (на сумму 4,85 млн. зол. руб., т.е. около 3,8 т металла). Можно было забыть о возвращении золота, посланного в Великобританию в 1914—1916 годах. Оно было полностью потрачено на военные заказы. Однако следовало вернуть 187.800.000 золотых рублей, отправленных в Великобританию накануне Февральской революции, и 4.850.000 золотых рублей, вывезенных в Швецию в октябре 1917 года. «Царское» золото неоднократно фигурировало в качестве одной из «карт» при различных переговорах СССР с Великобританией и некоторыми другими странами, которые в годы первой мировой войны входили в Антанту. Вопрос о «царском» золоте обсуждался на Генуэзской конференции в 1922 г. в контексте урегулирования взаимных претензий Советской России и стран Антанты (переговоры, как известно, завершились безрезультатно). Запад исходил из того, что отказ СССР от долгов царского правительства означал автоматически также отказ от каких-либо прав СССР на «царское» золото. Однако долгов царского правительства перед Швецией не существовало и эти почти пять миллионов золотых рублей (десять миллионов тогдашних шведских крон) следовало вернуть, чего не удалось сделать бывшему полпреду Коппу. Золото лежало на хранении в семейном банке Валленбергов.
31 марта 1931 года А. М. Коллонтай пишет в дневнике по этому поводу: «Собственно, вопрос этот был поднят Союзом еще в 27-м году, но переговоры сорвались. Сейчас Союзу нужна валюта, и нам задана задача получить от финансовой династии Валленбергов золото, принадлежащее советскому правительству по праву, так как вложены были слитки в их банк русским государством. Трудность в том, что операция эта производилась не Государственным банком, а через частный Азовский банк. Пущу в ход Брантинга. Он найдет как обойти юридические крючки. Но дело это усложняется еще и тем, что сейчас же всплывают вопросы о „претензиях“ шведов к России за понесенный ими ущерб во время революции. Дело это надо еще очень обмозговать и снестись с Литвиновым! Но повидать кого-либо из Валленбергов не помешает. Другими словами, поставить на очередь вопрос о золоте и его получении или производстве расчета.» [8]
В конце марта 1931 года состоялся первый серьезный контакт Коллонтай со «сферой Валленберг». Об этом также рассказывает запись в дневнике полпреда от 31 марта 1931 года. «…В конце марта была еще на обеде у кронпринца. На обеде во дворце у меня вышел интересный разговор со стариком Маркусом Валленбергом – старший в этой „некоронованной династии“ шведских финансистов (это не совсем так: председателем совета директоров семейного банка „Стокгольмс Эншильда Банк“ (SEB) в то время был старший брат Маркуса, Кнут Агатон Валленберг, а генеральным директором – Якоб Валленберг, сын Маркуса, но, конечно, Маркус Валленберг-ст. имел большой вес на семейных советах „сферы Валленберг“. – прим. авт.). Валленберг с церемонной любезностью вел меня под руку к столу как мой кавалер за обедом. Это было устроено неспроста, а чтобы дать нам возможность побеседовать на темы, которые занимают нас обоих. Кронпринц активно в политике не выступает, но всегда в курсе вопросов, занимающих влиятельные сферы…» [8]. Далее Коллонтай рассказывает об обсужденных за этим обедом вопросах: о русском золоте, хранящимся в подвалах SEB и о необходимости решить вопрос о возвращении этого золота в СССР; о лесоторговом соглашении, призванном согласовать экспортные квоты Швеции, Финляндии и СССР: «…Маркус Валленберг сам заговорил о золоте, хранящимся в его банке. „Пока дело с золотыми слитками не будет урегулировано, Эншильда-банк не станет поддерживать советские экономические начинания в Швеции. Вы, русские, мечтатели и может быть хорошие философы, но в экономико-финансовых делах вы „безграмотны“, – не без раздражения вырвалось у него. – У вас всегда столько разговоров и переговоров, а до конкретных результатов дело не доходит. Мне зондажи русских надоели, с 27-го года все зондируете и ничего практически нам не предлагаете. Надо же, наконец, решиться на прямое деловое предложение банку, тогда и мы поговорим с вами по серьезному и по деловому.“ Из этой беседы о золоте я поняла, что нам надо будет обращаться к Валленбергу с нашим конкретным предложением и что в принципе он на переговоры готов идти. Поговорили с Валленбергом и о лесном соглашении. Валленберг признал выгоду лесного соглашения и для Швеции. Конечно, напирал на те убытки, которые в Швеции и мы понесли на низких ценах на пиломатериалы. Он сказал: „Если вы думаете разорить нас и этим путем добиться у нас коммунизма, то вы ошибаетесь. Шведская промышленность достаточно гибка, чтобы перестроиться и уйти от отраслей лесного дела с падающим индексом цен. Но если вы серьезно намерены удерживать цены от дальнейшего падения, единственный выход – это соглашение.“ Это уже плюс. Эншильда-банк – мощный финансовый центр, крупнейший во всей Швеции.» [8]
Через месяц, 30 апреля 1931 года, Коллонтай побеседовала и с гендиректором банка SEB Якобом Валленбергом [23]. «У меня был на завтраке сын Валленберга, Якоб, содиректор Эншильда-банк. По поводу золота как будто бы вопрос начинает приобретать конкретные формы. Мы им на днях сделаем свое предложение. То, на чем настаивают Валленберги для нас абсолютно неприемлемо. Они сводят вопрос о золоте к расчетам по старым претензиям частного Азовского банка к русскому правительству. Я решительно отклонила этот вопрос. Разговаривать с нами на базе чьих-либо претензий мы не будем. Надо решить вопрос о золоте на новых началах. Второй пункт беседы с Валленбергом касался лесного соглашения… Но все же решающую роль в соглашении по лесу играет Ивар Крюгер (так имя „спичечного короля“ произносится по-шведски, однако в литературе на русском языке принято писать это имя как Ивар Крейгер. – прим. авт.) – „спичечный король“. Династия Валленберг во вражде с Иваром Крюгером, они конкуренты и ненавидят друг друга. Валленберги считают, что такую мощную старую фирму, как Эншильда-банк, вытесняет Скандинависка банкен во главе с Крюгером. „Как бы ни казались эффектны мировые комбинации Крюгера, настанет день, когда вы убедитесь и вся Швеция узнает, что Крюгер работает „бронзовыми векселями““, – слова Якоба Валленберга. После завтрака Валленберг прислал мне огромный букет цветов. Это означает, что переговоры с Валленбергами могут дать результаты и по золоту и по лесу. Я – за „династию“ Валленберг! Торгпредские и наш банк стоят за Крюгера, т.е. что надо начинать именно с него.» [8]
Вслед за тем, как эти записи появились в дневнике, состоялись встречи с Коллонтай с банкирами Валленберг и она свой выбор сделала, соответственно информируя Москву. С этого времени Сталин, еще несколько человек в советском руководстве, внешней разведке ИНО НКВД и Разведупре Генштаба РККА обратили внимание на «сферу Валленберг».
А. М. Коллонтай и далее в 1931 году фиксирует в дневнике курс на сближение с Валленбергами. 6 июня 1931 года: «…Торгпред согласился перенести учет векселей Советско-Шведского банка (АБН) в Эншильда-банк. Уже проводятся первые операции. Приняли мы это решение не только по хозяйственно-оперативным соображениям, но я считаю, что это может оказаться полезным при переговорах по лесу и облегчит вопрос о золотых слитках.» 27 августа 1931 года: «…Дело о слитках в Эншильда-банке на мертвой точке. Однако с этим банком наши связи крепнут. Общество „Нафта“ перенесло в Эншильда-банк учет векселей, тоже полезно. Связь с Валленбергом нам особенно нужна сейчас, в связи с переговорами о лесе.»
Вопрос об этом золоте был решен чуть более чем через два года. Об этом рассказывает запись в дневнике Коллонтай от 20 июня 1933 года: «Я еще не записала о золоте и волнениях последних дней. Золото… Как эти слитки мне надоели и как еще больше надоели все эти буржуазные подвохи, хитрости кабинета, враждебность буржуазных партий… Все уже позади, но записать надо, целая эпопея вокруг русских слитков золота. Переговоры о займе неотделимы от переговоров о золоте. Золото – старая проблема. Я занялась ею чуть ли не с первых дней приезда в Швецию, в 30-м году. Золотые слитки стоимостью в десять миллионов крон положены были еще Временным правительством в 1917 году в Эншильда-банк в обеспечение военных заказов, но вложение было сделано не Госбанком, а через Азовско-Донской банк (письма с подписью Терещенко и др. имеются). Все полпреды по очереди принимались за это дело. Но Валленберги упирались со ссылкой на то, что формально вложение совершено не Госбанком, а Азовско-Донским, т.е. „частным“ банком, с которым у Эншильда-банк имеются свои незаконченные расчеты… Шведское правительство было заинтересовано, так как между советским и шведским правительствами висел все еще не ликвидированный расчет о русских долгах по Красному кресту – перевозку пленных через Швецию… Семнадцатого или восемнадцатого мая МИД меня вызвал и мы с Сандлером, наконец, подписали соглашение о возврате Союзу золотых слитков с расчетом покрытия нашей задолженности шведскому правительству (они хорошо заработали!) и даже Эншильда-банку за „администрирование“ или хранение золота (это уже грабеж, но иначе нельзя было) …Получаю от Мещерякова телеграмму в Москве: соглашение по золоту встречает сопротивление парламента… Вячеслав Михайлович недоволен, он особенно интересовался золотом: „Надо, чтобы соглашение прошло через парламент“…„Шансов мало“. Но торгпред в Стокгольме, и он развивает поистине гигантскую энергию… Наконец, звонок ко мне из НКИД: парламентская комиссия дала согласие на получение нами золота из Эншильда-банка и на передачу Союзу причитающейся ему части. Договор с парламентом одобрен. Значит, и дело закончено и снято с баланса забот. Соглашение и вся работа вокруг золота вписана в мой трудовой актив. Собственно, вписываю его я сама. На мою долю никаких поощрений не выпало, хотя это дело провела я. Вопрос о золоте я вычеркиваю из своих дум.» [8]
Экономический кризис начала 30-х годов привел к падению цен на лес, а лес был важнейшим источником получения валюты. Экспорт хлеба стал невозможен в результате коллективизации и раскулачивания. Советский Союз вывозил лес низкого качества и в больших количествах, но задешево. Конкуренты – финны и шведы – также сильно зависели от этого экспорта. Для Финляндии торговля лесоматериалами составляла половину всего экспорта. Финны и шведы обвиняли Москву в демпинге. Устраивали бойкот советским товарам. Призывали не покупать русский лес, поскольку его валят заключенные. В СССР раскулаченных крестьян отправили на самые тяжелые работы в лесную промышленность, ссыльных стариков, подростков и детей использовали на лесозаготовках, женщин – на раскорчевке земель. В составе НКВД образовали Главное управление лесной промышленности, где рабочую силу составляли заключенные. Такие обвинения грозили введением экономических санкций, что могло оставить страну совсем без валюты. Поэтому решили договориться с финскими и шведскими фирмами, закрепить за каждой страной квоты на вывоз леса. В Москву вызывали полпредов в Финляндии И. М. Майского и в Швеции – А. М. Коллонтай.
«Нараставшая на Западе кампания против закупок русского леса, который добывается «бесплатным трудом каторжников», вызывала в Москве тревогу и подстегивала ее в желании ускорить достижение компромисса.
20 февраля 1931 г.
Решение Политбюро 1/17 – О соглашении с Финнами и шведами по лесоэкспорту (ПБ от 20.1.31 г., пр. Ne 24, п.4/11) (т. Сталин).
а) Констатировать, что постановление Политбюро от 20.1.-31 г. о соглашении с финнами и шведами по лесоэкспорту Наркомвнешторгом ни в какой степени не выполнено.
б) Поручить СНК СССР принять меры к тому, чтобы Наркомвнешторгом было выполнено постановление Политбюро от 20.I.-31 г. о соглашении с финнами и шведами по лесоэкспорту.
Выписки посланы: т. т. Молотову, Розенгольцу.
Протокол №27 (особый) заседания Политбюро ЦК ВКП (б) от 25.2.1931 – РГА СПИ. Ф.17. On. 162. Д.9. Л. 138
За месяц, истекший со времени предшествующего решения Политбюро НКВТ не удалось достичь никаких результатов в этом направлении. Новое постановление не привело к решительным переменам.» [24]
Проблема лесоэкспорта и госкредитов появляется на страницах дневника Коллонтай 14 и 31 марта 1931 года: «На очереди актуальная задача экономико-политическая: лесное соглашение со Швецией и Финляндией – основными экспортерами леса на мировой рынок. А вследствие кризиса общего дела на лесном рынке ухудшаются. Мы, т. е. Советский Союз, в этом году вышли на лесной рынок с крупными предложениями лесного товара. (Нам нужна и очень нужна валюта). Конечно, наши конкуренты подняли гвалт, что мы сбиваем цену, что пользуясь „бесплатным трудом каторжников“, мы способны выбить шведов и финнов с завоеванных ими лесных рынков. Газетная кампания по поводу демпинга, гнусная, настойчивая, нервирует. Компания против нас, пользуясь конкретным и понятным всякому шведу объектом – лес, разрастается и портит наши отношения со Швецией. Лесоэкспортеры решили обратиться в риксдаг с запросом правительству по поводу „русского демпинга, разоряющего страну“. Стокгольмская группа лесоэкспортеров предлагает следовать примеру Канады и не покупать советские товары… Наркомвнешторг зондирует у нас вопрос о займе в Швеции, но пока не разрешена лесная проблема, об этом речи не может быть. Будь у нас соглашение по лесу, на политику шведов не может повлиять даже финансовый международный кризис. Их банки полны фондами. Это вторая по важности экспортная статья, превалирующая порой над рудой (знаменитая шведская руда Кируны). И ели будет соглашение по лесу, на политику Швеции не может оказать влияние даже финансовая политика „великих держав“ в отношении СССР… Настроение для соглашения у шведов далеко еще не таково, чтобы заставить Крюгера уже искать соглашения с нами. Однако лесоэкспортеры щупают почву. Мы тоже наблюдаем за ними и выжидаем… Влиятельная группа лесопромышленников… старается добиться от парламента запрета ввоза в Швецию русского леса – осины, для фабрикации знаменитых шведских спичек нужна наша осина, шведская осина хуже. Во ввозе нашей осины заинтересована группа лесопромышленнков, связанная с Крюгером. Я уверена поэтому, что из нагло открытой компании… против советского импорта ничего не выйдет… Если в январе по приезде из Москвы я считала вопрос о госгарантии СССР со стороны шведов совершенно немыслимым, то сейчас об этом вопросе поговаривают уже в банковских и промышленных кругах. Это еще только наметка. А пока не будет разрешен вопрос о соглашении по пиломатериалам, рассчитывать на получение госкредитов не приходится. Наша задача здесь пока сводится к тому, чтобы изучить, на какие хозяйственно-промышленные и банковские круги нам держать курс в Швеции, на кого мы можем рассчитывать и какие заказы для нас выгоднее всего сделать именно в Швеции.» [8]
«В начале апреля шведская печать сообщила о возможности достижения договоренности между шведскими лесоэкспортерами и «Экспортлесом»… Одним из главных сторонников подобного соглашения Рюдбек назвал Акселя Валленберга (один из директоров SEB – прим. авт.)), их основным оппонентом являлся глава объединения шведских лесоэкспортеров Вильхельм Экман (группа Крейгера – прим. авт.).
Экономический кризис вынуждал Москву искать любых, даже самых незначительных источников поступления валюты. По словам Б. С. Стомонякова, понятие «второстепенного экспорта» (ягоды, грибы, раки, муравьиные яйца, обрезки кожи и т. д. и т.п.) утратило смысл, все стало «первостепенным». Сторонникам сближения СССР со Швецией и Финляндией оставалось сетовать на то, что в Москве к лесной проблеме подходят только с точки зрения выгод нашего экспорта, забывая, что хорошие отношения с финскими и шведскими лесоэкспортерами – база для советской политики на Севере Европы. Осенью 1931 г. при обсуждении (по инициативе А. П. Розенгольца и Данишевского) вопроса о переговорах со шведскими лесоэкспортерами на Политбюро было решено требовать предоставления кредита на шесть лет в размере 15 млн. долларов, если советская квота составит 48%, или 20 млн., если квота будет не ниже 40% (без учета продаж леса на Дальнем Востоке). Новая переговорная позиция также не привела к соглашению с финскими и шведскими экспортерами. Желание заставить конкурентов быть более покладистыми, побудило А. П. Розенгольца предложить в декабре 1932 г. Политбюро следующую тактику: затягивать переговоры, не идя на их срыв, при этом одновременно форсировать продажу советского леса на европейском рынке, не останавливаясь перед некоторым снижением цен. Политбюро согласилось с предложением А. П. Розенгольца.» [24]
16 ноября 1935 года в Копенгагене все-таки было заключено соглашение о регулировании вывоза леса на иностранные рынки и согласовании цен. Подписали его восемь стран: СССР, Швеция, Финляндия, Польша, Румыния, Югославия, Чехословакия и Австрия. Это был результат работы нескольких лет полпреда Коллонтай и торгпреда в Швеции Канделаки. Читаем об этом в дневнике Александры Михайловны:
2 ноября 1935 года.
«Теперь впрягаюсь снова в лесные переговоры, надеюсь, в последний раз. Они начались в июне 1931 года, потом почти на два года заглохли, но сейчас лесное соглашение снова конкретно стоит в порядке дня нашей работы в Швеции, хотя в другом плане. Это уже не трехстороннее соглашение (важное политически), как намечалось четыре года тому назад, а соглашение с рядом экспортирующих стран Европы… Ждем делегата из Москвы на лесную конференцию. Конференция будет происходить в Копенгагене и наш торгпред поедет туда (Канделаки в это время уже торгпред в Германии, речь идет о новом торгпреде – Непомнящем Л. Л. – прим. авт.). Он и подпишет лесосоглашение, над которым я в свое время столько поработала…» [8]
17 ноября 1935 года.
«Вчера, 16 ноября, лесное соглашение подписано в Копенгагене. Работа многих лет завершена. Каков будет результат? Но стоило это соглашение многих бессонных ночей и немало энергии и нервов. Лесным соглашением шведы довольны. Я не очень. Это совсем не по той линии, как мы тогда задумали. Но может оказаться выгодным нам в вопросе валюты. И это неплохо…» [8]
Важное место в дипломатических дневниках Коллонтай в 1931—1932 гг., до самой его смерти 12 марта 1932 года, занимает наблюдение за Иваром Крейгером.
6 июня 1931 года: «Брантинг только что вернулся из Франции. Он сообщил, что узнал: В Париже только что был Крюгер и вел переговоры с французскими финансистами о кредитах шведам для возмещения СССР при лесном соглашении с нами… Но при чем здесь Крюгер? Он же до сих пор противился соглашению и всячески его тормозил? Переговоры с нами ведутся лесо-экспортерами не его группы, а той, что связана с Эншильда-банк и группой Прютца (Экспортфоренинг)…»
12июня 1931 года: «…Я рассказала Прютцу о том, что передавал мне Брантинг о Крюгере в Париже. Прютц ничего не сказал, но лицо его стало серьезным и он задумался. Что-то за этим кроется? Надо разузнать…»
27 августа 1931 года: «…Беспокоят меня и сведения о том, что „спичечный король“ обходными путями тормозит наши переговоры. Ходят слухи…, что Крюгер сам не прочь заключить с нами соглашение по лесу с весьма выгодными для нас условиями, включая обширные банковские кредиты. Но мы осторожничаем и на явно зондажные слухи не реагируем…»
10 октября 1931 года: «После нескольких дней тревог и неопределенности сегодня телеграмма, разрешают мне и полпреду ехать в Москву для выяснения всей сложной и трудной проблемы по лесосоглашению… После настойчивых зондажных слухов о том, Крюгер предлагает нам проект объемистого и якобы выгодного для нас соглашения по лесу плюс кредиты, „его человек“, директор банка, передал торгпредству проект этого договора, написанный от руки и с подчеркиванием слов „секретно“ и „предварительно“. Я вызвала Прютца, полагаясь вполне на его „дискретность“, так как он крайне заинтересован, чтобы переговоры с возглавляемой им группой лесоэкспортеров состоялись, обойдя Крюгера и его подголосков. Прютц внимательно рассмотрел предложение спичечного короля и признал, что проект Крюгера „если он осуществим“, мог бы иметь громадное значение не только для нас, но и для экономики Швеции… Крюгер с его необузданным характером и ненормальной смелостью в финансовых операциях и в деле сближения с СССР решительнее, чем это было бы в других условиях, т.е. вне кризиса. Во всяком случае Прютц советовал не торопиться с Крюгером. В его делах появились за последнее время темные пятна, нечто наводящее на подозрение. Прютц считает, что следует выжидать, к январю-февралю 1932 года дела Крюгера выяснятся. Но во всяком случае, Крюгер человек не дискуссий и слов, а простого практического дела. Для СССР полезно заранее выяснить свое отношение к его предложению, взвесить и то, что этим срывается соглашение Союза со шведами и финнами по лесу, как оно намечено сейчас Экспортфоренингом. Что для Москвы выгоднее, пусть сами взвесят. Хотя Прютц прямо и не сказал о финансовой неустойчивости банка Крюгера и подозрительности его финансовых операций, но мы сами это чувствуем и учитываем. Недавно были сильные колебания биржевых бумаг Крюгера. Газеты тотчас же подхватили это и пустились обвинять Москву, что мы „подрываем“ престиж „великого шведа“ Ивара Крюгера и ловкими ходами способствуем падению его акций… В Москву надо ехать подкованными и иметь свое мнение: соглашение ли по лесу (конечно, с возмещением квоты) с лесоэкспортерами, связанными с Экспортфоренингом, и этим политически привязать к нам широкие круги шведов и финнов, или принять более выгодное финансовое предложение Крюгера, но политически менее важное. По кратким ответам Литвинова чувствую, что он будет за первое, а Наркомвнешторг – за второе… А что все-таки значит предложение Крюгера? Что „спичечный король“ уже на коленях? Или это маневр?»
30 октября 1931 года: «Вот мы и вернулись из Москвы. Вернулись обнадеженные, что лесными переговорами у нас интересуются. Установку дали ясную и точную. Вопрос о лесном соглашении со шведами и финнами плюс предложение „известной мировой фигуры“ рассматривали на Политбюро. К „известной фигуре“, конечно, отношение настороженное и нам не следует выказывать заинтересованности. С такой постановкой не все на Политбюро были согласны, но у меня отлегло на сердце. До вызова меня и торгпреда на заседание я имела беседу с хозяйственниками, которые к предложению Крюгера отнеслись с явным интересом, „сулит, мол, большим наплывом валюты“. Но на Политбюро председательствовал И.В. [Сталин] и всех поставил на место… Для меня это был большой день, ведь решалась судьба лесных переговоров, на которых мы строим улучшение отношений со Швецией и нашу дальнейшую дипработу там. Литвинов был недоволен решением Розенгольца и торгпреда, внес поправки в данные нам инструкции, которые Сталин принял без возражения…»
13 ноября 1931 года: «Интересующее нас лицо, т. е. Крюгер, неожиданно и срочно уехал за океан. Так и не передали ему ответа на его предложение, привезенного из Москвы. Но так даже лучше. Прютц уверен, что в начале 1932 года финансовые дела Крюгера вполне выяснятся. Если к худшему, то не стоило нам вообще вступать с ним в переговоры; если к лучшему – отсутствие ответа на его многообещающее предложение оставляет двери открытой…»
8 декабря 1931 года: «Новое помещение, особняк, куда переехало не все полпредство, а только представительские комнаты и частная квартира полпреда, т.е. моя… когда ухожу после работы, я уже у себя, „дома“. И только вызовут к телефону, если что-нибудь срочное… И не станет торгпред, пришедший в секретный отдел по своим делам, просить принять его „по лесной проблеме“ во втором часу ночи… Одно неприятно: справа от нас вычурный каменный палаццо Крюгера. Говорят, такие палаццо и еще пышнее у него имеются и в Париже, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. Кичлив этот финансовый спекулянт. Погляжу из окна голубой гостиной и сквозь ветви старых деревьев, покрытых сегодня инеем, вижу дом Крюгера, и, конечно, мысль опять завертится вокруг лесного вопроса. А надо запастись терпением и ждать 32-го года, по совету Прютца, да и по всей мировой конъюктуре…»
20 января 1932 года: «…Падение акций на бирже продолжается… Крюгер все еще в Америке, обделывает свои явно пошатнувшиеся дела…»
21 января 1932 года: «…Во Франции падение валюты и безработица. Та же картина по всей Европе, а Крюгер в Вашингтоне успокаивает Гувера, что Европа сумеет преодолеть кризис и выйти из экономического тупика, надо лишь со стороны Америки протянуть руку помощи Германии и, конечно, подкрепить также Скандинавию (т.е. ее банки)…»
13 марта 1932 года: «Телефонный звонок, тревожное событие, еду сегодня же с первым поездом обратно в Стокгольм. Это событие чревато последствиями.»
Конец марта 1932 года: «Выстрел в Париже 12 марта прозвучал на весь финансовый мир и глубоко всколыхнул шведов, связанных с биржевыми бумагами Крюгера. Выстрел отозвался зловещим эхом паники на многих биржах капиталистических стран. „Крюгер, современный Икар (так писали газеты), чьи крылья растопили лучи золота“, Ивар Крюгер, гордость Швеции, покончил жизнь самоубийством в Париже. Эта весть с быстротой молнии пронеслась по миру, и шведов охватила паника. Люди останавливали друг друга на улицах Стокгольма и спрашивали: „Неужели это правда?“. Нервно слушали радиопередачи и, не дослушав, бежали к знакомым. Рантье, отставные военные хватались за голову и вспоминали, что и у них есть спрятанный браунинг. „Лучше могила, чем бедность“. Старушки, превратившие свою вдовью пенсию в акции Крюгера, впадали в истерику и толпились у подъезда Скандинависка банкена; в семьях рантье, рассчитывающих на чудеса быстрого обогащения через „гениального афериста“, проливали слезы утраты… Но напрасно поддались панике шведы, крах Крюгера не есть еще конец капитализма и не грозит развалом буржуазному миру. Более солидная и менее запутанная в мировых финансах шведская финансовая фирма Валленбергов уже давно бдительным оком следила за Крюгером и его манипуляциями. Валленберги знали, что дела Крюгера пошатнулись, что его жульнические дела, особенно с псевдозаймом Италии, стали известны Уолл-Стриту и что не менее жульнические монополисты США отказались вытащить из ямы своего собрата по воровским проделкам. Хитрые дельцы Валленберги уже давно предвидели, что американцы откажут Крюгеру в новом кредите и что тогда-то и наступит долгожданный момент разоблачить и погубить конкурента. Валленберги имели наготове комиссию по государственному контролю над операциями фирм и банков Крюгера. Когда знаменитый аферист и жулик Крюгер покинул Америку с ее суровым отказом в кредитах, он тоже прекрасно знал, что готовят ему беспощадные конкуренты Валленберги в Швеции: разоблачение обманов, позор и крушение всей его карточной постройки „чудесного и сказочного быстрого обогащения“. Фальшивые махинации на бирже, „бронзовые векселя“ и проч. Впереди не просто разорение, а позор и тюрьма… Самоубийство Крюгера ошеломило шведов, но паника, вызванная сенсационным выстрелом в Париже, была пресечена на другой же день решительными и быстрыми мероприятиями правительства. Конечно, на такие крутые меры и быстроту действия кабинет Экмана-Хамрина не был бы способен, если бы за его спиной не стояла воля „некоронованного короля“ Швеции – Маркуса Валленберга и им подготовленная комиссия государственного судебного контроля над Крюгером. Первым делом шведское правительство задержало слух о выстреле в Париже почти на сутки. Затем закрыло двери всех банков, причастных к Крюгеру, объявив их подпавшими под государственную администрацию и мораторий. Это сразу успокоило вкладчиков, так как этим актом государство гарантировало выплату вкладов, не сейчас – так позднее. Затем начались аресты соучастников Крюгера и судебное разбирательство его дела… Вся эта крюгеровская эпопея относительно благополучно заканчивается для Швеции, и разорений меньше, чем ожидали. Шведы люди осторожные, осмотрительные, но крах Крюгера больно ударил по ряду других стран… Полоса волнений, связанных с крахом Крюгера, позади, но налицо несомненный застой в торговых делах Швеции и страх шведов входить в соглашения по торговым делам с иностранными державами… Москва того же мнения: не прерывать формально переговоры по лесу, но не только не форсировать их, а скорее тянуть с нашей стороны… Я с раздражением гляжу сквозь ветви старых кленов на вычурное палаццо Крюгера, дом №13. И хочу, хочу домой!..» [8]
О последнем важном задании для совместной работы Коллонтай и Канделаки рассказывает следующая запись в дневнике Александры Михайловны:
17 марта 1933 года
«Развиваем пары» с торгпредом – новое задание Москвы, новая проблема. Уже не госгарантия, а стомиллионный заем на десять лет. Эта проблема зрела в наших головах уже все последние месяцы, так как госгарантия нас не устраивала, нам надо акцию посерьезнее, посущественнее и более выгодную Союзу… Хамрин передал торгпреду, что он и ряд промышленников «работают» над идеей займа Союзу в сто миллионов крон и на десять лет. Торгпред и я ходили пьяные от радости. Сейчас я уже трезвее смотрю на вещи, особенно, после беседы с рядом лиц, которые могут быть причастны к этому делу. Во всяком случае факт налицо: шведские промышленники заинтересованы «поправить свои дела» и, дав заем нам, получить на сто миллионов заказов со стороны Союза. Торгпред уехал в Москву получить директивы…» [8]
Это было только началом тяжелой работы:
31 мая 1933 года.
«…Два дня длились напряженные переговоры между торгпредом и промышленниками под председательством министра финансов. Торгпред заезжал несколько раз в день посоветоваться со мной и спешил обратно. В конце второго дня наметили базу для переговоров. Сопротивление встретил десятилетний срок кредитов. При десяти годах промышленники требовали материального обеспечения со стороны Союза. На это мы не могли пойти без санкции Москвы… Вечером получен был ответ от наркома Внешторга. Частичное обеспечение он допускал в виде «алмазного фонда». Но от Литвинова ответа нет. Это уже хуже. Я хотела обождать указаний Литвинова, но торгпреду не терпится, директива наркома Внешторга ясна и она срочная…
С минфином договорились, частности выяснили. Обе стороны довольны. Это редко. Через день вопрос будет внесен на обсуждение парламентской комиссии. Уезжаем из министерства в приподнято-радужном настроении. Но радости дипломатов никогда не бывают долговечными. В полпредстве ждала меня директива Литвинова: ни о каких материальных обеспечениях госкредита речи быть не может. Я этого ждала и все еще сержусь на торопливость торгпреда. Вчера заявили, а сегодня брать назад – несерьезно, не по-деловому. Торгпред вне себя. Кидается к телефону. Москву! Москву! По четырем адресам шифровки. Решающим. Ответ отовсюду один: «Потрудитесь выполнить директиву»…Вигфорс выслушивает меня молча, обдумывая. «Это весьма прискорбно, – говорит он, – но в таком случае будем считать переговоры несостоявшимися». Мы прощаемся и уходим. Снова лестница. Но позади нее «разбитые надежды». Однако торгпред считает, что это вовсе не непоправимо. Мы поманили шведских промышленников и кабинет, пусть чувствуют, что мы не так уж в них нуждаемся. Сами возобновят переговоры. И лестница в министерстве финансов сразу перестает казаться мне такой мрачной» [8].
28 июля 1933 года.
«…Я пришла в Кремль, и меня впустили в кабинет Сталина (эта встреча почему-то не зафиксирована в справочнике «На приеме у Сталина» – прим. авт.) … Я хотела ему объяснить, почему у нас сорвались переговоры по госгарантии, но он отвел разговор вопросом: толковый ли у меня торгпред? И сразу заторопился и, пожелав здоровья, попрощался. Я ушла несколько удивленная, что срыв переговоров о госгарантии был принят в Москве вовсе не так «трагично», как мы себе представляли в Швеции. Позднее я узнала, что в перспективе стояла Лондонская конференция и выступление Литвинова о проекте многомиллионного заказа Англии на началах долгосрочного кредита или займа, но без материального обеспечения. Инициатива переговоров в Швеции шла от Розенгольца, так вышло. НКИД остался в стороне. Последние, решающие директивы приняты были в Политбюро. Когда Максим Максимович об этом узнал, он немедленно написал протестующее письмо Иосифу Виссарионовичу: «Этой мелкой сделкой со Швецией срывается вся акция в Лондоне о нашем предложении на миллиардные кредиты по нашим заказам»…
Таким образом, своего рода соревнование (но никак не соцсоревнование) двух ведомств сорвало важное для отношений между Союзом и Швецией дело… Урок: НКИД не любит поддерживать инициативу, которая не продиктована им… В нашей работе не надо быть слишком инициативной. Надо «проводить задания», а не создавать и находить прицелы» [8].
3 сентября 1933 года.
«В конце августа из Москвы неожиданно нагрянул нарком внешней торговли с женой, притом инкогнито и под чужой фамилией. Зачем это? Конечно, вопрос о займе! Москва интересуется и требует, чтобы мы приналегли. Для нас приезд наркома из Москвы полезен и по другой причине: все еще не изжит холодок из-за срыва переговоров о госгарантии весной…» [8].
10 ноября 1933 года.
«Сегодня важное событие: торгпред получил точные директивы, на основе которых можно начать переговоры о займе со шведским правительством… Основа в общем такова: заем чисто финансовый, которым располагаем мы для любого заказа в Швеции. Никакого материального обеспечения. Сто миллионов крон на восемь лет…» [8].
10 декабря 1933 года.
«Переговоры идут полным ходом. Шведское правительство само торопит… При обсуждении проекта договора мне стало ясно, чего шведы больше всего боятся: что мы стомиллионный заем не используем в Швеции. Они понимают, что для нас важен этот заем как прецедент, что обеспечит Союзу займы в других странах. Шведская же промышленность заинтересована в реальных заказах Союза. Вот и бьемся над формулировками пунктов – использование займа и срока самого займа…» [8].
12 января 1933 года.
«Когда я летом говорила с наркомом НКВТ, он напирал на два вопроса – кредит и валюта. „При быстром росте нашей тяжелой индустрии наше главное препятствие – нехватка валюты. Нам нужна валюта, – говорил нарком, – гоните валюту, развивайте экспорт в Швецию. Мы пригоним вам и второстепенный по значению товар: антрацит, фрукты и прочее. Валюта – это основная задача торгпреда. Помогите ему в этом, как в Норвегии. Швеция нам нужнее Норвегии. Она имеет много полезных для нас отраслей промышленности. Добивайтесь долгосрочных кредитов с госгарантией (тогда еще не был задуман заем). Работайте над кредитом“. Теперь, когда вопрос о кредитах уже перешел в новую, высшую стадию, я считаю, что здесь не зря поработали в прошлом году… все это было основательной подготовкой почвы для задачи еще большего значения, т.е. финансового займа Союзу… Финансового займа Союз еще нигде не получал. Пусть же Швеция создаст выгодный для Союза прецедент. Такова директива Москвы…» [8].
Конец февраля 1934 года.
«Ездила в Москву по делу займа всего на несколько дней. Литвинов определенно скептически относится к „затее НКВТ“, что меня очень обеспокоило. Но на заседании Политбюро Сталин высказался за заем, и наш текст по займу, принятый в госкомиссии в Стокгольме, Политбюро тоже утвердило. Директива для дальнейшей работы дана по всем пунктам… Торгпред сияет, а Литвинов, не прощаясь со мной, уходит нахмуренный. Это меня беспокоит…» [8].
8 марта 1934 года.
«Сегодня договор по займу закончен и парафирован… Но ведь предстоит еще официальное подписание договора… Затем самое важное: апробация договора парламентом. Это меня больше всего тревожит, особенно после предупреждения на этот счет Литвинова…» [8].
25 апреля 1934 года.
«Жуткий вчера выдался день, полный колебаний и сомнений. Началось это с прихода ко мне Нильса Линда, атташе по прессе шведской миссии в Москве. Он пришел из министерства иностранных дел с дурными вестями. Правительство не добилось поддержки голосов бунде (партии крестьян – прим. авт.). Следовательно, договор о займе Союзу, который завтра поступит на пленум парламента, будет отклонен…«Придумайте, вы, мадам Коллонтай что-нибудь, чтобы спасти положение», – говорит Линд. Он, конечно, думает не о займе Союзу, а о судьбе кабинета… Выход, по-моему, есть: надо, чтобы Москва заявила срочно что СССР договор о займе не ратифицировал, и тогда выйдет, что не шведы провалили договор, а мы отказались от займа. На это у меня еще нет полномочий Москвы, но это – шаг в духе политики Литвинова, он это одобрит… Прютц рассказал, как он в качестве председателя союза экспортеров, этой самой влиятельной организации монополистов Швеции, сделал еще одну, последнюю попытку спасти заем, Но премьер Ханссон и «король финансов» Валленберг заупрямились. – Наше предложение, – сказал Прютц, – вполне реальная финансовая комбинация между частными банками и правительством, она могла бы сломить упорство партии крестьян. Но ведь вы знаете, что Валленберг ожесточенный враг Советского Союза, он до сих пор вам не прощает успеха вашей революции 17-го года, а тут вы еще отобрали у него приятные его сердцу золотые слитки, как бы доставшиеся ему в наследство от правительства Керенского. Валленберг готов урегулировать любую задолженность с крестьянами, только бы не допустить их голосовать за заем. Ну а премьер Ханссон известный трус, он боится всяких дел с частными банками после скандала с премьером Экманом (был уличен в связях с банком Крейгера – прим. авт.) …я поспешила в шифровалку, чтобы отдать распоряжение об отправке уже готовой шифровки Литвинову… На другое утро получена была мною открытая телеграмма (не шифровка) от Литвинова, следующего содержания:
Министру иностранных дел САНДЛЕРУ (копия мне)
Имею честь от имени Союза Советских Социалистических Республик сообщить Вашему Превосходительству, что Центральный Исполнительный Комитет СССР, рассмотрев договор, предоставляющий Шведским Правительством 100-миллионный заем СССР и подписанный 16 марта сего года, означенный договор не ратифицировал, найдя некоторые условия невыгодными, о чем довожу до сведения Вашего Превосходительства. Литвинов» [8]
К изложенному выше А. М. Коллонтай сделала позднейшую вставку «Мои примечания 1949 года»: «Прав Прютц. Даже при временных срывах и неудачах, труды, затраченные на поприще дипломатии, никогда не пропадают бесследно, они со временем дают свои плоды и результаты, если прицел и курс взяты верно. В 1940 году, после заключения первого перемирия между нами и Финляндией, когда немцы уже заняли Норвегию, тот же кабинет Ханссона обратился к СССР с предложением расширить торговлю с СССР, предоставив СССР стомиллионный кредит с рядом выгодных для нас уточнений договора. Это был договор о займе [1934 года] с соответствующими изменениями, вытекающими из кредитного соглашения. Москва согласилась возобновить переговоры на этой новой основе… кредитное соглашение состоялось и начало вливаться в практику жизни нашими заказами и нашим экспортом в Швецию. Но и это соглашение было сорвано, на этот раз не монополистами, а фактом разбойничьей агрессии фашистов на Советский Союз 22 июня 1941 года. Государственное кредитное соглашение между СССР и Швецией не могло быть практически осуществлено из-за внешнего события – мировой войны. Но в канцеляриях торговых министерств Москвы и Стокгольма лежали два неиспользованных текста договоров между Союзом и Швецией: договора о шведском займе Союзу 1934 года и кредитное соглашение 1940 года. Оба эти важные документа не были похоронены, они ожидали лишь благоприятной конъюнктуры, чтобы воспрянуть и вступить в действие, конечно, в несколько переработанном виде…» [8].
Мы продолжим тему о торговых отношениях между СССР и Швецией после войны в главе 14 все с той же целью: оценить влияние этого фактора на дело Рауля Валленберга.
5 января 1935 года А. М. Коллонтай записала в дневнике: «…Торгпред уехал. Как сработаемся с новым?…» [8]. Незадолго перед этим Давид Канделаки дважды (28 и 29 декабря 1934 года) встречался со Сталиным в его кремлевском кабинете, получая инструкции для выполнения новой, «германской миссии» Канделаки. В ходе ее Д. В. Канделаки побывал в кабинете Сталина еще 18 раз… [25].
В «Дипломатических дневниках» Канделаки ни разу не упоминается по имени (как и другие сотрудники полпредства, многие из которых были репрессированы – материал был отредактирован в последние годы жизни Александры Михайловны (1946 – 1952), ведь он предназначался к печати, пусть и в далеком…1972 году (в год столетия со дня рождения Коллонтай), на самом же деле эта книга увидела свет лишь в 2001 году). Он именуется «торгпред» и это слово встречается не менее сотни раз в восьмой – двенадцатой тетрадях (1930 – 1934 гг.) этих дневников. Очень мало слов об отношениях между ними, просто констатация совместной четырехлетней работы «по золоту, лесу и займу».
Зато А. И. Ваксберг уделил много места характеру их отношений [20], основываясь на каких-то других материалах архивов Коллонтай.
«В Стокгольме ее ждал сюрприз: пока она «прохлаждалась» в Сочи, прибыл новый торгпред. С первой же минуты она почувствовала к нему полное расположение. Об этом – спонтанная, по горячим следам – запись в дневнике: «Очень, очень симпатичный кавказец, культурный, умный, приятная внешность, приятные манеры. Интересно разговаривать с таким эрудированным и внимательным собеседником. […] Уверена, что сработаемся […]» Это был Давид Канделаки молодой человек с туманным прошлым, недавно начавший работать в наркомате внешней торговли. Про него говорили, что он очень близок к Сталину, точнее, к Алеше Сванидзе – брату первой жены Сталина и его личному другу. Вхожесть в дом вождя делала нового торгпреда в глазах Коллонтай еще более симпатичным, а его очаровательная молодая жена – врач Евгения Бубнова – покорила своей готовностью немедленно включиться в общественную работу… По множеству признаков она все более убеждалась в том, что торгпред действительно близок к вождю и выполняет здесь его личные поручения. Все друзья, которые приезжали к нему в Стокгольм или состояли с ним в переписке, относились к узкому кругу сталинских родственников или домашних приятелей: кроме Алеши Сванидзе, еще и Шалва Элиава, Станислав Реденс, Иван Аллилуев, Зураб Мголоблишвили… Для чего послал его Сталин в Стокгольм? Следить за полпредом? Или с тайными поручениями, исполнить которые, по его мнению, она сама не способна? Эти вопросы мучили ее, и ответа на них она не находила. Но одно не вызывало сомнений: появился прямой канал связи с вождем, до которого она могла довести информацию, не подходившую ни для официальных, ни для личных писем. Какая-то неведомая сила побуждала ее к тому, чтобы в присутствии Канделаки все время доказывать свою лояльность. Больше того – личную преданность Сталину и его политике… Чтобы сблизиться еще больше с этой полезной семьей, Коллонтай под началом доктора Бубновой создала «Линию-клуб», который, согласно его «устава», имел целью «сохранение линии, а также исправление испорченной; возбуждение аппетита и обмена веществ, при одновременном обмене мячами; физкультурное времяпрепровождение и сближение членов клуба (до определенных границ)». Экспертом и казначеем клуба была определена совсем юная дочь Канделаки – Тамара, а почетным членом клуба – кот Канделаки по имени Васька – «вследствие образцового умения обращаться с мячом». Таким образом, ни один член семьи Канделаки не был забыт, каждому нашлось подобающее ему почетное место. Следует ли удивляться, что титул «мисс Линия» достался Тамаре, а титул «мистера Линия» ее отцу…» [20].
Новым торгпредом в Швеции стал Лазарь Леонтьевич Непомнящий, который впоследствии сменил в Германии отозванного в апреле 1937 года Канделаки. Торговая активность СССР в Швеции с декабря 1934 года (назначения нового торгпреда) резко пошла на убыль: «15 февраля [1934 года]. Торгпред обеспокоен: намечается сильное сокращение торгпредства. Недоучет развития торговых связей со Швецией и вообще со скандинавами… Сокращение торгпредства – это утрата всех тех нужных связей (нужных именно в момент войны), которые мы с таким трудом налаживали все эти годы. Недоучет значения крепких экономических связей со Швецией. Наши отношения с Финляндией ухудшились. Тем более важно иметь базу здесь.» [8]
30 сентября 1937 года А. М. Коллонтай сделала запись в дневнике о полученном ею в Женеве известии об аресте Д. В. Канделаки: «…Обычно я люблю суету больших вокзалов, как в Базеле. Выпить, стоя у буфета, чашку горячего кофе, купить огромную ароматную грушу „бере“ и запастись газетами на разных языках на дорогу. Но сегодня боюсь газет, еще больше расстроюсь, опечалюсь. Последнее, что сказал мне Суриц в „Ричмонде“, это, что Д.В. снят с работы и арестован. Он, который пользовался „особым“ доверием… Нехорошо на душе, холодно и жутко… И я хожу по базельскому вокзалу и чувствую до жути холод в сердце. Тяжелое, тревожное время, как сказал Литвинов. Да, такой напряженной атмосферы я не помню. Многое неясно, запутано, темно. Но одно ясно: наши подлые враги, Берлин да и другие, сумели развить широко и глубоко свою подрывную работу. Перед их злоумышлением и коварством бледнеют все происки и интриги дворов папы в Риме в былые времена или коварство и двуличие дворов Медичи с их отравленными перчатками и кинжалом в спину. Иезуитская работа при дворах абсолютных монархов Европы времен Возрождения кажется детской игрой. Процветают двуличие, коварство, строятся козни и заговоры. И пошатнулось самое ценное – моральная вера в друзей… Газет я просто читать не могу, сплошная ложь и клевета. Вот уже снова пишут, что меня отозвали, и что вместо Москвы я убежала куда-то за границу. А в другой – Литвинов впал в немилость. Злятся империалисты, что карты раскрыты и что злоумышления их не удались (как же иначе, ведь Александра Михайловна готовила все это для публикации в … 1972 году – прим. авт.). Поезд подходит, и носильщик идет за моими вещами. В путь на Берлин – противное стало слово.» [8]
Принято считать, что причина ареста и расстрела Канделаки выражена в эпиграфе к данной статье. «… был арестован Давид Канделаки, только что получивший повышение по службе, сменив пост торгпреда в Германии на пост заместителя наркома внешней торговли. Никакого сомнения не было: его «повысили» лишь затем, чтобы заманить в Москву… (Канделаки не было нужды заманивать в Москву. Он был отозван из Германии вместе с полпредом Я. З. Сурицем в самом начале апреля 1937 года и уже 3 апреля имел встречу со Сталиным в его кабинете в Кремле. В это время Канделаки, с чувством честно выполненной порученной ему работы, и подумать не мог, что случится в сентябре этого же года. Да и действительное (не фиктивное, для заманивания) назначение его заместителем наркома НКВТ опровергает тезис о заманивании – прим. авт.) «Следствие» по делу Канделаки тянулось полгода срок редкий для тех времен. Когда речь шла о людях из самого близкого его окружения, Сталин не слишком спешил с завершающей «следствие» пулей. Все те, с кем Канделаки был дружен, родственники Сталина прежде всего, уже пребывали в лубянских камерах или ждали ареста. Канделаки был обречен хотя бы потому, что был слишком близок к тирану и знал то, что не должен был знать никто. По той же причине был так зверски уничтожен в Швейцарии порвавший с Москвой советский агент Порецкий-Рейс: он был в курсе тайных переговоров, которые вел Канделаки с гитлеровской верхушкой, и собирался предать их огласке. Как это часто тогда практиковалось, вмененные в вину Канделаки факты частично имели место, но не содержали никакого предательства, поскольку он действовал по личному указанию Сталина. «Установил связь с фашистскими кругами в Германии…» Действительно, установил – встречался даже с самим Герингом (это ошибка: Канделаки встречался лишь с его двоюродным братом Гербертом – прим. авт.), но отнюдь не по заданию «врага народа» Пятакова, а по заданию «отца всех народов» Сталина. И выгодный Германии торговый договор заключил (не заключил, так как немцы не соглашались поставлять в СССР товары военного назначения – прим. авт.), конечно, не по своей воле, а все по той же, по той же… " [20].
Однако в данном случае могло оказать существенное влияние и совершенно другое обстоятельство. В книге, содержащей письма к И. Г. Эренбургу [26], можно найти письмо к нему (номер 417) в феврале 1963 года журналиста Риммы Канделаки (Р. Е. Канделаки). Она обратилась с этим письмом к Эренбургу, выражая горячую поддержку его позиции в споре с литературным критиком – сталинистом Ермиловым. В этом письме Р. Е. Канделаки привела пример, когда люди открыто говорили правду в сталинские времена: Васо Канделаки (1883—1938), ректор Госуниверситета Грузии, брат ее отца, выступил против Лаврентия Берии в 1937 году, «…познакомив партколлектив с „грехами молодости“ сего бандита, относящимися к его, бериевской, службе в мусаватистско – английской разведке (Баку, 1920) …Он был немедленно схвачен, подвергся пыткам и расстрелян. Была расстреляна и его жена, два двоюродных брата (Давид Канделаки, бывший нарком, и Шалико, бесп <артийный> инженер…» [26]. Имя Васо Канделаки фигурирует в протоколах процесса против Лаврентия Берия в 1953 году [27].
Берия направил компромат на Д. В. Канделаки Сталину еще 20 июля 1937 года [28]:
«Дорогой Коба!
Следствие по делам контрреволюционеров Грузии разворачивается дальше, вскрывая новых участников гнуснейших преступлений против партии и советской власти. Арест Г. Мгалоблишвили, Л. Лаврентьева (Картвелишвили), Ш. Элиава, М. Орахелашвили, Лукашина и других и данные ими на следствии показания проливают яркий свет на предательскую диверсионно-вредительскую шпионскую и террористическую работу, которую вели они, состоя в к.р. организации правых…
IX. Обширные показания о шпионской работе Давида Канделаки дали Г. Мгалоблишвили и Ш. Элиава.
Этими показаниями устанавливается, что Д. Канделаки по заданию всесоюзного центра к.-р. организации правых связался с представителями фашистской Германии – Шахтом, Герингом и Геббельсом.
По показаниям Г. Мгалоблишвили Д. Канделаки лично ему признался, что ему удалось заключить от имени правых соглашение с правительством фашистской Германии об оказании взаимной поддержки в момент начала военных действий между Германией и СССР. Д. Канделаки был связан также с германской и английской разведками…
XV. Для дальнейшего разворота следствия считаю необходимым арест Кахиани Михаила, Асрибекова Ерванда, Гайоза Дендариани, Ломидзе Луки, Канделаки Давида и Старка…» [27].
Впоследствии был уничтожен почти весь руководящий состав НКВТ СССР, начиная с наркома А. П. Розенгольца. Лавина показаний нарастала. Приведем в качестве примера лишь один документ этого безумия:
«…5. НЕПОМНЯЩИЙ Л.Л., бывший торгпред СССР в Германии. Допрашивал: БЕРЕЗОВСКИИ.
Сознался в том, что являлся участником антисоветской правотроцкистской организации, существовавшей в системе Наркомвнешторга, в которую был вовлечен РОЗЕНГОЛЬЦЕМ.
По заданию РОЗЕНГОЛЬЦА проводил финансирование ТРОЦКОГО. По этому поводу НЕПОМНЯЩИЙ показал, что в начале 1935 года, будучи назначен торгпредом в ШВЕЦИЮ, бывший торгпред КАНДЕЛАКИ связал его с директором сталелитейной фирмы «Сандвикен» МАГНУСОМ и сообщил, что с МАГНУСОМ имеется договоренность об отчислении 11/2% в пользу ТРОЦКОГО от общей суммы стоимости даваемых Наркомвнешторгу заказов этой фирме.
Эти отчисления, составляющие примерно 30—40 тысяч шведских крон в год, переводились МАГНУСОМ в Берлин на имя родственника ТРОЦКОГО – некоего ЖИВОТОВСКОГО.
В 1936 году НЕПОМНЯЩИЙ получил непосредственно от РОЗЕНГОЛЬЦА задание обеспечить дальнейшее финансирование ТРОЦКОГО.
Фирме «Сандвикен» Наркомвнешторгом через «Союзметимпорт» были выданы заказы на стальные изделия на общую сумму около двух миллионов шведских крон. НЕПОМНЯЩИЙ связался с директором фирмы МАГНУСОМ и добился согласия отчислить для ТРОЦКОГО 2% от общей суммы стоимости заказов. Отчисления в пользу ТРОЦКОГО по этой сделке составили свыше 30 000 шведских крон, которые были переведены ТРОЦКОМУ через банк ВАЛЕНБЕРГА в Берлине.
По указанию НЕПОМНЯЩЕГО вовлеченный им в правотроцкистскую организацию директор Нефтесиндиката ВАГНЕР (арестован) проводил финансирование Троцкого за счет созданного фонда, полученного от экономии при оплате таможенных пошлин, ВАГНЕРОМ через банк Валенберга было переведено лично ТРОЦКОМУ двадцать тысяч шведских крон…» [29].
Известны три расстрельных списка по делу «Москва-Центр» [30]:
• на 161 человека «по первой категории» от 3 февраля 1938 года, в этом списке имя Канделаки было вычеркнуто,
• на 222 человека «по первой категории» от 5 марта 1938 года, в этом списке имя Канделаки не было вычеркнуто, но он остался жить,
• на 139 человек «по первой категории» от 26 июля 1938 года, по этому списку и расстреляли Д. В. Канделаки 29 июля 1938 года.
Литература
1. Янгфельдт Б. Рауль Валленберг. Исчезнувший герой Второй мировой. – М.: АСТ: CORPUS, 2015. – 636 c.
2. Бирман Дж. Праведник. История о Рауле Валленберге, пропавшем герое Холокоста. – М.: Текст, 2007 (Приложение: Рауль Валленберг. Отчет шведско-российской рабочей группы). – 399 с.
3. Кан А. С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. – М.: РГГУ,1999. – 359 с.
4. Ivar_Kreuger. – https://en.wikipedia.org/wiki/Ivar_Kreuger
5. Андреев Б. Г. Спичке – 100 лет. – М. – Л.: Госхимтехиздат, 1934. – 53 с.
6. Сталин И. В. Cочинения. – Т. 13. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. – с. 282—379.
http://grachev62.narod.ru/stalin/t13/t13_46.htm#r11
7. Коллонтай А. М. Дипломатические дневники. 1922—1940. В 2-х т. Т.1. – М.: Academia, 2001. – 527 с.
8. Коллонтай А. М. Дипломатические дневники. 1922—1940. В 2-х т. Т.2. – М.: Academia, 2001. – 543 с.
9. ГАРФ. Ф63. «Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в Москве (Охранное отделение) при московском градоначальнике», оп. 44. «Дневники наружного наблюдения, 1908 – 1917».
10. Рыбаков А. Н. Страх. – М.: Книжная палата, 1991. – 576 с.
11. Кривицкий В. Я был агентом Сталина. – М,: Терра, 1991. – 365 с.
12. Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. – СПб.: Нева, М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2001. – 511 с.
13. Дегтярев К., Колпакиди А. Внешняя разведка СССР. – М.: Эксмо, 2009. – 736с.
14. Дамаскин И. А. Сталин и разведка. – М.: Вече, 2004. – 400 с.
15. Полномочное представительство – Миссия – Посольство СССР в Швеции. – http://www.knowbysight.info/6_MID/00632.asp
16. Радзинский Э. С. Иосиф Сталин. Гибель богов. – М.: АСТ, 2012. – 370 с.
17.Канделаки Давид Владимирович. – http://www.knowbysight.info/KKK/03005.asp
18. Канделаки Давид Владимирович. – ru.wikipedia.org/wiki/
19. Безыменский Л. А. Гитлер и Сталин перед схваткой. – М.: Вече, 2000. – 512 с.
20. Ваксберг А. И. – Валькирия Революции. – М.: Русич, Олимп, 1998. – 560 с.
21. ГА РФ. Ф. Р-7523
22. Судоплатов П. А. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 382 с
23. Stockholms Enskilda Bank. – https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Enskilda_Bank
24. Кен О. Н., Рупасов А. И. Политбюро ЦК ВКП (б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920—1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. Часть 1. Декабрь 1928 – июнь 1934 г. Научное издание. – СПб.: Издательство «Европейский Дом». 2000. – 704 с.
25. На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924—1953 гг.). – М.: Новый хронограф, 2008. – 784 с.
26. Я слышу всё…: почта Ильи Эренбурга, 1916 – 1967. – М.: Аграф, 2006. – 688 с.
27. Лурье Л. Я., Маляров Л. И. Лаврентий Берия. Кровавый прагматик. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 624 с.
28. Записка Л. П. Берия И. В. Сталину о контрреволюционных группах в Грузии. 20 июля 1937 г. – Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937—1938. – М.: МФД, 2004, стр. 252—255.
29. Сводка важнейших показаний арестованных управлениями НКВД СССР за 13 марта 1938 г. – Лубянка. Советская элита на сталинской голгофе. 1937—1938. М.: МФД, 2011, стр. 178—189.
30. АП РФ, оп.24, дело 414, лист 356, оп.24, дело 415, лист 10, оп.24, дело 417, лист 212.