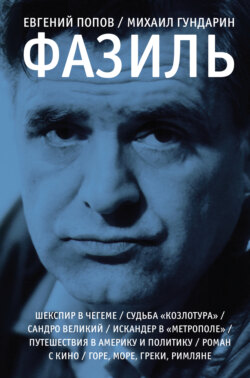Читать книгу Фазиль. Опыт художественной биографии - Евгений Попов - Страница 7
Глава вторая
Семья и родня Искандера
Персидские мотивы
ОглавлениеИтак, понимание творчества Фазиля Искандера будет неполным без знания о его Абхазии – но еще более неполным, если не знать непосредственную историю его семьи, драматичную и полную тайн. Многие из них, увы, не могут быть раскрыты – теперь уже почти точно – никогда.
Прежде всего это касается отца Фазиля. Абдул был персом. Происходил из зажиточной семьи. Фазиль вспоминал, как ему, маленькому, родственники со стороны отца показывали в Сухуме дома – много домов, чуть ли не половина города! – и говорили, что их построили из кирпича, изготовленного на фабрике его деда. У кого-то из родственников Фазиля остался от него старинный, с золотым тиснением Коран.
Так что по отцовской линии Искандер – перс. Его дед Ибрагим приехал в Абхазию в девятнадцатом веке. В этом не было ничего исключительного – мы уже писали о том, что местные жители торговлей заниматься не желали. Персы, греки, евреи, армяне селились в приморских городках, да так там и остались. А их потомки составили уникальное разношерстное и разноязыкое сухумское сообщество, с такой любовью описанное Искандером в «Детстве Чика».
Повезло в бизнесе, как сказали бы сейчас, и Ибрагиму Искандеру. Он основал один из первых кирпичных заводов в Абхазии. Во времена большого строительства в конце девятнадцатого – начале двадцатого века кирпичи шли влет! Он женился на местной абхазской девушке Хамсаде Агрба, построил дом (тот самый дом под кипарисом, что дал название повести Фазиля Искандера), здесь у него родились сыновья Абдул, Мамед, Самед, Риза и дочь Султана.
Известная в Абхазии общественная деятельница Адиле Аббас-оглы вспоминала:
«Ближайшими друзьями моего деда были Ибрагим Искандер и Мухарем Буюк-оглы, по духу и положению близкие ему. Они часто встречались, помогали друг другу в делах. Искандеры, состоятельные и всеми уважаемые, были иранского происхождения, и дед находился с ними в отдаленном родстве. <…> Жили они в большом двухэтажном доме, построенном в 1903 году. Я часто бывала в нем вместе с родителями и хорошо помню теплое гостеприимство и уют, который умели создать женщины этой замечательной семьи, особенно красавица Султан-ханум.
После смерти Ибрагима главой семьи стала его жена, абхазка Хамсада, гордая, властная женщина с сильным характером. Она прожила сто лет. <…>
Наша семья была связана с Искандерами и молочным родством. Одним из древних обычаев абхазов было братание (аталычество), когда двух только что родившихся младенцев матери передавали друг другу и вскармливали грудью. Моя бабушка Гюльфидан вскормила старшего сына Искандеров – Абдула (отца Фазиля Искандера), а Хамсада – моего отца Шахбаса. Позже побратимами стали мой дядя Риза и его тезка Риза Искандер».8
Этому дому больше ста десяти лет. Когда-то при нем были и конюшня, и баня, и служебные пристройки, и склад табака, но с приходом советской власти дом был разделен на квартиры. Именно этот дом стал прообразом дома Чика (балкончик уж точно тот же самый). Кстати, домом сейчас владеет племянник писателя, сын его старшего брата Риза Искандер. А хурма, посаженная Хамсадой Агрба, до сих плодоносит.
Мы уже писали, что с древности Персия (сами иранцы искони называли свою страну Иран) держала Абхазию в зоне своего внимания. Собственно, и фамилия Искандер – оттуда, из Персии. Она ведет свое начало от восточного варианта древнегреческого имени Александр – Искандер, «одерживающий победу, победитель».
Есть легенда, связанная с происхождением семейного имени Искандеров. Согласно ей, родоначальником рода был не кто иной, как писатель-декабрист Бестужев-Марлинский! Ведь он имел псевдоним Искандер-бек и бесследно исчез во время одного из боев с немирными горцами в 1837 году в пригороде нынешнего Сочи, совсем рядом с Абхазией. Так что правильнее было бы считать его не погибшим, а пропавшим без вести. По легенде, он добровольно перешел к горцам и стал правой рукой Шамиля. Говорили даже, что Шамиль – это и есть сам Бестужев! В общем, в эту легенду верится с трудом – вряд ли русский офицер, хоть и бывший участник заговора декабристов (прошло более десяти лет с 1825 года), пойдет на службу к врагу империи, да еще к тому, с чьей армией отчаянно сражался столько лет.
Согласно другой легенде, тяжело раненный Марлинский был спасен влюбившейся в него горянкой, укрыт в одном из горных сел – чуть ли не в самом Чегеме! От него, точнее – его псевдонима, и пошли Искандеры.
Понятно, что многое в этой легенде не сходится. Зато она объясняет генетическую связь Фазиля Искандера с русской культурой и русским языком. Разве не парадоксально, что одним из самых значительных русских писателей двадцатого века стал человек, в жилах которого нет ни капли русской крови! С другой стороны, при чем тут генетика? Преемственность передается иными путями – не биологическими, но духовными, простым смертным недоступными.
Как бы то ни было, благополучно прожившие в Абхазии почти сто лет персы и греки были отсюда выселены. Перед Великой Отечественной войной – еще по сравнительно мягкому варианту, на историческую родину (на которой большинство из них никогда не бывало и где им были совсем не рады). После войны греков отправляли в ссылку на восток империи, в Сибирь, где очень многие и погибли. Ну а в конце тридцатых персов, кстати, депортировали в Иран только в том случае, если они не приняли советского гражданства. Хотя… если бы приняли, их ждала судьба, неотличимая от судьбы остальных советских людей. Отец Фазиля отказался от гражданства СССР и в 1938 году был выслан в Иран. Его братья гражданство приняли и погибли в ГУЛАГе.
В Сухуми отец Фазиля (некогда богатый наследник!) работал на мелких должностях, некоторое время даже на кирпичном заводе, прежде принадлежавшем его отцу – деду Фазиля.
Вот несколько воспоминаний о семейной жизни родителей из рассказа Фазиля, который так и называется – «Отец» (написан в восьмидесятых, вошел в цикл «Школьный вальс, или Энергия стыда»).
У них был сосед, увековеченный Искандером под именем Богатый Портной.
«Вот этому портному и его семье мама завидовала и упрекала отца в безалаберности. Теперь-то я думаю, что мы жили не намного хуже его, но у нас не было того поступательного движения, той древней поэзии улучшения гнезда, без которой до конца не может быть счастлива ни одна женщина.
Мама считала, что дело всё в хорошей работе, но отец или не мог ее найти, или был доволен своей.
Помню его на угольном складе с руками черными и пропахшими земляной сыростью, тайной нераскрытого клада.
Помню его на каком-то яблочном предприятии. Горы яблок, а я босой хожу по ним, выбираю самое лучшее и никак не могу выбрать.
Только найду красное – приходится бросать, потому что вижу другое, еще более румяное, крутое, красивое. Отец стоит рядом и посмеивается».
Был он не прочь и посидеть в кофейне (а точнее, мог провести там с друзьями много часов), что вызывало крайне негативную реакцию жены – как, собственно, аналогичное поведение мужей вызывает аналогичную реакцию всех жен мира…
Незадолго до своей высылки он потерял очередную работу, семья осталась без денег. Пришлось опираться на деревенскую родню матери и пустить квартиранта – в одну-то из двух комнат, выделенных им в большом доме! Впрочем, вспоминает Искандер (и в этом оптимизме он весь), «у нас еще оставалась комната и веранда, которая по нашему теплому климату вполне могла сойти за вторую комнату».
Вскоре отца выслали.
Фазиль, которому не было тогда и десяти лет, хорошо запомнил его отъезд: «Все родные так плакали, что весь вагон расплакался. Я помню это невероятно горестное ощущение. И помню слёзы на глазах у проводницы».
Он нередко вспоминал, что именно отец читал ему книги, – например, «Тараса Бульбу». Для Фазиля, ценящего чтение очень высоко, это воспоминание было одним из самых важных: отец успел передать ему НЕЧТО, повлиявшее на духовное формирование будущего писателя.
Абдул больше в Абхазию не вернулся, свою семью он видел тогда в последний раз. По некоторым сведениям, в Иране он был арестован как советский шпион (а может, для этого были какие-то основания? Конечно, кадровым чекистом он не был точно, но, возможно, перед высылкой ему дали некое задание – мол, наблюдай, что там да как, а мы поможем тебе вернуться или о семье позаботимся). Содержался Абдул в ужасных условиях и, несомненно, заключения в тамошнем ГУЛАГе не перенес бы, как не перенесли заключения его братья в ГУЛАГе советском, – но началась война, в Иран были введены советские войска, и ситуация с арестованными «бывшими советскими» персами сразу улучшилась. Абдул вышел на свободу, устроился работать на железную дорогу, несколько раз писал домой, даже присылал скромные посылки с иранскими засушенными фруктами… Просил похлопотать о его возвращении.
И вот молодой Фазиль, московский студент, в конце сороковых отправляется в МИД наводить справки об отце. От него шарахались как от зачумленного: времена-то были сталинские.
В беседе с одним из авторов этой книги Искандер вспоминал:
«Я, уже учась в Литинституте, однажды отправился в МИД, хотя мне, когда я посоветовался с одним своим товарищем, сказали, что это опасное дело и я могу оттуда не выйти. Но я абсолютно не верил в какую-то опасность этого дела, я зашел туда, меня часовой спросил, что вам надо, я говорю – мне надо поговорить, что у меня отец, то-се, он говорит: вот телефон, по этому телефону звоните, по такому-то номеру. Я звоню, кто-то берет трубку, я кратко рассказываю историю отца, он выслушивает меня и говорит: позвоните по такому-то телефону. Я звоню, и следующий человек выслушивает меня и говорит: позвоните по такому-то телефону. Я звоню дальше и как бы ощущаю такое нарастающее чувство вины, как будто бы я внедрился в грандиозный государственный аппарат со своими мелкими делами и всё дальше и дальше иду по этим лабиринтам. Наконец следующий, кому я всё объяснил, сказал мне: “Изложите всё это в письме к нам”. И я ушел и написал – да я и не раз писал, но это не воздействовало, их это не трогало».
Слава богу, что обошлось всё с самим Фазилем, – а вопрос о возвращении отца так, конечно, решен не был. Нет точных сведений, как он жил, чем занимался в Иране. Доходили смутные слухи, что он, человек еще не старый, завел там новую семью, – может быть, поэтому и не вернулся в Абхазию? Только ближе к концу пятидесятых Фазиль узнал о его смерти.
Много позже в одной из бесед с Евгением Поповым Искандер вспоминал, как это было:
«В пятьдесят шестом, я в Сухуми тогда жил, на первом этаже, и мне почтальонша всегда так стучала в окно, давала газеты или письма прямо в мою комнату… Вдруг в один прекрасный день она в стекольце так стукнула рукой, и меня охватил – вот мистика – какой-то ледяной холод, хотя разумом я понимал – никто, кроме нее, не мог постучать в окно. Днем. Я с трудом встал, подошел, она подала мне письмо, и я по конверту понял, что это – иностранное письмо. Так как тогда я мог переписываться только с отцом, я понял, что письмо – оттуда. Раскрыл письмо, где его товарищ, языком и почерком человека, уже забывающего русский язык, написал: “Ваш отец умер в пятьдесят шестом году. Царство ему Небесное…”»
Этот устный рассказ вошел и в повесть «Стоянка человека». Подробности – те же, за исключением года: в «Стоянке» назван 1957-й…
Актер и режиссер Сергей Коковкин вспоминает, что в конце восьмидесятых Фазиль иногда отказывался подписывать международные воззвания, например, письмо в защиту Салмана Рушди.
Не исключено, что не случайно так горячо звучит одно из отступлений в том эпизоде «Сандро», где родственники забирают тела расстрелянных без суда и следствия:
«По абхазским обычаям мертвый должен быть предан земле на семейном кладбище. И если он убит или умер очень далеко от дома, его надо во что бы то ни стало перевезти домой. И если он убит властями и тело его охраняется ими, надо выкрасть или вырвать силой родной труп, даже рискуя жизнью. Таков закон гор, закон чести абхазца».
Незадолго до смерти, уже в двадцать первом веке, Искандер удостоился чествования со стороны иранских дипломатов как «русский писатель иранского происхождения». Однако местонахождение могилы Абдула Искандера неизвестно до сих пор.
Принявшие же советское гражданство двое дядьев Фазиля были арестованы как «враги народа» и погибли в лагерях. У Искандера много говорится о них в цикле рассказов (или повести, о жанре можно спорить) «Школьный вальс, или Энергия стыда». Вот об одном из них, «благополучном», гордости и надежде своей матери, бабушки Фазиля:
«Однажды дядя не пришел с работы, а потом тетя где-то узнала, что его “взяли”. Я еще не знал значения, которое придавали этому слову, но чувствовал какую-то жестокую безличную силу, заключенную в нем.
Печальная таинственность окружила нашу семью. Приходили соседи, сочувственно вздыхали, качали головой. Говорили с оглядкой, полушепотом. Чувствовалось, что люди живут напряженно, в ожидании грозного, как бы стихийного бедствия.
Арест дяди скрывали от бабушки. Но она чуяла что-то недоброе и, страшась правды, делала вид, что верит в его неожиданную командировку. Однажды я увидел, как она перебирает вещи в дядином чемодане и тихо причитает над ними, как над покойником. Мне стало не по себе, я понял, что она всё знает.
Приходили дядины друзья, всё такие же стройные, нарядные, но притихшие. Они без конца курили, грустно шутили, что лучших забирают, и как-то утешающе рассказывали, что “взяли” еще такого-то и такого-то. <…>
Дядя так и не вернулся. С годами боль улетучилась, оставив каплю яда в крови и воспоминание о нем, как о далеком солнечном дне. И только бабушка с неутихающей яростью молила своего глуховатого бога вернуть ей сына. Обычно она молилась, стоя лицом к окну, возле дядиного письменного стола. В такие минуты, чтобы не мешать, никто к ней близко не подходил.
Однажды я подошел к стене и посмотрел на нее сбоку – бабушка держала в руке рюмку водки, и это меня потрясло. Оказывается, она прятала бутылку за ставней. Бедная бабушка молилась в день по пять-шесть раз. Молитва, поддержанная рюмкой водки, наверное, утешала, но всё же она умерла, так и не дождавшись сына. <…>
После двадцатого съезда пришло письмо о реабилитации дяди. В эти дни я случайно встретился с Оником, теперь работником следственных органов. Я знал, что ему поручена проверка такого рода дел. Он, не дожидаясь моего вопроса, сказал, что видел папку с делом моего дяди.
– Что же в ней было? – спросил я.
– Ничего, – сказал он и развел руками».
Пропал в заключении и второй дядя, не «благополучный», а попросту спившийся, юрист, человек добродушный и незлобивый, зарабатывавший свою бутылку и кусок хлеба тем, что писал горцам прошения на базаре. Искандер вспоминает с горькой усмешкой, что после его ареста семья гадала: как же сможет он в тюрьме обойтись без своей ежедневной доли алкоголя?..
Третий дядя – «сумасшедший» – известен всем читателям Искандера.
Зато еще один, по имени Навей, после войны вдруг вынырнул в неизвестной Чегему Америке и оттуда по радио на родном языке стал вещать Евангелие своим ошеломленным землякам. Такая вот судьба, такой вот двадцатый век.
Не обошел стороной он и тетушку по отцовской линии, героиню и рассказов Искандера, и семейных легенд. Напомним, ее звали Султана Ибрагимовна (хотя в рассказах Искандера это имя ни разу не называется). У нее действительно был неудачный опыт замужества: якобы турецкий консул (а не персидский, как в рассказах), ее избранник, оказался многоженцем, что возмутило Султану, но не помешало получить в виде отступного увесистый мешочек с золотом. Всю жизнь она проживет вместе со всей (основательно поредевшей, увы) семьей, умрет в 1968 году. Похоронена на родине матери – бабушки Фазиля – в селении Нижняя Эшера.