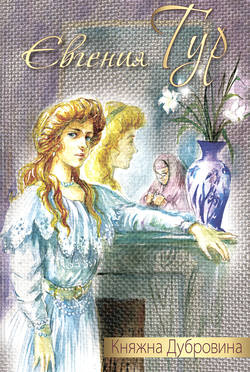Читать книгу Княжна Дубровина - Евгения Тур - Страница 5
Часть первая
Глава III
ОглавлениеНе теряя времени, Маша стала учить девочек тому, что сама знала: и арифметике, и правильно читать и писать по-русски, и Священной истории, и рукоделиям, к которым Агаша не только была способна, но и пристрастилась, а Анюта терпеть не могла и всегда так устраивала, что другие девочки вяжут или шьют, а она читает. Маша учила девочек шить и вязать, Агаша даже скоро выучилась штопать.
– Это дело в хозяйстве необходимое, а все эти канвовые работы – только денежный перевод, – говорила Маша, – да и времени у меня на это нет. Это выдумано для богатых, чтобы время коротать.
– Разве мы бедные? – спрашивала Лида.
– Благодарение Богу, нет, но мы и не богатые. Вам надо знать всякое домашнее дело, полезное рукоделье.
И Маша сама детей обшивала, то есть сама шила им и белье, и платье, и Агаша вскоре оказалась хорошей ей помощницей. Наступили каникулы, и счастью детей и веселости Маши конца не было. Начались длинные прогулки, полдники в лесу, катания на лодке, громкий говор и смех, собирание грибов в бору, трав на лугу и цветов в поле.
Маша была охотница до всего этого. Она сушила травы, отбирала их: какие целительные – для домашнего обихода, а какие красивые – для украшения комнат. Она делала из длинных трав и высоких султанов букеты и ставила их в вазы по всему дому. И что за чудесные это были букеты! Травки такие тоненькие, всякого сорта и разной формы, хотя и пожелтевшие, но все же прекрасные. Всю зиму напоминали они о весне и лете.
Особенно любила Маша уходить с детьми в теплый летний вечер на берег Оки, переправляться в лодке на другую сторону и, погуляв по опушке бора, набрав грибов, возвращаться к реке, садиться на берег, распевая народные песни, которых Маша знала множество и которым она научила детей. Мальчики принимались за работу. Они натаскивали хвороста и сухого ельника из бора и раскладывали костер на самом берегу Оки на сухом песке. Маша вынимала из корзины небольшую сковородку, кусок масла и принималась жарить собранные грибы. И никогда никакой роскошный обед не мог быть так приятен, как этот ужин у веселого огня, на берегу быстрой Оки, при лунном свете, тихим теплым летним вечером. Смех и говор, говор и смех оглашали вечерний воздух, а когда надо было, наконец, идти домой, то подымались они все не вдруг – так не хотелось им оставить свою стоянку – и шли, распевая хором русские песни.
Маша научила их петь согласно, не фальшивя и без писка. Слух у нее был замечательный. Больше всего дети любили петь хором:
Ах, по морю, ах, по морю, морю синему,
По синему, по синему, по Хвалынскому…
Или другую, веселую:
Подле речки, подле мосту
Трава росла, трава росла зеленая…
И заслышав их издали, выходил к ним папочка, и они все окружали его и рассказывали ему взапуски свои похождения на дальней прогулке. Маша, как и дети, звала мужа папочкой. И она с жаром и смехом рассказывала ему, как Анюта прозевала целую семью боровиков, а она сама, Маша, в одном месте на круг двадцать боровиков нашла.
– Да и я нашла, – кричала Агаша.
– И я, и я, – подхватывали другие девочки.
– Гляди, папочка, завтра сделаем тебе тушеные грибы, – говорила Агаша, становившаяся все более домовитой.
– Погодите, – замечала Маша, – сперва мы посолим и отварим лучшие грибы впрок, а остальные уж к столу пойдут.
На другой день все садились на крыльце, чистили и отбирали грибы, чтобы потом их сушить, отваривать и солить.
Маша была мастерица солить и заготавливать грибы, и делала это с удовольствием – и для себя, и для маменьки, да так много, что их хватало на всю зиму. Но лишь только каникулы кончались, как все принимались за дело: девочки учились, а Маша работала. К матери она ходила аккуратно каждое утро, и вообще все шло хорошо. Маша была счастлива, и все около нее становились гораздо счастливее. Даже прислуга была счастлива.
Маша смотрела за порядком и требовала его от всех, но и сама не забывала заботиться о других. Люди, ей служившие, были всегда накормлены, чисто одеты, и она принимала в их судьбе самое живое участие. Заболевал ли кто – она заботливо лечила его домашними средствами или посылала за доктором, когда болезнь оказывалась серьезной; горе ли было какое – она помогала, если не деньгами, которых у нее часто едва хватало на необходимое, то добрым, ласковым словом и утешением. Самая важная черта в характере Маши была ее необычайная доброта и неистощимая веселость. За эту доброту и за эту веселость так горячо и любили Машу все, кто ее знал.
В жизни Маши было только счастье, одно солнце, но и на Солнце есть пятна, и у молодой женщины была если не печаль, то смущавшая ее забота. Маша училась, как говорится, на медные деньги, и очень печалилась о том, что ничего не знает и не может ничему, кроме чтения и письма, научить своих детей. Она читала вместе с ними исторические книги и путешествия, которые приносил им папочка из клуба, но в этом и заключалось все учение. По-французски Маша не говорила, и это сокрушало ее.
– О чем ты задумалась? Отчего я звонкого голоска твоего не слышу? – спросил ее однажды Николай Николаевич, видя, что она с чулком в руке сидит в задумчивости, хотя и продолжает вязать. Такая уж была у Маши повадка: сложа руки сидеть она не умела.
– Думаю я, что дети становятся большие, пора им учиться, а я, глупая, ничего не знаю и не могу ничему их выучить. Что я знала, тому их выучила; они теперь могут правильно читать и писать, и знают четыре правила арифметики, Закон Божий, а больше я и сама ничего не знаю.
– Ну и что ж такого, из тебя вышла отличная жена и добрая мать, научи их этому, девочки наши в проигрыше не будут.
– Что ты, папочка, Господь с тобой, – сказала Маша с воодушевлением, – оставить их неучеными, как я, – да я и слышать об этом не хочу. Знаю, что у тебя денег нет, чтобы взять учителей. Неужели же отдать их в гимназию или в институт? И на это денег не хватит. Четыре девочки… денег много надо!..
– Я уже немало об этом думал и сокрушался, но на нет и суда нет, – сказал Долинский.
Маша задумалась и потом спросила:
– Нельзя ли нам пригласить гувернантку? И я бы с детьми засела учиться по-французски, по-немецки бы выучилась. Смерть как хочется мне языки знать! Хотя бы Анюта, – когда она вырастет, ее, быть может, знатные родные захотят увидеть, – как мы девочку в люди покажем, коли она у нас вырастет невеждой.
– Уж и невеждой! Только что языков не будет знать, а истории и географии я вас сам обучу, ведь я окончил университетский курс. А литературу читайте сами, вот и будете знать.
– По-русски – да, а по-иностранному?
– Подумаем, поживем – увидим, время терпит.
– Совсем не терпит! Агаше уж минуло одиннадцать лет, а Лиде и Анюте – девять. Пора, право, пора. Да и мои года уходят, – со смехом прибавила Маша.
Разговор этот заставил призадуматься Николая Николаевича, и через месяц он объявил Маше и дочерям, что пригласил учительницу, хорошо знающую языки, и что она будет ходить к ним три раза в неделю.
Какая это была радость! Маша покраснела до ушей и воскликнула:
– Дети, дети, слышите, у нас будет учительница, и я буду учиться! Не правда ли, папочка, и я буду учиться?
– Учись, друг мой, если желаешь.
– Конечно, желаю, как не желать, и мы увидим, кто из нас будет учиться прилежнее. Дети, как вы думаете?
– Нечего и думать, – сказала Агаша, – все это наперед знают: ты будешь лучше всех учиться. Разве ты нам пара!
– Отчего же не пара?
– Ты большая.
– Что ж такого? И вы большие, только я старшая большая, а вы ме́ньшие большие. Зато у меня и дела больше. Вы только и будете знать, что учиться, а на мне весь дом, все хозяйство, да и к маменьке надо пойти, проведать ее.
– Пожалуйста, пожалуйста, – запели хором девочки, – ты о маменьке помалкивай, мы тоже каждый день к ней ходим.
– Чтобы досыта налакомиться, – засмеялась Маша.
– Вот и неправда, вот и неправда! Намедни мы пришли – и никакого угощения не было. Дарья-няня ушла ко всенощной, и мы даже и чаю не попили, а все-таки сидели, разговорами маменьку занимали, – возражали девочки, обижаясь.
– Ну, ну, я пошутила; я знаю, что вы маменьку любите.
– Конечно, любим, и она нас любит.
– Конечно, и она вас любит, – сказала Маша с внезапным умилением в голосе, точно она подумала сейчас, как велико ее счастье. Она действительно так думала и каждый день благодарила за это Бога.
Начались уроки. И хоть девочки были и прилежные ученицы, но как ни старались, а Маша успевала больше их и еще им помогала учить уроки. Встречали они свою учительницу с веселыми лицами, сразу серьезно принимались за дело и во время занятия ни разу не улыбались; учительница говорила, что давать уроки в их доме не труд, а удовольствие. Ленивее других оказалась лишь Анюта. Она была девочка-огонь, одаренная способностями, но резвая и рассеянная, и Маше приходилось часто ей выговаривать. Раз-другой даже доходило до ссоры, потому что Анюта была скора на ответы, нетерпелива и иногда отвечала невежливо. Маша серьезно сердилась на нее и, случалось, не говорила с ней до самого вечера ни единого слова. Тогда Анюта поглядывала на нее и вдруг не выдерживала, бросалась ей на шею, просила прощения и горько плакала, так плакала, что Маше приходилось утешать ее.
– Голубчик мой, Анюта, нельзя так жить на свете, – говорила Маша серьезно, – тебе все бы веселиться да скакать, и ты весела до тех пор, пока тебя гладят по шерстке.
– Да разве я собачонка, что у меня шерстка, – отвечала Анюта, начиная сердиться.
– Конечно, не собачонка, да нрав у тебя бедовый: ты самолюбива не в меру и дерзка на словах. Вырастешь – сама увидишь, что надо прежде всего над собой волю взять; если мы не умеем собой управлять, то будем ни к чему не пригодны.
– А ты собой управлять умеешь? – спросила Анюта. – Вчера ты как рассердилась на Марфу, даже закричала.
– Я рассердилась за дело.
– И я за дело.
– Как, ты опять спорить? – удивилась Маша. – Слово за слово – тебе надо всегда последнее слово сказать и на своем поставить. Мы тебе уступаем, а ты думаешь, все всегда тебе уступать будут?
– Зачем мне все, я их знать не хочу, – сказала Анюта, – я живу с вами, а с другими жить не хочу.
– У тебя всегда «хочу», «хочу». Нельзя жить так, как хочешь, а надо так, как Бог велит.
– Вот Бог мне и велел жить с тобой, злая Маша, у папочки моего доброго, – воскликнула Анюта и бросилась целовать «злую» Машу…
Прошла зима, наступило лето; прошло лето, наступила зима. Анюте минуло уж двенадцать лет. Она, как и сестры, выучилась говорить и читать по-французски, но по-немецки знала плохо: терпеть не могла она этого языка, и давался он ей с трудом. Она никогда не знала хорошо своего урока и в этом сходилась с Агашей, которая не отличалась особыми способностями, но разница состояла в том, что способная и умная Анюта ленилась, а у Агаши была плохая память.
Случалось, хотя и очень редко, что от Натальи Ивановны Завадской приходило к Анюте письмо. Ее спрашивали о здоровье, о ее житье-бытье; от полковника и детей слали поцелуи. Анюту заставляли отвечать ей, и она мучилась над сочинением письма, особенно потому, что Маша заставляла ее переписывать его набело.
– Тоска какая, – роптала Анюта. – Грех какой, – говорила Маша.
– Какой такой грех? – отвечала задорно Анюта.
– Неблагодарность твоя. Люди взяли тебя, сиротку, поили, кормили, одевали, любили, заботились, и добро бы родные – чужие люди, а тебе тяжело раз в год письмо им написать. И стыдно, и грешно!
– Да мне совсем не так скучно им написать, я и пишу, но твое «набело» меня сердит.
– А мне стыдно маранье твое посылать, нас же осудят; папочку осудят, что он тебя не учит. Издали нельзя знать, как о тебе заботятся. Ну, полно разговаривать, садись и перепиши хорошенько письмо, да без помарок и пятен.
– Ну, Маша, – говорила Анюта, садясь за стол и недовольно кусая перо, – нет никого настойчивее и скучнее тебя.
После многих трудов и ропота Маша добивалась от нее порядочно написанного письма, без клякс и помарок, и с удовольствием посылала его на Кавказ к Завадским.
Когда наступили, наконец, так долго ожидаемые каникулы, дети очень обрадовались, потому что ни одна из прогулок не удавалась без мальчиков, а те перед экзаменами не могли терять времени на дальние и к тому же утомительные странствования. Девочки должны были довольствоваться одним садом да тем еще, что навещали «маменьку», как продолжали они звать мать Маши, и Дарью-няню, у которых за зиму все приели, так что старушки поговаривали уже о том, что хорошо, что июнь на дворе, и варенье новое сварить скоро будет можно. За реку Маша девочек одних, без братьев, не пускала, а именно река-то, лодка, переправа и соблазняли Анюту и подавали повод к жалобам и требованиям, но Маша не поддавалась ни тем, ни другим.
Анюта была предприимчива и страстно любила всякое новое развлечение и отступление от повседневного образа жизни; но ослушаться Маши не решилась ни разу и только с вожделением посматривала на привязанную лодку и утешалась тем, что целыми днями упрекала Машу в излишней строгости.
Наконец пришли и каникулы. Братья перешли благополучно в следующие классы, папочка был доволен, Маша сияла радостью, и решено было единогласно отпраздновать это счастливое событие самым торжественным образом. Но как? Папочка поставил вопрос на голосование, начиная с младших. Лида подала повод к нескончаемому смеху и шуткам, ибо не придумала ничего лучше, как пойти к маменьке, попросить полдника с варенцами и пастилой и чаю с топлеными сливками. Крик негодования встретил это предложение.
– Это мы можем сделать и делаем почти каждый день. Вот выдумала, – сказал Митя с презрением.
Папочка погладил смущенную Лиду по головке и улыбнулся:
– Мы с тобой пороху не выдумаем, да это все равно, без нас порох выдумали, и еще мало ли что выдумают; зато мы с тобой люди добрые и кроткие. А ты, Анюта?
– Я, папочка, хочу…
– Опять «хочу», – заметила Маша укоризненно, – противное слово твое, но любимое. С ним ты расстаться не в состоянии.
– Ну, не придирайся, Маша, – отвечала Анюта с гримасой нетерпения, – я хотела бы, – ну, будешь ли ты довольна таким моим выражением? – слушай, я повторяю: я же-ла-ла бы, ес-ли вы со-глас-ны, – ну, так хорошо ли? – сказала Анюта, лукаво глядя на Машу.
– Говори, мы ждем, – поторопил ее папочка.
– Погодите, – усмехнулась Маша, – Анюте надо сперва на своем поставить, а потом она удостоит нас ответом.
– Ты надо мной насмехаешься, – обиделась Анюта, – так не буду я говорить, делайте, как хотите, мне все равно!
Папочка сделал вид, что ничего не замечает, и спокойно обратился к Агаше:
– Твой черед. Ты что хочешь?
– Кататься в лодке и после пить чай на том берегу Оки. – Ваня, а ты? – спросил папочка.
– Нанять лошадей, прокатиться за город на каменную гору, а потом прыгать в обрыв.
Каменной горой называлась гора, на которой совсем не было камней, а напротив, вся она состояла из сыпучего песка, а обрывом была обращена к реке. Обрыв имел множество уступов, и дети забавлялись раза два или три в лето, когда доходили до каменной горы, тем, что прыгали сверху в сыпучий песок. Эти отчаянные скачки вниз не грозили никому никакой опасностью, кроме разве платьев, которые зачастую так обрывались и пачкались, что Маше задавали работу на целую неделю. Она терпеть не могла этой забавы и знала, что, несмотря на заявления девочек, что они помогут чинить и штопать, ей придется все это сделать одной, а дела и без этого было у нее немало. Она не утерпела и воскликнула, отчаянно махая руками:
– Нет! Нет! Только что сшили новые летние платья, и их-то рвать и портить на обрыве – да ни за что!
– Маша! – сказала Анюта. – Мы старые платья наденем. – Она была страстная охотница скакать в обрыв.
– Нет! Нет! – испугалась Маша. – Ни за что!
– Успокойся, Маша, это только мнения, – заметил папочка. – Митя, твоя очередь.
Митя – ему только что минуло шестнадцать лет, и он считал себя уже большим, – предложил идти утром к Золотому ключу, взять с собой всяких пирогов и лепешек и провести там весь день; он обещал после прогулки в роще, находившейся неподалеку, прочесть поэму Пушкина «Полтава».
– Вот это будет всего лучше, – согласился папочка, – и я послушаю твое чтение.
Маша одобрительно покачала головой.
– Ты, я вижу, согласна, – сказал папочка Маше, – и потому я считаю вопрос решенным.
– Не совсем, – ответила Маша, – я предлагаю поправку: сперва пойдемте в пригородный монастырь, помолимся Богу за счастливое окончание учебного года и поблагодарим Его за наше великое счастье, а оттуда пойдем к Золотому ключу. Я захвачу с собой всего-всего для вкусного обеда.
– Ты умнее всех, как всегда, – сказал папочка и прибавил весело: – Быть по-твоему, а я от себя прибавляю рубль серебром для особенного угощения всей компании.
И тогда поднялся настоящий гвалт:
– Мармеладу, – кричала в восторге Агаша.
– Мятных пряников, – вопил Ваня.
– Изюму и винных ягод, – настаивала Лида.
– Шепталы[1], – вскричала Анюта, забыв свою недавнюю досаду.
– Вот и Анюта голос подала, – заметила Маша, – ну, и отлично, я всех помирю, и всего будет понемногу: и мармелада, и пряников, и всего-всего.
– Однако не обедать же нам шепталой и изюмом? – отозвался Митя не без важной серьезности.
– Не беспокойся, – сказала Маша. – Мы возьмем корзинки, где будет и пирог с курицей, и говядина, и лепешки. Каждый понесет что-нибудь – всякий то, чего требовал.
– С уговором, – ответил Митя, – доро́гой не есть, а то эти барышни все скушают и принесут пустые корзинки, особенно Лида с Анютой. Мармелад будет в большой опасности у этих хранительниц общественного провианта!
Все засмеялись, но Анюта опять недовольно надула губы и прошептала:
– Они всегда меня обижают.
– Не дури, Анюта, – сказал Митя. – Кто тебя обидит? Ты сама всех обидишь!
Дети рассмеялись, и сама Анюта не могла не улыбнуться. Было положено, что в следующее воскресенье, то есть через три дня, если погода будет хорошая, все они отправятся на богомолье, а оттуда – к Золотому ключу. И все эти три дня были полны суеты, веселья, беготни и стряпни. Маша превзошла саму себя и, не жалея трудов, ко всему приложила свои руки, помогая кухарке жарить и печь. Круглый пирог испекла она сама, и вышел он такой высокий, сдобный, вкусный даже на вид; дети загодя наслаждались ожиданием пирога.
Настало и воскресенье. С раннего утра девочки, даже уже подросшая Лиза, вскочили быстренько с постелей, умылись, причесались и надели новенькие, с иголочки, платья: Анюта – розовое ситцевое в мелкую клетку, Агаша – точно такое же, они всегда шили себе одинаковые платья, даже с одинаковой отделкой, а Лида и Лиза – голубые. Маша вошла к ним и ахнула.
– Как! В новых платьях! Что от них останется, когда мы воротимся домой вечером? Какие вы, право, небережливые. Нет, я этого не позволю. Отец трудится, иногда через силу, чтобы вас одеть, обучить…
– Маша, да ведь это на богомолье, в церковь, как же нам не надеть новых платьев? – заметила Агаша.
– И в такой праздник, когда братья перешли в высшие классы, даже Ваня, за которого так боялись, – сказала Анюта.
Лида промолчала, но у нее уж навернулись слезы на глазах. Маша взглянула на нее и улыбнулась:
– А Лида уж и плакать готова! У нее всегда глаза на мокром месте.
Девочки рассмеялись.
– Ну, слушайте, дети, – прибавила Маша, – идите в храм Божий в новых платьях, я не запрещаю, но берегите их в роще, не запачкайте, не разорвите, по́мните, что всякое из них обошлось в два рубля с лишком, не считая моего труда.
– А вот тебе и на чай, – сказала Анюта, бросаясь ей на шею. – Ах, почему я не богата, – прибавила она, – как, говорят, богаты все мои родные! Я бы не боялась разорвать платья, не носила бы ситца, а только бы всё батисты, и не ходила бы пешком – всё бы ездила в коляске.
– И ты думаешь, была бы счастливее?
– Конечно, – кивнула Анюта.
– Не знаю, – вздохнула Маша. – Не все дает Бог на этом свете. У одного – одно, у другого – другое. У нас денег мало, зато счастья много.
– А я хочу и денег, и счастья.
– Опять «хочу», – покачала головой Маша. – Не много ли захотела? Знаешь ли, что́ я скажу тебе. От добра добра не ищут. Помни это всегда, это мудрые слова. Помолись лучше нынче за обедней и благодари Бога за то, что мы так все счастливы, и ты тоже.
– Я всегда благодарю Бога, – сказала Анюта, – но все-таки мне это не мешает желать иметь побольше денег. Скучно беречь платье, бояться всякого пятнышка и всякой дырочки.
– А ты думаешь, у богатых девочек нет своих печалей и опасений?
– Какие же?
– Не знаю какие, я с богатыми отроду не водилась и знатных людей даже не видала, но знаю, что у всех на земле есть свои заботы, печали и опасения.
– А я не знаю, – сказала Анюта решительно.
– Анюта всегда любуется, когда мимо нас ездит в своей маленькой колясочке дочь предводителя: она сама правит маленькой лошадкой, а подле нее сидит гувернантка, а сзади едет верховой, – пояснила Агаша.
– И все разряжены, – подхватила Анюта. – Дочка предводителя в белой шляпке с цветами, и на ней пальто тоже белое, такое чудесное. Даже верховой так нарядно одет – в бархатной поддевке[2]. И лица у них такие веселые!
– А у вас невеселые, – поддела ее Маша.
– Положим, веселые, но мы идем пешком, а у нее такая маленькая, малюсенькая колясочка, и такая маленькая, крохотная лошадка, точно игрушка… Завидно смотреть, – продолжала Анюта.
– А Заповедь помнишь?
– Какую? – спросила Анюта.
– «Не пожелай…» – ответила Маша, – словом, десятую Заповедь.
– Нечего и помнить, я ей не завидую, я только любуюсь ею и себе того же желаю.
– А ты бы лучше на себя оглянулась: ты сейчас пойдешь разряженная по улице, и сколько девочек будут оглядывать твое розовое платье и любоваться им. Им и во сне не снилось такое платье, как твое.
– Ты хочешь сказать, – проговорила Агаша серьезно, – что надо себя сравнивать с теми, кто имеет меньше, чем мы, а не с теми, кто имеет больше?
– Именно, – сказала Маша, – но я заговорилась с вами, а нам уже пора. Пожалуйте в кухню, я вам раздам корзинки с припасами, – и в путь. Папочка готов и ждет нас.
– Куда же мы денем корзинки во время обедни? – спросила заботливая Агаша. – Нельзя же идти в церковь с кушаньями!
– Конечно, нельзя, я беру с собой маленького Степку, сына дворника, он останется с корзинами, пока мы будем в церкви.
Через час они все вместе шли степенно по улицам города и скоро вышли в чистое поле, за которым виден был лес, и посреди соснового бора перед ними заблистало золото монастырских куполов. До монастыря было недалеко, всего версты[3] полторы, но жара летнего утра и песчаная дорога утомили больше всех капризную Анюту, и она опять возроптала.
– Фу! Какая жара! Какой песок! И как я устала! – возмущалась она. – А разве не правда, что при богатстве не бывает ничего такого. Если б я была богата, мы бы поехали в коляске.
– А Маша говорила, что у богатых свои беды, что многие люди живут беднее нас и нехорошо завидовать одним и не помогать в лишениях другим, – заметила Агаша, любившая рассуждать и даже поучать других.
– А я все-таки скажу, – возразила Анюта с жаром, – что богатым хорошо жить на свете, а ты больно уж умна, и какая охотница давать непрошеные советы! Говорит, будто проповедь сказывает!
– Что ж в этом дурного, – вступился Ваня, – в проповеди всегда говорится хорошее и полезное, и наша Агаша разумница.
– Не по летам умница, – сострила Анюта и прибавила: – Зато слова ее ко сну клонят. Сонный порошок!
– Ты всегда обижаешь! – воскликнула Агаша. – С тобой говорить нельзя.
– Перестаньте спорить, – увещевала их Маша, – вот мы и при шли. В храм Божий идете и спорите.
– Это Анюта, – сказала Лида, вступаясь за сестру.
– И как мы рано пришли! – воскликнул Митя, желавший как можно скорее добраться до Золотого ключа и побродить вдоволь по лесу.
– Полноте разговаривать, – нахмурилась богомольная Маша, входя на паперть, – помолимся теперь, не отвлекаясь ничем.
После довольно долгой обедни все семейство Долинских вышло из церкви и по палящему жару не без устали дошло до густого леса, где разрослись и сосны, и ели, и березы, и ясени, и даже клены. На опушке рос орешник и всякого рода прочий кустарник. Лес подходил к крутым песчаным обрывам так близко, что многие деревья сползли вниз и, еще цепляясь корнями за рыхлую почву, росли, склонившись над рекой; другие упали, и их могучие корни, вывернутые насильственно ветром и непогодой из желтого, как золото, песка, торчали вверх.
В одном из таких обрывов и находился Золотой ключ. Дети бегом спустились вниз по извилистой, узкой и крутой тропинке. Она врезалась внизу в гущу кустарника и, наконец, выходила на маленькую полянку, вокруг которой росло несколько больших деревьев и низкие кусты. Из-под обрыва струилась вода, образовывая довольно широкую лужу между двумя громадными ярко-красными камнями с золотыми и серебряными крапинками. Вода эта, холодная, как лед, и прозрачная, как хрусталь, была известна во всей окрестности, и название Золотой ключ было дано этому месту, конечно, потому, что ярко-желтое песчаное дно ручья наводило на мысль о золоте.
Достигши этого прелестного уголка, все дети, несмотря на увещевания папочки и восклицания Маши, бросились к воде, умывая ею лицо и руки, и, подставляя под сочившиеся из обрыва струйки походные стаканчики, жадно пили вкусную влагу. Редко удавалось детям посещать это любимое ими место, а когда они раза два в год все же попадали сюда, то наслаждались вволю и водой, и отдыхом под развесистыми деревьями около прозрачной воды, разлившейся правильным кругом на уступе и вырывшей себе мягкое ложе в желтом песке.
– Вот так чудо! – восклицала Анюта, умывая розовое личико и смачивая непокорные волосы, которые от холодной воды вились еще больше и крутились легкой паутиной на лбу и висках. Она бросилась на мягкий, теплый песок под развесистой сосной, прислонила голову к ее стволу и воскликнула:
– Ах, как хорошо! Теперь тебе бы почитать нам, Митя.
– Как же, – сказал он, – видите ли, принцесса какая изволила пожаловать: легла и приказывает читать… натощак-то! Я тоже измучился и голоден, как волк.
– Действительно, пора поесть, – согласилась Маша, – после обеда мы почитаем, а потом уж марш в лес искать грибы и ягоды.
– Ягоды-то будут, а грибы вряд ли, – засомневалась Ага-ша. – Сухо, давно дождей не было.
Маша, хотя устала так же, как и другие, принялась накрывать на песке белую скатерть, нарвала широких листьев, положила их на скатерть вместо тарелок, открыла корзины и стала вынимать запасы.
Папочка поглядел на детей: Анюта полулежала под деревом, Митя растянулся на мху, подле него сидел Ваня; в ногах у Анюты поместились Агаша и Лида. Одна Маша, как всегда, заботилась обо всех и хлопотала около скатерти, представлявшей обеденный стол.
– Как я посмотрю, – заметил Долинский, – она вас избаловала! Полюбуйтесь друг на друга да постыдитесь, особенно мальчики: Маша хлопочет, нарвала листьев, накрывает на стол, а вы лежите.
Ваня и Агаша тотчас вскочили и принялись помогать Маше. Митя и Анюта остались как были, Лида медленно, лениво подымалась.
– Папочка, их много и без меня, – со смехом сказала Анюта, – уж я полежу, а то, что ж, еще им помешаешь.
– И я, папочка, полежу, ведь я готовлюсь к труду – я официально уже назначенный чтец «Полтавы».
– Оба вы лентяи балованные, – улыбнулся папочка, добродушно любуясь хорошенькой Анютой, которую очень нежно любил.
Когда все было готово, встали Анюта и Митя; он принялся есть за двоих и только все похваливал, забирая, к полному удовольствию Маши, двойные порции пирога и жаркого. Анюта же ела, как птичка, но зато и болтала, и щебетала, как птичка, и не раз вызывала улыбку на лицах Маши и папочки. После обеда началось чтение при благоговейном внимании всего семейства; Митя читал недурно, хотя с некоторой напыщенностью и декламацией, но именно эта напыщенность и нравилась не только детям, но и папочке с Машей. Все слушали его, не проронив ни единого слова, в особенности Анюта, глаза которой так и вспыхивали, так и горели.
Когда половина поэмы была прочитана, по общему желанию все отправились гулять, хотя Анюта горячо протестовала – ей хотелось дослушать до конца, и она с трудом принудила себя идти вместе со всеми бродить по лесу, все еще исполненная восторга и увлеченная чтением. Она запомнила некоторые стихи наизусть и повторяла их про себя.
Вечерело. Озаряя далекий горизонт, медленно заходило великое светило. Багровый свет заливал даль, отчего близстоящие сосны казались темными и мрачными. Снизу, из-под обрыва, поднимался беловатый туман. Папочка, боявшийся прохлады и вечерней мглы, заспешил домой, и все семейство весело отправилось в обратный путь, болтая и смеясь без умолку.
Анюта пребывала в самом приятном расположении духа: она ни с кем не спорила, неслась то впереди всех, то сворачивала в стороны, то забегала назад, распевала, как жаворонок по весне, и легкостью и быстротой своих движений напоминала птичку, порхающую в голубом небе в светлый солнечный день. Она чувствовала в этот вечер особенное влечение к Мите, который своим чтением заворожил ее. Взявши его за руку, она и ласковыми словами, и шутками заставляла его, почти против воли, бежать с ней взапуски по тому самому песчаному полю, по которому так лениво, ворча и сетуя, шла она утром. Теперь она была возбуждена и не чувствовала усталости.
Ей казалось, что она пробе́гала бы так всю ночь без устали. Не одно замечание сделала ей Маша, когда они вышли на улицы города, прося ее идти чинно и говорить потише. Когда Анюта воодушевлялась, ее трудно было унять и заставить вести себя разумно.
– Края не знает, – говорил о ней Митя, когда сердился на нее.
– Ах, как я счастлива! – воскликнула Анюта, всходя на крыльцо своего домика. – И скажу вам, мне было так весело, так весело, что я никогда не забуду нынешнего дня! Вот мы и дома! И как хорошо дома! Право, я так счастлива, что ничего на свете не желаю.
И Анюта бросилась в покойное кресло, стоявшее у окна.
– Даже и богатства не желаешь, – сказала Маша, посмеиваясь над ней.
– Даже и богатства, – отвечала Анюта, тоже смеясь, – но только нынче, а завтра, разумеется, пожелаю, непременно пожелаю.
– Да, тебе всегда надо поставить на своем, – сказала Маша, – это нам не новость, но вот что я скажу тебе…
Маша вдруг замолчала, увидев в дверях мужа. Его лицо испугало ее. Он вошел в дом веселый и спокойный, а теперь стоял в дверях гостиной бледный и смущенный.
– Что с тобой? – воскликнула испуганная Маша.
– Поди сюда, – сказал он взволнованным голосом и пошел в свой кабинет, куда за ним последовала Маша. Она вошла, и он запер дверь за собой.
– Что случилось? – спросила Анюта у сестер.
– Что-то случилось! – глубокомысленно произнесла Лида со своим простодушием, всегда возбуждавшим общий дружный смех.
– Умна! Нечего сказать! – воскликнула резко Анюта. – Угадала, очевидно, что случилось что-то, но что?
– Маша придет сейчас и нам все скажет, – заметила Агаша.
Но Маша все не приходила, и усталые девочки пошли к себе, сняли свои нарядные платья и стали умываться, готовясь лечь в постель, но не ложились, потому что тревога и любопытство гнали от них сон. Они сидели молча на своих кроватях, ожидая Машу, но Маша не шла. Лида и Лиза улеглись, наконец, и тотчас уснули.
– Пора, кажется, и нам спать, – сказала Агаша.
– Не лягу, ни за что не лягу, я хочу знать, что случилось, – упорствовала Анюта.
В эту минуту послышались шаги Маши, но она вошла не к детям, а в свою, смежную с ними комнату.
Анюта мигом прыгнула туда и, растворив дверь, вошла. Маша стояла у своего столика, лицо ее было смущенно и печально, глаза заплаканы.
– Маша, что с тобой? Маша, что ты, милая! – воскликнула Анюта, забыв мучившее ее любопытство и только горюя о Машиной печали.
Маша, увидав Анюту, порывисто обняла ее, стала целовать и опять заплакала.
– Не могу, папочка не позволил. Оставь меня, Анюта, не приставай, не скажу ни слова. Ты знаешь, я папочкины приказания всегда исполняю. Поди спать.
Анюта медлила.
– Поди спать, – повторила Маша решительно, – и поцелуй меня, милая, дорогая моя Анюта.
Она нежно расцеловала ее и выпроводила из своей комнаты.
– Ну, что, Анюта? Что? – спросила ее Агаша.
– Маша плакала, – сказала Анюта серьезно.
– Плакала! – воскликнула Агаша с изумлением и тревогой. – Плакала! Маша плакала! О чем?
– Не сказала. Говорит, папочка не позволил ей.
Долго не спали девочки, дивясь и недоумевая, но, наконец, усталость взяла свое. Они заснули.
На другой день Анюта проснулась и встала поздно. За чайным столом в столовой она нашла Машу, с серьезным и озабоченным лицом сидящую за самоваром, а папочку – подле нее. Он, Анюта знала это, должен был быть уже в присутствии и не пошел – остался дома. Лицо его было столь серьезно, что она не посмела ничего спросить у него. Когда Анюта подошла к нему, он поцеловал ее несколько раз с нежностью.
Анюта напилась чаю, и, когда встала из-за стола, папочка позвал ее к себе в кабинет.
– Сядь, – сказал он ей, – я должен объявить тебе важную новость. Когда я возвратился вчера с прогулки, мне подали письмо. Твой прадед был не в силах пережить своего ужасного несчастья. Любимый внук, надежда его старости, был убит лошадью на прогулке. Князь пережил его только на одну неделю, но составил завещание и подал просьбу на Высочайшее имя. Ты не догадываешься о чем?
– Папочка, мне жаль, что прадедушка скончался и что с ним случилось такое ужасное несчастье, но ведь я его не знала совсем и не могла любить.
– А он в последние часы своей жизни только о тебе и думал. Ты его единственная наследница. Он просил позволения и получил его – передать тебе свое имя. Ты теперь княжна Дубровина и богата, очень богата, слишком богата! Поцелуй меня, да благословит тебя Бог и направит на все хорошее, на всякое доброе дело!
И папочка, заливаясь слезами, целовал оглушенную и ничего не понимавшую Анюту.
1
Шептала́ – сушеные абрикосы или персики с косточками.
2
Поддёвка – мужская верхняя одежда.
3
Верста́ – стариная русская мера длины, равная 1,06 км.