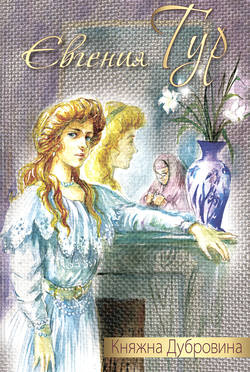Читать книгу Княжна Дубровина - Евгения Тур - Страница 6
Часть первая
Глава IV
ОглавлениеВесь этот день остался в памяти Анюты смутно, будто в тумане. Она помнила, что Маша целый день не присаживалась за дело, а бродила по дому, рассеянная и задумчивая: то входила в кабинет папочки без всякой нужды и, постояв там, выходила, то приходила к ней и целовала ее, то садилась в диванной, и у нее вырывались отрывистые, несвязные слова; папочка был тоже сам не свой: то говорил важно, что «пути Господни неисповедимы», что Он возвеличил малого и наказал гордого, то восклицал, складывая руки: «Тысяча и одна ночь! Тысяча и одна ночь!» Анюта хорошо слышала и запомнила слова эти, но не понимала их и дивилась им. Помнила она тоже, что дети, сестры и братья, смеялись над ней, а Митя обратился к ней даже презрительно.
– Анюта – да княжна! Тьфу! – воскликнул он и даже плюнул, за что Маша тотчас сделала ему выговор.
– Княжна! Княжна! – пищала Лида, звонко смеясь на всю комнату.
– Ваше сиятельство! – кричал Ваня, смеясь добродушно. – Хороша княжна! Пришла третьего дня из сада замарашкой, – сказал насмешливо Митя. – По пословице: «Из грязи да в князи».
Папочка вдруг ужасно рассердился.
– Что вы, с ума сошли? – воскликнул он громовым голосом, что всегда случалось, когда он, бывало, вспылит. – Оставьте ее в покое. Бедная девочка перепугана, в себя прийти не может, а вы к ней пристаете с глупыми шутками. Ну да, она теперь княжна, и всегда была старинной фамилии, девица Богуславова, а не из грязи!
– И какое это глупое выражение, – негодовала Маша. – Из грязи! Из грязи тот, кто низок душой. А вы, дети, вместо глупых шуток должны были бы помолиться за нее Богу, чтоб Он благословил ее и послал ей разум на добро. Она так богата, что может осчастливить сотни бедняков. Господи! При таких-то деньгах столько добра сделать можно, – воскликнула Маша с блеском в глазах, заканчивая свою длинную речь, обращенную к детям.
– А денег ей не занимать стать, – сказал папочка, – она не сумеет и счесть их. Огромное состояние.
Анюта слушала и насмешки детей, и слова Маши и папочки как-то равнодушно. Она притихла, затихли и все дети, в диванной наступило молчание. Скоро все разошлись, а Анюта осталась одна с Машей. Она сама не знала почему, но ей в первый раз в жизни хотелось остаться совсем одной. Уйти из гостиной ей почему-то было неловко, она не посмела и села к окну; тихо, безмолвно сидела она, и разные мысли бродили в ее голове, быстро сменяя одна другую. Наконец она привела их в некоторый порядок.
«Огромное состояние! Она и денег своих не сумеет пере-счесть, – повторила она мысленно слова папочки. – Стало быть, я смогу теперь купить себе такую же крохотную колясочку, как у дочери предводителя, и шляпку с цветами… Сяду я в колясочку с Агашей и Лидой. Ах, да! Агаше и Лиде надо купить такие же шляпки, только Лида белокурая, ей надо шляпку с голубыми лентами, а Агаше – с розовыми. Да что шляпки! Мало ли что надо купить кроме шляпок. А Маше? Маше я куплю… куплю… все то, чего она сама пожелает! Ах, вот что! Маша говорила перед праздниками, что надо подкопить деньжонок и купить чайный сервиз. Я куплю ей и чайный, и столовый. А папочка? Но папочка никогда ничего не желает и ничего особенного не любит, кроме нас. Надо через Машу выведать, что папочке нужно. А что подарить Мите? Это нетрудно. Конечно, всего Лермонтова, и Пушкина, и Жуковского, и всяких других, я их всех куплю и принесу ему. Страсть сколько книг, мне их все не притащить! Нет, вот как! Я понесу лучшие книжки сама впереди, а за мной – приказчик из магазина или Марфа понесут остальные книги… Я войду и скажу: “Митя, это тебе. Зимой ты будешь их нам читать”. А Митя обрадуется и скажет: “Милая Анюта!” И мы расцелуемся. Ах, как я счастлива! А маменьке – маменьку я позабыла. Маменька жаловалась, что дом надо поправить; поправлю, прикажу поправить, кажется, она говорила, что крышу надо поправить, именно крышу, она у ней где-то течет. А Дарье-няне? Платье синее и платок ковровый. Она все собиралась купить, а Маша намедни сказала ей: “Дарья-няня, ты не думай о синем платье, я тебе его подарю к празднику”. Так нет же! Не Маша, а я подарю, и с платком, а Дарья-няня пойдет к обедне и скажет: “Мне Анюта подарила!” Совсем не так, она скажет: “Мне княжна подарила!” Княжна! Я княжна! Это весело! А папочка говорил вчера, что он просит Бога, чтоб Он направил меня на всякое доброе дело, и Маша сказала, чтоб Он дал мне разум на добро. И я буду стараться делать все доброе. Всякому нищему, который подойдет под окно, грош дам, как всегда дает Маша, – нет, мне надо больше дать, чем дает Маша. Если Маша, у которой так мало денег, дает грош, то я дам гривенник[4]… а мало, так и двугривенный! Что мне деньги, когда их так много! Я не стану жалеть их. А уж какое платье я себе куплю! Розовое, да не ситцевое, а шелковое. И какое счастье! Нечего думать о том, чтобы не разорвать, не сделать пятна. Все равно, если пятно, – куплю другое, а где дыра, чинить не позволю – бросить прикажу, и кончено!..»
– О чем ты думаешь, Анюта? – спросила Маша. – Я тебя такой еще не видала! Сидишь одна, глядишь в окно и молчишь!
Но Анюте не хотелось рассказывать, о чем она думала. – Рассуждаю сама с собой, – отвечала она уклончиво.
– Вот как! Ты и рассуждать стала! Я этому очень рада, потому что всегда тебе выговаривала, что ты все делаешь с маху, не думая.
– Ну, теперь я буду думать, когда сделалась такой особой, что все могу, – заявила Анюта важно и серьезно.
– Но что же ты можешь, – возразила удивленная ее словами Маша, – ты еще дитя!
– Это не мешает. Я, например, могу тебе подарить сервиз – и чайный, и столовый.
Маша засмеялась.
– Во-первых, – сказала она, – не можешь, во-вторых, если б и могла, надо знать, возьму ли я его.
– Как не возьмешь? Почему?
– А потому что мне своего довольно и чужого не надо. Я на чужие деньги не льщусь.
– Чужие! Мои-то деньги тебе чужие! Ну, Маша! – Анюта удивленно и печально взглянула на Машу.
– Ты еще мала и многого не понимаешь. Предлагать-то легко, да взять трудно. Надо сперва заслужить уважение, чтобы люди близкие согласились взять у тебя.
– Разве ты меня не любишь? – удивилась Анюта.
– Люблю, но уважать тебя мне пока не за что. Вот когда ты станешь большой, и притом хорошим человеком, то и заслужишь мое уважение. От избытка и отдавать нетрудно – надо отдавать, лишая себя. А кто не умеет лишать себя, у того не останется денег, чтоб их отдавать другим. Тот рад бы и беде помочь, да нечем, все уж потратил на свои прихоти! Ты должна быть строга к себе и внимательна к другим.
Анюта опять задумалась.
Строга к себе! Что-то такое непонятное говорит Маша. Она никогда ко мне строга не была, а теперь хочет, чтоб я сама!..
Рано легла спать в тот день Анюта, утомленная и смущенная. Вчера устала она от прогулки и беготни, а нынче – от размышлений. Голова ее шла кругом, и, когда она засыпала, перед ее взором мелькали и колясочка с крошечной лошадкой, и сервиз, и нищий, и Маша, и крыша маменьки, с которой капает, капает!.. И книги, и она тащит их, тащит… И вдруг все спуталось, и она проснулась от ярких лучей солнца, которые через белые занавески дотянулись до ее постели, отыскали ее там и блеснули ей прямо в глаза. Она приподнялась. Комната была пуста. Ни Агаши, ни Лиды – они уж встали, она одна проспала. Анюта вскочила, умылась, оделась и побежала в столовую. Там уже все пили чай, и Маша, как всегда, его разливала.
– А вот и княжна, – засмеялся Митя. – Как изволили почивать, ваше сиятельство?
Анюта, не вчерашняя, а прежняя, сказалась тотчас. Она обидчиво проговорила:
– Я вам не позволю насмехаться надо мной. Какие вы все неблагодарные! Как вы несправедливы ко мне!
– Это что за новость! – воскликнул Митя.
– Я вчера весь день думала, как бы мне сделать вам приятное, а вы надо мной только и знаете, что насмехаться.
– А ты за свои раздумья уже требуешь от нас благодарности, – съязвил Митя, – молодец, Анюта!
Анюта поняла чутьем, что сказала что-то не то, и потянулась поцеловать Митю, но он отстранил ее рукой:
– Скоро заважничала!
Анюта изменилась в лице. Ваня заметил это, звонко, на всю столовую, поцеловал ее и сказал:
– Ну, не обижайся. Ты Митю не со вчерашнего дня знаешь, он сам ведь ох как любит важничать. А пусть твое сиятельство расскажет нам, как оно намерено действовать, чтобы дальше жить…
– И чудить, – прибавил Митя.
– Отчего чудить! Как чудить! – воскликнула обиженная Анюта.
– Да вот говорят, что когда дурню, а ведь твое сиятельство большой дурень и колоброд, достанутся большие деньги, то ему удержу нет. Он начнет так дурить и колобродить, что все диву даются. А ты пословицу попомни: «Глупому сыну не в помощь богатство».
– Да в чем же я дурень и колоброд? – спросила Анюта, вовсе разобиженная и сердитая.
– Да тем, что у тебя разуму мало, а задору много. И разве это неправда, что ты необузданная и взбалмошная? Разве в первый раз ты слышишь это от всех нас?
– И в последний, – сказала Анюта. – Я не хочу, чтобы вы так со мной обращались.
– Не хочешь! Мало ли чего ты не хочешь! – крикнул Митя запальчиво.
– Полно, – укорил Ваня брата, – что ты к ней придираешься.
– Правда, – вступила в их спор Маша, – что Анюта вспыльчива, задорна, добра не жалеет: что издерет, что разобьет, что выпачкает – ей и горюшка мало, но она дорожит многим. Например, я скажу, что дорожит она нашей к ней любовью.
– Маша! Маша! – воскликнула Анюта с порывом. – Ты моя любимая Маша! Тобой дорожу я больше всего на свете и люблю тебя, как люблю!
В словах Анюты, в голосе ее было столько горячего, внезапно прорвавшегося чувства, что все дети были тронуты, и Митя смутился. Он даже покраснел.
– Да, – сказал Ваня ласково, – твое сиятельство – добрая душа.
– Ну, помиримся, – предложил Митя, улыбаясь, – я тебя люблю, и ты меня любишь, и они нас любят – это дело известное, а теперь расскажи, как твое сиятельство станет устраивать свою новую жизнь.
– Я уж об этом думала целый день вчера, – сказала Анюта серьезно, – конечно, мы все по-прежнему будем жить здесь, вместе, но возьмем себе много учителей, так как Маша говорила вчера, что мне теперь надо многому научиться, и я буду учиться с Агашей и Лидой, а к Лизе пригласим гувернантку. А после уроков мы тотчас поедем кататься. У нас будет маленькая колясочка, как у дочери предводителя, и крошечная лошадка…
– Такая же, как у дочери предводителя, – проговорил Ваня. – Ее зовут Крошка, и кучер говорит, что когда он ее чистит, то не обходит вокруг нее, а возьмет ее за хвост, приподнимет и поставит как надо. Право!
– А ты откуда знаешь? – спросил Митя не без насмешливости.
– Я с этим самым кучером, его зовут Потап, ходил намедни рыбу удить, – объяснил Ваня добродушно, – и он сам мне все это рассказывал.
– Удивительное дело, – сказал Митя, – что нет кучера, которого бы Ваня не знал.
– Вот и неправда, – вступилась Лида, – вчера шел по улице кучер, а Ваня его не знал, потому он ему не поклонился.
– Ну, – прервала их Анюта, горя желанием сообщить все свои планы и затеи, – скоро Потап будет рассказывать не о своей, а о нашей лошадке; она будет меньше предводительской, а мы придумаем ей другое имя, получше. Ну, как назовем ее?
– Мальчик, – предложил Ваня.
– Лихач, – отозвался Митя.
– Малютка, – проговорила Агаша.
– Незабудка, – выпалила Лида.
Раздался общий взрыв хохота, а Лида глядела на всех с удивлением.
– Опять Лида отличилась, выдумала, изобрела, – говорил Митя, помирая со смеху. – Не выдумаешь ты пороха, как вчера сказал папочка.
– Что ж, что не выдумает, если он уж выдуман, – заметила Агаша.
– Не обижайте ее, – заметила Маша, – она добрее всех вас, а ты, Лида, не обращай на них внимания, они сами еще очень глупые.
– Нашла! Нашла! – захлопала в ладоши Анюта. – Мы назовем лошадку Мышонок и каждый день, каждый Божий день будем кататься, да не один раз, а два раза – утром и вечером.
– Браво, умная Анюта, – закричали все дети вместе.
– Умное твое сиятельство, – сказал и Митя, все еще смеясь. – Итак, решено! Мышонок! Ну, а как же мы все – ведь нас, не считая Маши, которая одних нас не отпустит, – шесть душ, влезем в эту крохотную колясочку?
– Придется кататься по очереди, – усмехнулась Агаша.
– Нет! Нет! – возразила Анюта. – Купим еще одну, другую такую же колясочку.
– И другого Мышонка, – подхватил Ваня.
– Нет, – сказал Митя. – Вам, девчонкам, с руки на Мышонках кататься, а мне, Ване и Маше совсем нехорошо. Только людей насмешим. Пусть уж твое сиятельство раскошелится и купит мне и Ване верховых лошадей!
– Ах! Какой ты, Митя, умный, – воскликнула Анюта, – именно верховых лошадей! И вы оба поедете за нами! А Маша? – вдруг вспомнила Анюта. – В чем же Маша? Маше надо купить пролетку[5], и она в ней вместе с папочкой будет ездить к обедне. Вот так славно! И мы все будем кататься, гулять, а после гулянья пить шоколад, не в именины, как у маменьки, а каждый день.
– Каждый день шоколад прискучит, приторно, – заметил Митя.
– Ну, не всякий день, а когда вздумается! – ответила Анюта.
– Э, да ты стала сговорчива и ни разу не сказала: «Я хочу», – весело заметил Ваня.
– Я буду строга к себе, – сообщила Анюта важно, – и не буду сердиться.
– Вот так новость! – воскликнул Митя и скорчил такую смешную рожицу, что все дети расхохотались.
Анюта вспыхнула.
– Разве с вами можно, – спросила она запальчиво, – говорить серьезно? Вы или не понимаете, или насмехаетесь, а мне ваши насмешки надоели. Маша! Вступись за меня, я твои слова им сказала, а они хохочут. Да ты не слышишь, Маша! О чем ты так задумалась, и отчего такое печальное у тебя лицо?
– И не радуешься, – прибавил Ваня, – что у Анюты будет Мышонок, а у меня – Мальчик, у Мити – Лихач. Мне бы надо караковой[6] масти…
В эту минуту вошел папочка, и все встали, чтобы поздороваться с ним. Он обратился к Маше и подал ей пачку ассигнаций:
– Маша, закупи, что надо. Время не терпит.
– Хорошо, – ответила Маша, – я скоро со всем этим справлюсь, и все будет готово; но ты скажи ей – ведь она еще ничего не знает.
– Анюта, – сказал папочка, подходя к ней и целуя ее, – твой прадед назначил твоим опекуном генерала Богуславова, а опекуншей – твою тетку Варвару Петровну Богуславову.
– Зачем? И что это такое – опекуны? – удивилась Анюта. – Опекуны управляют имением и воспитывают малолетних; они должны заменять отца и мать сиротам, отданным на их попечение.
– Папочка, вы мой отец. Зачем мне другого. Я не хочу.
– На это не твоя воля, тебя не спрашивают – такова воля твоего прадеда. Он меня не видал и не знал.
– Он знал, что вы меня к себе взяли, – сказала Анюта, – взяли как родную дочь.
– Конечно, это он знал, но ты должна быть воспитана иначе, в столице.
– Что? Что такое? – испуганно воскликнула Анюта.
– В столице, в Москве, у теток.
– Папочка! Папочка! Что вы? Этого не может быть! Я не хочу! Неужели… Не…
Анюта не договорила, рыдания подступили ей к горлу и душили ее.
Папочка обнял ее с чувством:
– Да, дитя мое милое, нам надо расстаться, через неделю я отвезу тебя в Москву.
– Но я не хочу, не хочу, – сказала вдруг Анюта решительно, и слезы мгновенно высохли, а глаза ее загорелись. – Никто не может отнять меня у вас, не отдавайте меня. Я не хочу уезжать отсюда. Никто прежде не хотел взять меня, а теперь вступились! Теперь я не хочу! Не хочу!
Маша подошла к ней и нежно обняла ее.
– Анюта, милая, приди в себя. Не прибавляй лишнего горя к нашему общему горю. Сердце мое и без того изболелось. Пожалей папочку, он вчера был сам не свой, да и нынче не легче, этого переменить нельзя, покорись. В завещании сказано, чтобы ты была воспитана в доме теток, в Москве, ты малолетняя и не можешь ничего решать сама!
Анюта бросилась Маше на шею и, рыдая, спрятала на ее груди свою голову. Девочки плакали. Ваня побледнел и сидел неподвижно, Митя был серьезен. Папочка стоял, печально понурив голову над рыдавшей Анютой. Когда она наплакалась и смогла говорить, то подняла голову и взглянула на папочку и Машу:
– Но вы меня не оставите, вы переедете в Москву и будете видеть меня каждый день.
– Анюта, будь благоразумна, покажи свою волю, у тебя ее много, – сказала Маша, – покорись. Мы не можем все ехать с тобой, ты поедешь в Москву с папочкой.
Анюта выпрямилась, всплеснула руками и раздирающим душу голосом воскликнула:
– Да как же я оставлю вас!
В порыве отчаяния она бросилась на диван и горько зарыдала, теперь уже без слез. Маша встала подле нее на колени, Ваня побежал за стаканом воды. И долго ее уговаривала Маша, и долго отпаивала водой. Папочка был не в силах вынести столь сильного детского горя и, махнув рукой, вышел из комнаты.
Последняя неделя жизни Анюты у папочки пролетела как стрела, хотя каждый день тянулся, как след улитки. Дни ползли, а неделя пролетела. Анюта и не заметила, как прошло четыре дня. То, что в недавнем прошлом приводило ее в восторг, вызывало теперь потоки слез. Однажды пришла портниха примеривать новые платья: одно – черное шерстяное, другое – из какой-то толстой материи, тоже черное (папочка полагал, что она должна носить траур по прадеду), но такое нарядное, с замечательной отделкой; и еще – серое, с отливом.
– Это полутраур, для праздника, – сказала Маша, – не правда ли, Анюта, прекрасное платье?
Но Анюта даже не взглянула на платья. Она вся в слезах вышла из комнаты. Маша с трудом уговорила ее вернуться и примерить их. Удивленная портниха спросила, о чем княжна так неутешно плачет.
– Ей грустно расставаться с нами, – сказала Маша, – она уезжает к родным, в Москву!
– В Москву! – воскликнула портниха. – Так о чем же вы это, ваше сиятельство, убиваетесь! Какой здесь город! Это деревня! Когда вы увидите Москву, вы и не вспомните о К**. Я в Москве жила много лет в ученье, у мадамы, у французенки, на Кузнецком Мосту. Извольте, княжна, повернуться, вот так, тут ушить надо, Марья Петровна! Какие магазины, какие площади, вечерами Кузнецкий-то Мост так и горит огнями! А что за Кремль! У соборов главы золотые, на солнце горят, а на царском дворце вся крыша золотая; и он один, дворец-то, будет, почитай, больше всего нашего К**. А театры! Я видела «Деву Дуная», я вам скажу, я чуть было с ума не спятила от восхищения.
Анюта слушала внимательно, хотя и не все понимала. Быть может, и в самом деле в Москве хорошо, и много есть в ней дивного и чу́дного, но… но… одна… одна она все это увидит!.. Они с ней не едут!..
И она опять ударилась в слезы.
Мальчики, видя ее неутешную печаль, задумали ее рассеять и предложили прогулку. Стоял теплый день, и они все поехали на лодке, причалили к другому берегу и пошли в бор, где показались рыжики, которые Анюта любила собирать и потом относить к маменьке и Дарье-няне, чтобы вместе с ними солить их. Но теперь Анюта не нашла ни одного рыжика и, не обнаружив сестер, ушедших в глубь бора, попросила Ваню проводить ее домой. Места были все те же, ее любимые, но расположение духа ее было иное, и все эти любимые места будто померкли, а привычные забавы утратили всю свою прелесть.
Широкая река бежала так же быстро, сверкая на солнце своими алмазными струями, и величественно стоял над ней голубовато-темный бор, и торжественно в пышной красоте заходило солнце, золотило облака и окрашивало край неба в пылающий пурпур. Прозрачный туман, белый, как серебро, подымался с зеленых заливных лугов, и сквозь него едва виднелись очертания прибрежных кустарников; и, как великаны, стояли сосны, особняком выделявшиеся из темного бора, но ни Анюта, ни Ваня, провожавший ее к лодке, не обратили внимания на эту знакомую, прекрасную, любимую ими картину, еще недавно вызывавшую такие восторги и восклицания. Они брели молча домой, не разговаривая между собой. Когда сели в лодку – услышали за собой крики детей:
– Подождите!.. Куда вы? И мы с вами…
И все дети прибежали к берегу, и все сели в лодку.
– Мы тебя хватились, – сказала Агаша, – и без тебя не хотим гулять.
– Да и какое это гулянье, – фыркнул Митя с негодованием, – это какое-то тоскливое скитание.
– Точно мы кого похоронили, – жалобно сказала Лида.
– Типун тебе на язык, – закричал на нее Ваня.
По вечерам все по обыкновению уходили в сад, но Анюта не хотела бегать по аллеям, играть ни в прятки, ни в «разбойники», забиваясь в гущу куртин от ловивших ее братьев. А недавно еще так шумно и так резво бегала она, оглашая воздух криками радости. Теперь она старалась поскорееуйти и всё стремилась к маменьке, потому что маменька, потчуя ее чаем и угощая вареньем и смоквами, очень сочувствовала ей и все твердила и повторяла:
– Что за напасть такая! И зачем это всегда мудрят. Ну, княжной стала, богатой, и слава Богу, да зачем же это ее поневоле в Москву везти. Разве ее не воспитать здесь? Выписать разных гувернанток, она бы всему и здесь обучилась, всему, что следует знать княжне. А то, вишь, в Москву! К теткам! Зачем? Слыханное ли дело – дитя отымать у семьи родной! Она, княжна-то наша, их и не знавала никогда, да и они о ней не ведали и, по правде сказать, никогда и знать о ней ничего не хотели. Пока была бедна, о ней не заботились, а мы-то все, и Маша моя, души в ней не чаем! Что ж, что княжна, – она наша Анюта любимая! Почему же ей с нами не жить, как жила прежде?..
И Анюта слушала слова эти, и они согревали ее сердце.
Прошла неделя. Настал день отъезда. Анюта перестала плакать, но и не взлянула даже, как Маша укладывала ее чемодан, и не обращала внимания на просьбы рассмотреть новое тонкое белье, хорошенькие воротнички и нарукавнички.
– Тебе не стыдно будет войти в чужой дом, – говорила Маша, – у тебя все есть, и все хорошее, как следует.
– Мне все равно, – отрезала Анюта, – мне все, все равно. Такая моя судьба. Меня, как щепку, швыряют от одних к другим.
– Не греши, Анюта, – сказала Маша, – Господь осыпал тебя своими благами. Будь умна, учись прилежно, а главное – укроти свой нрав; ты страшно вспыльчива и властна. Здесь тебе все уступали, а они хотя и тетки, но тебе люди чужие: по тебе нас судить будут и осудят.
– Как? – спросила удивленная Анюта.
– Если ты будешь возражать, бунтовать, – тут по серьезному лицу Маши пробежала улыбка, – словом, дашь волю своему нраву, они скажут, что мы не сумели тебя воспитать, что ты избалованная девочка. А ты знаешь, как мы с папочкой тебя всегда останавливали. Да не плачь и помни, что через несколько лет ты будешь вправе просить, чтобы тебя отпустили повидаться с нами. Они не смогут отказать тебе.
– В самом деле? А когда? – спросила Анюта.
– Папочка говорил мне, что в семнадцать или восемнадцать лет ты даже имеешь право по закону жить с теми родными, с которыми хочешь, но об этом думать нечего: тебе здесь жить негоже, а приехать погостить – приезжай, было бы даже нехорошо с твоей стороны, если бы ты не навестила нас, особенно папочку, и забыла бы, как он любит тебя!
– Я не могу забыть вас! – воскликнула Анюта и, внезапно переходя от горя к радости, прибавила с увлечением: – Я ворочусь сюда к вам, и не гостить, а жить! Что бы ты, Маша, ни говорила, я хочу жить с вами, не гостить, а жить хочу, непременно. Семнадцати лет – ну, что ж! Мне до семнадцати пять лет осталось! Пять лет – нет, это ужасно! – повторила она вдруг, и глаза ее опять затуманились слезами.
– Ну, полно, Анюта, – сказала Маша, – пять лет пройдут скорехонько. Через четыре года Митя приедет в Москву, поступит в университет и часто, слышишь ли, очень часто будет навещать тебя.
В день отъезда Долинские пригласили священника и просили его отслужить напутственный молебен. Папочка взял Анюту за руку и сказал:
– Мы будем молиться о тебе, молись и ты, чтобы Господь направил тебя на путь истинный и помог тебе, когда ты достигнешь совершенных лет, распорядиться своим богатством на добро, на пользу, на всякое благое дело, а не на свои прихоти, не на одну себя. Помни: не на одну себя. Большие деньги – большое искушение и испытание, которое Господь посылает человеку. Сердце у тебя доброе, но этого мало. С честью вынести испытание – это подвиг. Чтобы совершить его и выйти из него победительницей, надо быть вполне христианкой и думать о душе своей и о других людях, а не о прихотях, затеях своих и всякой роскоши. Великий грех – тратить свои деньги суетно. Не будь горда; ты жила в скромной доле – сумей жить и в знатности, будь смиренна сердцем и благодари Бога всегда и за все. Нас не забывай, помни любовь нашу и наши наставления.
– О, папочка! Папочка! Я возвращусь к вам, когда буду большая. Непременно возвращусь.
– Ну, это как Бог велит! Твоя судьба иная, твоя дорога – не наша. Большому кораблю – большое и плавание. Господь да благословит тебя на все хорошее.
Он взял ее за руку и вывел в столовую.
– Благословите ее, – сказал он старому священнику, – на новую жизнь, на добрую жизнь.
Священник благословил Анюту и стал служить молебен. Все дети, папочка и Маша стали на колени, и все молились за Анюту, и не одна слеза скатилась по их щекам во время этой молитвы.
Священник ушел, сказав несколько напутственных слов Анюте. Все сели в гостиной, даже Дарья-няня присела у двери, а маменька, пришедшая к началу молебна, приодетая в лучшее платье и в праздничный чепец, поместилась на диване; по ее морщинистым щекам текли слезы. Все молчали. Папочка, перекрестясь, встал. Началось прощание, жестоко терзавшее душу. Папочка не мог его вынести. Он обнял Анюту за плечи и почти силой вывел ее из дома, посадил в бричку и сам сел с ней рядом.
– С Богом, – сказал он кучеру отрывисто и громко.
Почтовые лошади, вздымая на улице пыль, покатили по дороге. Анюта высунулась из-за поднятого верха брички и еще раз увидела сквозь пыль и слезы Машу с платочком в руках и сестер и братьев, горько плакавших и махавших ей вслед, и всех домашних, и Дарью-няню, и Марфу, и маменьку. Маменька крестила ее издали, и вдруг все они при повороте улицы исчезли из ее глаз. Анюта воскликнула в отчаянии:
– Папочка! Папочка!
Он обнял ее и нежно прижал к своей груди.
4
Гри́венник – десятикопеечная монета.
5
Пролётка – легкий открытый двухместный экипаж.
6
Кара́ковый – темной масти с желтыми подпалинами.