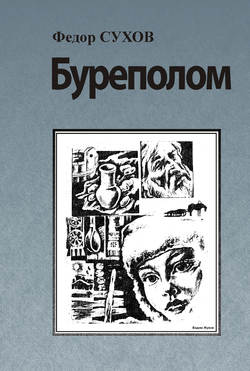Читать книгу Буреполом - Федор Сухов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Буреполом
Буреполом
Роман
Часть первая
VIII
ОглавлениеЯ сижу в головках саней на охапке присыпанного лениво падающим снежком духмяного сена. Я вижу мать, отца, не вижу только Арсения: он стоит за моей спиной, держит в руках пеньковые, свитые отцовскими руками, туго натянутые вожжи. Гнедок ускоряет шаг, он заметно прибодрился, рад, что трусит по хорошо знакомой, укатанной дороге. Дорога не переметена, не перехвачена снежными застругами, она ровно скользит по замятюженному полю, утыканному приметными вёшками. На одной из вёшек я увидел сороку. Сорока не удивила меня, вот волка бы увидеть…
– Не озяб? – я вздрогнул, я не думал, что мать о чём-то может спросить меня, обернётся и обласкает налипшими на глаза снежинками.
Довольно рано, годам, пожалуй, к четырём, я стал замечать красоту человеческого лица, но – почему? Не знаю почему – не мог заметить той красоты, которую являло, да так зримо, лицо моей родительницы. И вот оно обернулось ко мне, это лицо, разогретое лёгким морозцем. Обрамлённое серым шерстяным платком, долго-долго ласкало меня влажными от тающих снежинок глазами.
Я часто видел на материнских глазах слёзы, чаще всего слёзы горчайшей обиды. Но вот совсем неожиданно вижу слёзы умиления. Мать смотрит не только на меня, умильно смотрит она и на сороку, что сидит на косо воткнутой вёшке, глядит и на волнисто замятюженное поле.
– Не озяб?
Ещё раз попытала мою душу умилённо смотрящая душа…
Нет, не озяб. Может, потому и не посчитал нужным что-то ответить, как-то отозваться на озабоченно пропетые слова.
Проехали мимо старого-старого вяза. Он раскинулся неподалёку от нашего загона. Я хорошо запомнил этот загон, на его борозде, на его тёплой ладони в дни изнурительной страды, которая именовалась жнитвом, спознался я с солью обильно пролитого пота. Соль эта бело индевела на отцовской рубахе, индевела она и на материнской, в белый горошек, кофточке.
– Не знаешь ты, какие я муки приняла с тобой, – назидательно говорила мать, когда, взрослея, я проявлял какое-то своеволие. – Бывало, заверну тебя в холстину и – в поле. В одной руке серп держу, другой тебя несу. Ладно, ежели загон близко, а ежели далеко, где-нибудь за берёзовым врагом[6], тогда не больно сладко. Одна дорога все силушки вымотает. А отец-то, ты знаешь, как он ходит. Бегом беги и не догонишь. А отстать-то стыдоба заест, я ведь молодая была. «Гриша, сбавь шагот!» – кричу. Не сбавляет. Как на пожар несётся. Уж больно жадный он, отец-та твой, до работы. Я ни разу не слыхала от него, что работа, дескать, не волк, в лес не убежит, как многие говорят…
Мать прервалась, я понимал, как ей тяжело вспоминать те дни, которые выматывали последние силы. На жнитве, на молотьбе и на иной тяжелой работе.
– Дотащусь до загона, сброшу тебя с руки-то и – к постати[7]. Постать-то шагов пять шириной-то. Примерно третья часть загона. Пробую свой серп – слава богу, гоже берёт. Берёт-то гоже, да сердце-то не на месте. К твоей холстине всё оборачивается, разрывается на части, за тебя боязно: и серп-ат не бросишь, с постати-то не уйдёшь, тянуться нады. Отец-ат твой, он как зверь, всё поле мог сграбастать в свою пятерню. «Гриша, передохни!» Куды там, до передыха ли. Горсть за горстью кладёт. Далеко ушёл от меня. А ведь постать-то в два раза шире моей. Зверь, чистый зверь!.. Оступаюсь, на ногах не могу устоять, в поту вся. Глаза потом залило. Гляжу и – ничего не вижу. О тебе забеспокоилась, к холстине твоей бегу. А ты уткнулся в землю и – ни гу-гу. Думаю: задохнулся. «Господи, прости мою душеньку, виновата, не углядела», – взмолилась, подняла залитые потом глаза к небу. Неба не увидела, увидела солнышко. Оно во всё небо расплылось. Беру тебя на руки, беру ровно рисяное зернышко. Слышу: сердце в тебе колотится. Значит, смилостивился Господь, отвёл беду от моей душеньки. Вынимаю грудь, даю тебе, а ты отворачиваешься. Молоко-то с потом перемешалось…
Я долго держу в своих глазах красиво развесившийся, опушённый снежинками вяз. Под его сенью – когда, я не помню, – моя родительница поднимала меня на ноги своим молоком. А может, своим потом? Может быть. На какое-то время я смежаю глаза, и мне кажется, выскальзывающее из-под полозьев саней поле убелено не снегом – оно убелено солью отцовского и материнского пота…
Зимой не так уж часто можно ощутить солнце. Восходя, оно не поднимается выше дерева, выше того же вяза, прячет себя за дворами, за сугробами, не желает, не хочет «мозолить» чьи-то досужие глаза. Пожалуй, только с середины зимы начинает казать свой лик. Солнце – на лето, зима – на мороз. Так говорят об этой поре. Но бывает так, когда мороз утихает, а солнце, возвышаясь, ещё не может отдышать заледенелой полыни. Сквозь лениво падающий снежок оно печально взирает на замятюженную землю. Не знаю, то ли печаль повернувшего на лето солнца, то ли близость околдованного зимней спячкой сказочного леса оживила меня. Мне хотелось спрыгнуть с саней и без дороги, по глубокому мятюгу приблизиться к вышедшим из глубокого оврага по-девичьи стройным берёзам, уж больно любопытным ко всему, что происходит на белом свете.
А дорога пошла под уклон, вот-вот она развалит на две половины берёзовую чащу, скатится в глубь оврага, туда, где не замерзает примеченный мною невеликий ручей.
– Лиса! Глядите, лиса! – это брат Арсений, это он первым увидел вышедшую из лесу кумушку.
Я вскочил на ноги и, держась за головки саней, припал широко раскрытыми глазами к тому полю, что именовалось Репищами[8], но лисы не мог за-приметить, только поле, только одно оно покато стелилось, слепило блистающей на солнце, ровно разостланной белизной.
– Мышей вынюхивает, – без удивления, как-то обыденно проговорил отец.
– Кто вынюхивает?
– Рыжий кот.
Я прикусил язык. Стало горько-горько. Горько потому, что я опростоволосился, услышал из уст обожаемого мной отца язвительно прозвучавшие слова. В горле что-то застряло, стало душить меня.
– И не боится, – пробаяла устремлённая в выскользнувшие из-под саней всё те же Репищи недвижимо сидящая мать. И она увидела смело мышкующую лису.
Думаю, не так уж много прошло времени, когда и я узрел хитрющую зверюгу, но мне казалось, что я долго-долго пребывал в ослепляющей белой-белой темени…
Огненно-рыжая, с пышно волочащимся по свежему снегу хвостом, мышкующая лиса вкрадчиво подобралась к едва приметному бугорку. Чуяла лиса, что увиденный ею бугорок таит, пусть скудную, но по зиме, по её бескормице давно желанную пищу.
Дорога спустилась в овраг, к тому невеликому ручью, что был мною примечен по пролетью, когда я вместе с отцом ходил осматривать нашу делянку[9]. Я видел, как отец подходил к только что облистившимся берёзам, вырубал на них свою метку. А я стоял запрокинув голову, глядел на сорочью пестрядь берёзовых стволов. Стволы эти – как серебряно льющийся дождь. Да, да, берёзы, они – как дождь, они – как серебряный ливень. Детское восприятие, оно не может быть без уподобления, без образного видения. А когда я встал с охапки сена, когда очутился возле продышавшего своё окошечко, не прихваченного морозом ручья, те же самые берёзы показались мне ровно падающим снегом.
– Есть-то хочешь? – подойдя к облюбованной мною, поющей шелушащейся корою берёзе, спросила меня моя родительница.
Есть я хотел, я ведь не завтракал, но я не мог есть в усобицу, потому отказался от вынутой из-за пазухи пресной лепёхи.
Подрастая, я доставлял немало горя моей родительнице, и это было нестерпимо больно. Но ничто не могло погасить полымя материнской любви. Часто, очень часто любовь эта не воспринималась мной, я хотел, чтоб моя родительница так же, как и меня, любила и своего пасынка, свою падчерицу. Не могу сказать, может, дед, а может быть, бабушка пробудила во мне это бескорыстное чувство. Впрочем, нет, оно родилось со мной. Пробудить можно какую-то страсть, но нельзя пробудить какое-то чувство.
Вынутая из-за пазухи лепёха была бы съедена, если б кто-то разломил её на две равные части.
Милая моя, моя незабвенная страдалица, мать моя, через много-много лет, на закате полной разными превратностями жизни я вспоминаю и запечатляю в сущности-то ничем не примечательные события. Да и не события, скорее всего, быстротекущее время, его половодье. Запечатляю не ради удовлетворения какого-то тщеславия, не ради поучения или назидания. Иные помыслы владеют мной. Возможно, в меру сил мне посчастливится воссоздать не просто некую картину быта, но и бытия. Пусть эта картина не будет выставлена для всеобщего обозрения, она живописуется не для вернисажей, хорошо, ежели попадёт в какой-то запасник, в какую-то кладовую. Кладовая человеческой памяти да сохранит мой холст, моё полотно…
Я долго стоял в снегу берёз. Мраморно-белый, поющий своей берестой, девственно-чистый снег завораживал меня. Я забыл о смирно стоящем, накрытом старым чапаном Гнедке, забыл о матери, об отце, о брате Арсении. По всей вероятности, я так бы и пребывал в белоснежном сне, если б не жидко пролившийся треск.
– Клёстиха! – услышал я голос своего брата.
Открыл прикрытые снежинками глаза, увидел чем-то встревоженную птицу.
Птицы в зимнем лесу, они – как вестники не убитой морозом, вечно торжествующей жизни. Не так много этих не избалованных заморским теплом птах: снегири, поползни, клёсты, синицы… И, конечно, совы, филины, глухари. Не упоминаю воробьёв, в отдалённом лесу их почти не бывает, не бывает сорок, ворон, воронов, галок. Все они предпочитают держаться поближе к жилью.
Не назвал, забыл дятла. А я ведь услышал его дробный, с перерывами, стук – нет, не над головой, в стороне, там, где коряжился старый, с усохшей макушиной дуб. Стук походил на дробь, которую рассыпал по деревянной, похожей на стул солонице мой дед, когда садился за стол, когда в солонице не было соли.
Я оборотился к дубу, поднял глаза, увидел, как по охлипшему, утончённому к макушке стволу стукал дятел, свесив свой длинный, сизо переливающийся хвост. Хорошо были видны под красными надбровьями круглые, в жёлтых обводах глаза. Нельзя было не заметить воронёное долото клюва.
Я загляделся, даже не заметил, как неподалёку, накренясь к овражине, к тому окошечку, что отдышал незамёрзший ручей, тяжело валилась ровная, без единого сучочка берёза. И только когда она окунула свою макушину в глубокий сугроб, я оторвался от дятла и увидел отца, стоящего у обмятого, свежо круглящегося пенька. В его руках воронела опущенная одним концом к шерстяным, перевитым мочальными верёвками онучам, остро блеснувшая своими зубьями пила. Увидел я и мать, смотрящую на поваленную берёзу. Я не мог не заметить выражения отцовского лица, оно победно торжествовало. Не торжествовало, скорбно-скорбно кручинилось лицо матери. Короток зимний день, короток он и тогда, когда начинает прибывать. Мать почему-то пугалась приближающейся сумеречи, говорила отцу:
– Да мы что, ночевать здесь будем…
Отец молчал, но было видно, что он сердится потому, что моя родительница не могла без передышки тыкать пилу, не могла приноравливаться, а отцу хотелось, чтоб всякий рез был без зажима, без сучка, без задоринки.
– Арсенька! Иди сюды. – Брат бросал топор, подбегал к комлю ещё не поваленного дерева, выхватывал из рук матери ручку пилы. А мать начинала злиться.
– Что я, пилить не умею? – обижалась она.
Дотемна, шершаво шамкая, кромсала белые тела берёз остро наточенная и умело разведённая пила.
– Месяц взошёл, – не знаю кому, скорее всего угрюмо притихшему лесу, сказал я, глядя на небо, на его сумеречь.
– Гришенька, поедем домой. Завтра ведь праздник. Новый год.
Отец не внемлет ласково сказанным материнским словам, но он торопится, он хватает ровно распиленные плахи, складывает их меж двух заматерелых берёз.
– Ты всё ворон ловишь, – походя, не глядя на меня, говорит отец.
А я ворон не ловлю, я всё ещё смотрю на месяц, он – когда он народился? – на переставшем сыпать свои снежинки, чистом-чистом небе.
Неохотно выпускаю из широко открытых глаз светлое шильце месяца, хватаюсь за плаху, стараюсь приподнять, но не приподниму.
– Ты что делаешь? – набрасывается на меня не на шутку напуганная моим усердием мать, – Ты же надорвёшься!
Может, от материнской жалости, а может, от обиды я ощутил на щеке прикосновение, нет, не месяца – неожиданно набежавшей слезы.
Из лесу никто не уезжает с пустыми санями, четыре толстых-толстых комля отец без чьей-либо помощи уложил на вязки освобождённых от сена (сено дожёвывал Гнедок) розвальней. Поверх комлей была положена тонкая, с загибом на конце, плашка.
Брат Арсений ловко продел в кольцо дуги, подвязал поперечники, нижний и верхний, а отец взял в руки вожжи. Он предложил мне сесть на воз, но я не сел: обогнав тронувшегося Гнедка, побежал в гору, на опушину околдованного ранним сном леса. Думается, я быстро бы взобрался в гору, достиг опушины, но неподалёку в темени одинокой, широко раскинувшейся сосны раздался устрашающий хохот. И даже не хохот – какое-то хохочущее рыдание, плач. Я опрометчиво бросился назад и чуть не попал под копыта Гнедка.
– Ты что?! – всполошась, спросила мать.
– Совы напугался, – проговорил отец.
Слова отца немного успокоили, в какой-то мере уняли мой страх. И всё-таки я не думал, что сова может плакать так ужасающе. Можно было предположить, что это хохотал леший. Я ведь довольно долго все сказки, все рассказы о домовых и леших воспринимал как неопровержимую правду.
Ждал: может, снова раздастся рыдающий хохот. Не раздался.
6
Берёзовый враг – заросший берёзами овраг.
7
Постать – часть загона, которую, сжиная, гонит жнец.
8
Репищи – трудно уяснить этимологию этого слова, его происхождение. Возможно, есть какое-то родство со словом репей, со словом репица – это в лапшу изрезанная кожа на кнуте пастуха.
9
В двадцатые годы отведённый на порубку лес, как и поле, делился между сельскими жителями. У каждого крестьянина в поле был свой загон, а в лесу – своя делянка.