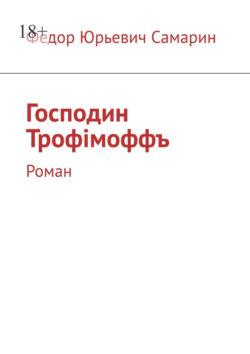Читать книгу Господин Трофiмоффъ. Роман - Федор Юрьевич Самарин - Страница 6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Оглавление– Мы познакомились в Коиладе, в Кераси-Коилада. Деревня… вы бывали в Греции?.. деревня на самом севере, в горах Македонии… Я туда сбежал. От самого себя. Надо было с собой что-то делать. И потом… У меня, вы уж заметили, руки больные: ревматизм. Пальцы болят жутко, видите, на правой руке скоро совсем набок завалятся… Отец Гаэтано снесся с тамошним викарием в Фессалониках… Он голландец, встретил меня в порту, а город после пожара еще весь в саже, кругом копоть, руины, балки обгорелые… Я у него прямо соборе Непорочного Зачатия и заночевал, а на заре в его экипаже – в Коиладу. Пирогов с сыром дал в дорогу, и флягу вина: смолой пахло… сладкое… Но болезнь-то, в общем, была скорее поводом: я в ту пору – тому уж года два… нет, больше… – много пил… не так, как теперь, а очень, очень много! Потому что чувствовать себя посредственностью невыносимо… Особенно, когда эта самая посредственность развалилась перед тобой, сытая, в зубах ковыряет и тебе говорит: а ты, брат, серость!… Такая, знаете, упитанная, самодовольная посредственность, у которой лоснятся щеки. Почти не писал и чуть было меня не лишили места. Хотелось дикости, первозданности и чтобы разговаривать жестами. Взял только бумагу, карандаши, акварель, из одежды – пальто на всякий случай и, зачем-то, еще сапоги… Ну, этюдник, само собой… И, представьте, не ошибся.
Деревня эта притиснута к горному хребту, лесистому, невероятно пышному и будто бы, знаете, нарочно вписанному в небо. Долина небольшая, уютная, речка по ней клокочет, и куда глаз возьмет – черешневые сады. Все кипит от черешневого цвета! Цветы крупные, один к одному, беловато-розовые, и волнами, волнами, взбитыми в чертовой ступе до пены по всей долине… Вся долина будто в манной каше со смородиновым соком… Вообразить невозможно. Я, когда сюда этюды привез, так ведь сказали – опять Умберто все выдумал… спьяну.
Ну, так вот. В деревне этой всего-навсего одна крохотная греческая церквушка с деревянным Иоанном Крестителем у входа, с покатым куполом, а внутри от икон в глазах рябит; хлебная лавка, рынок на въезде, да таверна «У Дафны». Есть еще одна – но та уж поближе будет к самим источникам. Источники же, это, собственно, и не источники вовсе, а натуральный Флегетон огненный: хлещет себе прямо из такого, знаете, разлома в скале. Будто вот взял Александр Македонский, да мечом эту скалу и рассек. Рычит, ревет, клокочет, а потом вдруг резкий такой изгиб между двух-трех скал – и омут. Небольшой, тихий, вроде запруды, какие бобры делают… Видели бобров у нас на озере? Живет одно семейство, австрийцы даже под охрану его брали; правда, отец Гаэтано утверждает, что это не бобры, а водяные крысы… А, кстати: от источника этого и, значит, от деревни до Пеллы – почти рукой подать. От македонцев древних там и не осталось ничего, даже руины куда-то исчезли. Подозреваю, сами местные и растащили. Кто на дом, кто на забор, а может, и церквушку из этих-то руин и сложили… впрочем, могли и турки до 12 —го года вывезти в Салоники, а когда в 17-м году пожар случился и надо было отстраиваться, то и сами греки… Там, в Фессалониках, после войны турок почти что не осталось…
И вот бежит себе, представьте, этот кипяток по камням, а камни – валуны во мху, бородатые, скользкие, водяные пузыри на них шарами переливаются, вода цвета голубого муранского стекла, на валунах этих снизу – будто иней, налет кальция, а потом, кольцами, медь, патина… А из родничков, из-под земли на склонах, бьют холодные ключи —так бы и пил всю жизнь, вместо вот этой гадости… Миф! Такие места, наверное, любил Гомер: заберется, знаете, в глубь ущелья, кифару под голову и спит себе под еловыми лапами. Маленькое такое, тесное, античное ущелье. Анемоны буйствуют, всякие – голубые, алые, корончатые, желтые… Того и глади, кентавр из чащи на длинных ногах и в лавровом венке вывалит, или, там, сатир пьяненький и в обнимку с нимфой…
От моей гостиницы – а она там одна, на перекрестке, от которого дорога на Салоники – до этой целительной красоты надобно шагать в гору. Перед гостиницей – название зычное: «Катаксиомени», стало быть, «Процветающая» – вот прямо перед ней, само по себе, будто его этот мир больше не касается, будто бы вообще спиной оно к этому миру повернулось, потому что кентавры вымерли и на кифарах играть некому – огромное, древнее, может быть, лет ему триста или даже все пятьсот, а то и тысяча – авраамово дерево. Почки на нем только-только вздулись… Они там из его веток мебель до сих пор плетут; да прямо у дверей, на лужайке, штук пять кресел – как сел, так и вставать не охота: аромат – не передать… И в каждой луканико, в свиной колбаске, будьте уверены, толченые семена с него же… Полоснешь по ней, по луканико, ножом, а из нее сок – душистый, пряный…
М-да!..
В общем, от моей гостиницы – с километр или около того, но в гору. До половины путь плитами вымощен, потом речной галькой, а после просто вытоптанная тропа.
Отправился я вечером, сразу после ужина. Постояльцев в гостинице, кроме меня, как оказалось, никого – и хозяин, Григос, веселый толстяк в феске и всегда слегка под мухой, и матушка его, Ирина, такая мелкая старушенция, вся в черном и нос у нее совсем не античный, всю неделю кормили меня постными кушаньями. Дело было под Пасху: в тот год наша и греческая совпадали, и вот объедался я такими, сударь, яствами, которые здесь, в Тироле, и за еду-то не сочли бы.
Когда мне в тот самый вечер поднесли циметья, я подумал, что это что-то вроде пасты. Оказалось, цветки цукини, нафаршированные Бог знает, чем, но вкусно до изумления. А после, причем, Ирина торжественно и чинно объявляла за завтраком, что будет на обед, были у меня такие вещи, господин Трофимофф, как, например, дзадзики, спинакоризо, ала полита, дакос и, из того, что еще запомнил, аракас вутиру: горошек под белым соусом. Артишоки, шпинат разными способами, фасоль… А уж после Пасхи, наутро – это перед отъездом, стало быть, хотя мне и кусок в горло не шел – баранья лопатка, а барана на вертеле жарили чуть не всю ночь! Мало того, этого самого несчастного барана раскрасили красной краской, на рога ему, значит, как фавну, венок из анемонов белых повесили, и привязали к авраамову дереву за день до экзекуции. Всю ночь этот баран орал благим матом, выл, блеял, бедолага, на всю округу – эхо первобытное, у меня волосы встали дыбом, не спал до зари…
Купального костюма я собою не прихватил – нет, у меня он, конечно, был, но понадеялся я, что раз местные туда никогда не ходят, потому что место дьявольское, даже речушка называется Коласеон, «адская», значит, а только приторговывают там медом, орехами, свистульками глиняными и всякой всячиной для иностранцев, и поскольку в гостинице, кроме меня, иностранцев больше нет, то костюм я и не взял с собою. Знаете, такой костюмчик – трико, как у цирковых артистов, мне его директор цирковой школы из Лугано подарил, шутки ради. Место дикое, буду, думаю себе, голышом. Как Одиссей у нимфы Калипсо, стонами дух свой терзая, слезами и горькой печалью! Там, конечно, ни купален, ни купальных машин…
Только повернул за скалу – и чуть рассудка не лишился… Ни в коем случае не сказать, чтобы я никогда не видел обнаженных женщин, скорее даже совсем наоборот. Иной раз от натурщиц, от животов, задниц и грудей, в глазах рябило… Озерцо, представьте, пенное, берега каменистые, над водою стволы в лианах, бородатые, земляничное деревце, эрика в белых колокольчиках, от фисташки тени сетчатые, голубовато- фиолетовые… И вот, сударь, в клубах пара восстает из воды создание, творение, Амфитрита! Обнаженная и потусторонняя.
Влажные, в смоль с рыжиной, волосы до плеч, тяжелые, кольцами, змеями; кожа цвета липового меда с этакой цыганской, природной смуглотою, тяжелые бедра, крохотные, почти детские ступни, узкие плечи, глубокая ложбинка от лопаток до вот этого изгиба, виолончельного, где начинаются налитые как у итальянских крестьянок ягодицы, с ямочками… Ростом, показалось, вот с эту статуэтку…
И вдруг она обернулась. Обернулась… нет, развернулась и уставилась на меня. Прямо в глаза посмотрела. Не мигая. Будто знала, что я сейчас стою именно там. Я сразу выхватил, это уж от ремесла моего – тонкий, бумагу можно резать, нос; полная нижняя губа, чуть раздвоенная, глаза с каштановым проблеском, вороненые… Все по отдельности в ней не совсем, что ли, правильное: шея от балерины, бедра испанские, грудь не по росту… Смесь римских историй Стендаля с «Декамероном»… А, да что я вам рассказываю! Вы и сами ее уж, верно, изучили с пристрастием… И неоднократно.
И вот, стало быть, смотрит она на меня – тут вдруг улыбнулась, заложила вот эдак руки за голову, потянулась слегка… Вы, надо полагать, тоже испытали, некоторым образом, потрясение, а? Ну, я имею в виду, когда обнаружили, что у нее нет ни единого волоска? Нигде! Подмышки, ноги, лоно… Все будто воском покрыто… И одной родинки. Ни единой.
– Ошибаетесь. Вот здесь, прямо за левым ухом, над мочкой. Как зернышко.
– А? Ах, да, вы же… вы же… Вот, значит, стоит она вот так, словно таитянка у Гогена, и взгляд у нее долгий, темный, чернь с серебром… Я уж потом понял, что это от опиума… Улыбнулась, повернулась, заскользила по камешкам к берегу, еще раз обернулась, и вдруг громко так, чтобы реку перекричать – эхо отскочило от воды, мне не по себе сделалось: «Дорогой, у нас гости!»
Смотрю – а чуть выше этого озерца такое… как бы логово, убежище, холмик с плоской вершиной, вокруг заросли желтой и сиреневой лантаны, гибискусы под два метра, ладанник, а дальше, вплоть до леса, стена маквиса, не продерешься… И на раздвижном стуле господин. В таком же, только в синюю полоску, купальном костюме, как и тот, что я с собой не прихватил, в шляпе соломенной, то ли книжку читает, то ли дремлет. Ну, натурально, в ногах у него бутылка оплетенная, корзинка с сырами, и все прочее…
Она спокойно так подошла к этому господину – тот глазом не повел, что, значит, голая она при постороннем мужчине, к тому же, может быть, иностранце – подходит к нему, берет с другого стульчика шелковый, в синих птицах, халат, кимоно японское, настоящее, накидывает на себя, небрежно эдак, неплотно, я хочу сказать, и меня вот так, знаете, пальчиками: иди сюда!
Представились. Он привстал, книжку не выпуская, руку подал, но почти не пожал. Брови щеткой, веки тяжелые, как у кайзера, усы, на голове волосы бобриком: в общем, вылитый пруссак, как на карикатуре.
Оказался Генрих Аусбиндер, а она, понятно, Аделина Мерц…
Стою, значит, столбом, улыбаюсь идиотически, а она к бутылке, смотрю, потянулась: что делать? Наливает… Помолился про себя, она уж бокальчик мне протягивает, такой, знаете, фарфоровый, вроде чашечки, но без ручки…
Аусбиндер книжечку отложил, неаккуратно, обложкой вверх: «Антология русских поэтов», довоенная, 14-го года, у меня тоже где-то здесь… не помню, где, но, кажется, была… На французском, Жана Шюзевиля, да… Вот, говорит, до чего ущербен человек без знания, хоть мало-мальски, чужого языка: читаю, говорит, этого русского, Блока, в переводе на французский, а понимаю, что все в этой книжке не так, как если бы можно было понимать его на самом варварском языке в Европе. Перевод, говорит, всегда дает только представление о предмете, поскольку лишен полутонов и аромата… О чем же, для разговора спрашиваю, пишет этот господин? О ресторанах, говорит, о шелках и о какой-то незнакомке. В общем, непонятно, о чем.
Тут Аделина, как бы между прочим, будто, знаете ли, это общее место, почти скороговоркой: Блок, говорит, скончался ровно год назад, и его можно, как и всякого иноземного поэта, русского в особенности, по-французски только пересказать, а вот чтобы выразить, это надо быть природным русским. И вдруг заговорила на русском, я никогда не слышал такого нагромождения звуков, но понял, что это стихи…
…По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух…
…И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука…
Трофимов слишком поздно обнаружил, что говорит, читает вслух – и то, только когда заметил на себе изумленный взгляд учителя.
– Да-да, господин Трофимофф, вот именно так она в тот раз и читала, такое же точно грохотание, совершенно не представляю, как это у вас во рту все помещается… Я уж потом только вызнал, что никакая она не Аделина, а Валерия…
– Русская?
– Нет, откуда-то из Трансильвании… Хотя почему «откуда-то»…Впрочем, я ведь тоже не Умберто, а Губерт. Губерт Мейнерсдорф. Деревенская фамилия, у нас в роду одни виноделы да виноградари: городишко Клёх, почти деревня, в Штайермарк, в Южной Штирии… Двести лет выращивали белый нейбургер и красный цвайгельт… Ах, какой славный «грюнер вельтлинер» получался, совсем не то, чем потчуют здесь, в здешних кантинах… Знаете, что такое терруар? Может быть, моя склонность к Бахусу корнями уходит в терруар Южной Штирии, в белый нейбургер и красный цвайгельт…
Теперь, знаете ли, надобно привыкать ко всему итальянскому. Пить итальянское, обедать по-итальянски, откликаться на имя Умберто. Иной раз так и подмывает напялить на себя настоящий трахтен, чтобы кожаные куртцледерхозен, дедовский лоден, да заломить на бок зеппель с фазаньими перьями… Скоро любой Аусбиндер покажется родным.
Да! Аусбиндер… Аусбиндер, пока она вот это самое, про незнакомку, смотрел на нее… как бы это сказать?.. нет, не вожделенно, а похабно: такая восторженная ревнивая похоть, как прыщавый юнец смотрит на статую Афродиты, с желанием непременно обломать ей руки… Этот ваш Блок, говорит, потому жертва ужасов большевизма, что сам к нему руку и приложил. Посеявший ветер, так сказать. Только вот книжка от него и осталась. Да, говорю, но он хотя бы ее создал, эту самую книжку и незнакомку. Сотворил. А он мне – я, говорит, книжку эту по почте из Берна выписал. Она суть продукт. А почта – средство доставки продукта, и, стало быть, с помощью почты, сударь, ничего создать, сотворить нельзя. Можно распространять, влиять, внушать, объяснять, заморочить, контролировать. Но сотворить? Тут, говорит – и знаете, я с ним тогда почти согласился, – тут, говорит, средства все те же: краски, звуки, денежные знаки, ноты, движения… Долото, наконец… хотя, при чем тут долото…
Аделина – это я хорошо помню – вдруг будто переменилась, даже, показалось, сделалась ростом выше: «В самом деле? А переворот? Вот эта самая революция, не акт ли творения?»
И развернула целую, знаете ли, теорию насчет того, что разрушение и вообще созидание хаоса есть самый настоящий акт подлинного творчества. Высокого искусства. Потому что хаос – это высшая форма созидания. Так-то, сударь…
Мои возражения, что хаос неизбежно ввергает человечество в скотство, она пропустила мимо ушей, и будто бы специально чтобы позлить Аусбиндера, добавила, что, дескать, почта, стало быть, письма и прочая корреспонденция, из которой потом складываются частные архивы, это вообще-то целый мир, целый отдельно взятый жанр. Аусбиндер отбился тем, что она говорит об исключении, которое, как известно, не опровергает, а подтверждает; она сослалась на Гомера – на Гомера, представляете? – и на темные века, когда древние греки утеряли письменность, и все свела опять-таки к тому, что в самом процессе творчества заложен атом разрушения, то есть, будущего хаоса… а хаос и есть предмет настоящего искусства.
И тут же, мгновенно, секунды не прошло, сделалась опереточной вертихвосткой: расхохоталась: успокойся, говорит, Генрих! Еще неизвестно, что бы написал этот твой покойный бунтовщик, если бы случайно как-нибудь увидел подмышки и ноги этой своей незнакомки!
И ведь она права. Права.
Свечи. Свечи исчезают, сударь! Нас всех погубит электричество. Исчезает тайна. Уже почти исчезла. Придется когда-нибудь прекратить размножаться… В самом деле: всех своих нимф или, там, пейзанок обнаженных я писал… да вот, взгляните хоть на эту… писал при свечах, в основном. Нам электричество не провели, хотя директор еще год назад подавал прошение, а до высокого начальства, сами видите, только через площадь перейти. Не провели, и слава Богу. Видите вон ту шляпу с огарками на полях? Писал деревенских девчонок, и у всех были заросли подмышками… То есть, дописывал – деньги экономил на сеансах. А женщин отцы наши и деды пытались, сударь, охмурять или на званных вечерах, либо на вечернем, замечу – вечернем! – променаде по набережной, не то в театре, ну и, если время дорого, то где-нибудь в ресторане средней руки, под шраммельмузик и недорого. Другими словами, полумрак, налет поэтической потусторонности, мистицизма, что возбуждает, конечно, но, главное, скрадывает всяческие недостатки.
А сейчас все делается на виду. Вечером и в залах, и у Конрада в ресторации, и комнатах в приличных домах нынче ясно, как днем. Да пройдитесь вдоль озера: фонари газовые почти везде сменили на электрические, спрятать себя не получается… Дама в нашем веке вся видна, хоть вечером, хоть под вуалью, а вуали уж из моды выходят. Видна, сударь, вся ее дамская недосказанность. До сущей морщинки на губе.
Я, сказала она, и сказала, я понимаю, убежденно, всерьез, – я, говорит, тоже когда-нибудь стану сама себе нравиться только в закатные часы и стоя спиной к одинокому зыбкому подсвечнику. Каково? И поэтому, говорит, да здравствует электричество – оно позволило женщинам раскрепоститься, расширить кругозор и вновь обрести утраченную культуру античного тела.
Электричество, понимаете ли, заставило женский род повернуться лицом к Древнему Египту. Там, видите ли, волосы с тела истребляли мышьяком и негашеной известью. А в Риме – пемзой и бритвою. Потому что руки, плечи, соответственно, и подмышки были на виду. А у нас мода на глубокие вырезы у дам спереди и сзади, на открытые плечи и голые руки-ноги только лет пять-шесть назад как появилась. И слава Богу. Турнюры исчезли, фижмы всякие, корсеты, да и купальники с этими дурацкими длинными рукавами. Видели теперешние варианты? Никакого корсета, штанишки коротенькие, трико в обтяжечку… И полиция на пляжах больше с линейками не ходит и не ловит тех, у кого купальники короче пятнадцати сантиметров от колена…
Все переменилось. Мода, сударь, диктует вызов обществу, а общество пропитано электричеством. Оно-то нас и погубит, помяните мое слово. Электричество и еще фотография… Тайна испарится как капли воды на стекле, канет в никуда будто рисунок для японской гравюры.
Ну, и вот говорит она все это, и ногу на кресло Аусбиндеру, прямо на подлокотник, поставила: предрекаю, говорит, что года не пройдет, как европейские женщины научаться обходиться без волос на ногах и кое-где еще. Это, говорит, станет неприлично. В Японии это неприлично было еще до Рождества Христова. А у самой – я говорил – кожа на ногах тугая, лоснящаяся, матово-оливковая… У нее кожа вообще сверхчувствительная. По ее словам. Может быть, и врет. Чтобы совсем уж, знаете, ояпониться. У нее же насчет этого целая система, целый ритуал, почти что религиозный.
Помады из масла чайного дерева и сливового сока, семена камелий, мускус, камфора… Ванны принимает – чистый кипяток, бани паровые: специально ездит в Карлсбад; потом еще обертывается в водоросли и листья какого-то редкого сорта чая… А еще натирается канхиолином, жемчужным порошком, и пастой из бергамота…
Для меня все это в тот момент, знаете, будто сход лавины: все, вроде бы, логично, ничего нового – новое только то, что волос нет нигде – а вместе с тем такой привкус на душе, словно вышел из публичного дома. Весь вопрос-то, по сути, в чистоте. А кажется, что как бы с портовой шлюхой сговорился.
Вот мелькнула, сударь, у меня такая мысль, а она будто подцепила ее, будто знала точно, что мысль такая во мне именно сейчас-то и вызрела: чистота, говорит, а сама глаз с меня не сводит, – чистота идет после благочестия. Пословица японская. Древняя. И вообще, говорит, по-японски «чистый» и «прекрасный» это одно слово. Одно и то же.
Так что неизвестно, говорит, что написал бы про незнакомку этот русский, коли б увидел невзначай ее подмышки, а паче еще и обонял бы. А что вдруг, если бы эта незнакомка пустила бы газы? А что, если бы такое приключилось, скажем, с Дездемоной в самый трагический, так сказать, момент? Случилось бы смертоубийство? Или Верди пришлось бы сочинять комедию?
Тогда-то ведь еще не изобрели «О де колонь империаль», «Эдель Розе», «Флёр д’Итали» или ее любимые и страшно дорогие «Флорис». И еще одни – «Сердце Жаннетты»: говорила, что в память об этом вашем поэте… э-э… Блоке. Говорила, что но любил, когда от женщины пахло этим самым сердечком.
– А, знаю… «Кёр-де-Жаннет»… матушка моя ими последнее время только и благоухала.
– Да? Интересное совпадение… и совпадение ли! Но держусь того мнения, что благоухание незнакомки, да еще с учетом вашего русского климата… ну, вы понимаете…
Трофимов раскрыл было рот, чтобы удариться в пространное поучение насчет русской народной гигиены, а заодно и об Российском «Обществе электрического освещения», не только потому что в Бонцо, в отличие от Киева и Петербурга, отродясь не видывали электрического трамвая, не знают, где такая Гиндукушская ГЭС и уж, тем более, электростанция «Уткина заводь», а оттого, что наверняка большевики, по обычаю своему, переименовали «Уткину заводь» в какую-нибудь советскую контору «Шьем и порем» и выдают электрификацию за главное коммунистическое достижение. Впрочем, быстро сообразил, что Умберто нет до этого никакого дела, во-первых, а во-вторых, что если бы его привести, допустим, в Ямские бани, куда, бывало, любил хаживать сочинитель «Незнакомки», парился вождь мирового пролетариата, а до них играл березовым веником Федор Михайлович Достоевский, он бы там, скорее всего, просто помер от неожиданности и крепости впечатлений.
– - Я… Я, господин Трофимофф, сейчас рассказываю вам все это, и, понимаете, чувствую, как во мне пробуждается совесть. Шевелится что-то нехорошее. Серое. Никогда не приходило вам в голову, что серый цвет это… заболевание? Недомогание, вроде герпеса… Должно быть, моллюски видят именно серые сны. Может быть, еще деревья, зимою… Я не должен этого рассказывать. Не должен. Я подлец. Мерзавец. Ничтожество. Меня надо бы убить на дуэли. А лучше зарезать за Лоджией Коммунале. Но я… я не могу сейчас остановиться… Не могу.
Вы бы видели, как она преображалась, когда работала здесь, вот за этим самым столом, над своими суримоно.
– Да, она что-то такое говорила. Все никак не мог вспомнить это слово.
– Японские открытки… Когда она колдовала с суримоно, она была валькирия, провидица, она была альфа и омега, богиня горы Фудзи… Ко мне она приходила, как я полагаю, чтобы сбежать от электричества. Приходила спрятаться в тайну. Садилась вот за этот стол, доставала бумагу, которую всегда приносила с собой – писала только на своей бумаге – раскладывала кисточки, баночки с тушью и акварелью… чертила иероглифы… Я даже как-то подумал, что на свете вообще нет языка, который не был бы ей знаком… Потом эти суримоно копировали салонный обычай разбрасывания карт, и это сыграло злую шутку… Вот. А после, когда она выходила из транса, из творческого забытья, она доставала керамическую трубочку, ложилась на эту тахту, подкладывала под голову кимакуру, складную скамеечку из сандала, снимала очки и курила опиум…
А потом, вдруг, мгновенно, как устрица в раковине – хлоп! Створки защелкивала. Пропадала. На неделю, две, три, на месяц, на полгода… Удивительно, как и куда можно пропасть в нашем городе, тем более, надолго…
Нет, нет, она – не ваша соотечественница, господин Трофимофф. У русских не бывает таких глаз – персидских, индийских, кофейного оттенка, со слегка желтоватыми белками. Да и вообще сделана она, как на египетских и вавилонских рельефах, видели?
Сейчас я уже не помню точной последовательности часов и дней, в которые все случилось там, в Коиладе. Все слиплось в один бесформенный ком, как подтаявшее мороженое. Будто оказался среди луга, когда едва рассвело и теплая мгла… То есть, не помню я, в какой день именно: может быть, в тот самый, когда увидел ее у источника, может, через день или на следующий… Понимаете, я словно брел по колено в вязком, влажном, загустевшем песке… Помню только, что договорились вечером встретиться «У Дафны», и что Аусбиндер после нашего знакомства как-то скоропостижно… В общем, уехал по каким-то своим банковским делам в Афины.
Еле дотянул я до семи – перед глазами светились золотые блики с ее влажной кожи, похожие на чешую зеркального карпа, навязчиво и солоно, и голубоватая тень от ее возбужденных коричневых сосков, и шоколадный, обволакивающий взгляд из-под полу прикрытых век… Я сделал сразу несколько эскизов, быстро, не заботясь о точности да и вообще ни о чем не заботясь… Показалось, что быстро – в какой-то момент увлекло, погрузился в линии, в переходы светотени…
Без пятнадцати семь я уже сидел за столиком. Народу в этот час было человек восемь – пожилые пары, в основном, немцы, видимо, из Магдебурга: говорили на нидердойч, жевали луканико, пили узо…
Она появилась так, словно сама была хозяйкой заведения – дверь за ней медленно захлопнулась сам по себе, будто ее придержал швейцар, сразу она оказалась в середине залы, поздоровалась со всеми, тому кивнула, этому улыбнулась, какую-то бабушку потрепала по плечу… На ней было черное платье с красной накидкой, легкое, струящееся…
Нет, нет, она безусловно не вашего племени, Трофимофф, хотя… уж слишком лихо она общалась с местными солунскими славянами… Официанты «У Дафны» часто переходили с греческого на македонский…
Заказала себе курабьедес и целую бутылку «мавродафни», густого, сладкого, почти черного – греки им, говорят, причащаются – вот и она в шутку налила полную десертную ложку и я вынужден был причаститься: немцы замерли, будто им Санта Клаус фокус показал… Я слизнул вино, потянулся к ее руке – и тут она не сильно, но довольно жестко приложила меня по губам: «Я сама решаю, когда, куда, кто и как именно меня целует. Разве я подала вам повод? Протянула руку? Сделал намек? Или вы решили, что эта шутка с причастием означает непременное продолжение? Эту шутку способны оценить только местные славяне и здешние ортодоксы: вы ни то ни другое, так что же на вас нашло? Если вам посчастливилось увидеть меня обнаженной, поделитесь этим счастьем с собой, но не фантазируйте в трактире»…