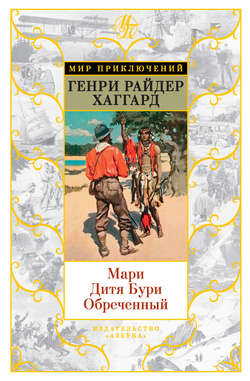Читать книгу Мари. Дитя Бури. Обреченный (сборник) - Генри Райдер Хаггард - Страница 10
Мари
Глава IV
Эрнанду Перейра
ОглавлениеМинуло несколько дней, прежде чем меня наконец выпустили из той крохотной комнатушки, напоминавшей о недавней бойне; признаться, я от души ее возненавидел. Я уговаривал своего отца позволить мне подышать свежим воздухом, но он возражал: мол, стоит пошевелиться, и кровотечение начнется снова, а то и вовсе разорвется задетая артерия. Вдобавок сама рана заживала не очень-то хорошо: то ли на острие копья, которое нанесло эту рану, была грязь, то ли этим копьем свежевали убитых животных – так или иначе, случилось заражение, как говорят доктора, гангрена, а в те дни подобное обычно означало неизбежную смерть. По счастью, моя молодая кровь оказалась сильнее; пусть меня лечили только холодной водой – поскольку антисептиков мы еще не знали, – угроза гангрены сошла на нет.
И без того скучные дни, проводимые в бездействии, становились еще скучнее и тягостнее оттого, что мы с Мари теперь почти не виделись. Она навещала меня исключительно в компании отца. Однажды я не вытерпел и все-таки спросил, почему она приходит так редко и всегда не одна.
– Мне не разрешают, Аллан, – шепнула в ответ Мари, и по ее милому личику скользнула тень.
А потом ушла, не сказав больше ни слова.
Интересно, кто ей не разрешает и почему? В тот же миг меня словно озарило. Наверняка это как-то связано с тем высоким и смуглым юношей, который спорил с моим отцом подле фургона. Мари никогда мне об этом человеке не рассказывала, однако из разговоров с готтентотом Хансом и моим отцом я смог составить некоторое представление о нем самом и роде его занятий.
По всей видимости, он был единственным ребенком сестры Анри Марэ, которая вышла замуж за португальского торговца с берегов залива Делагоа; португальца звали Перейрой, и он приехал в Капскую колонию много лет назад. Он и его жена умерли, а их сын Эрнанду, приходившийся Мари кузеном, унаследовал все немалое семейное состояние.
Мне припомнилось, что я кое-что слышал об этом Эрнанду, или Эрнане, как именовали его буры, от хеера Марэ – дескать, ему досталось значительное богатство, поскольку его отец изрядно нажился на торговле вином и прочими спиртными напитками по правительственной лицензии. Эрнанду частенько приглашали погостить в Марэфонтейн, но его родители, которые тряслись над своим отпрыском, а сами проживали в укрепленном поселении недалеко от Кейптауна, всякий раз отвергали приглашение, не желая, чтобы их сын уезжал так далеко в африканскую глушь.
После их кончины все, похоже, изменилось. Судя по всему, после смерти старика Перейры губернатор Капской колонии отобрал у семьи лицензию на торговлю спиртным. Вышел громкий скандал, и Эрнанду Перейра, пускай он не нуждался в деньгах, страшно разозлился; гнев побудил его примкнуть к заговору недовольных буров. В итоге теперь он входил в число тех хитроумных людей, что замыслили Великий трек и составляли планы этого переселения, которое, между прочим, уже началось. Поисковые партии продолжали изучать те земли за границами колонии, где фермеры-буры рассчитывали обзавестись собственными владениями.
Такова история Эрнанду Перейры, которому суждено было стать – и увы, это сбылось – моим соперником в борьбе за руку и сердце прекрасной Мари Марэ.
Как-то вечером мы с отцом остались одни в моей крохотной комнатке. Я дождался, когда отец дочитает вслух отрывок из Священного Писания, и, набравшись храбрости, сказал, что полю бил Мари Марэ и хотел бы жениться на ней. А потом прибавил, что мы обменялись клятвами, пока кафры Кваби осаждали ферму.
– Вот уж и вправду – любовь и война! – произнес мой отец.
Взгляд его был строгим, но на лице не проскользнуло и тени удивления, будто сказанное мной вовсе его не удивило. Как выяснилось позднее, я в горячке и беспамятстве беспрерывно повторял имя Мари и выказывал свои нежные чувства к ней. Да и сама Мари, когда мне сделалось совсем плохо, разрыдалась в присутствии моего отца и призналась, что любит меня.
– Любовь и война… – повторил отец. – Бедный мой мальчик, сдается мне, ты попал в серьезные неприятности.
– Почему? – удивился я. – Что плохого в нашей любви?
В ней нет ничего дурного, сын. Учитывая обстоятельства, такое вполне естественно, и мне следовало это предвидеть. К несчастью, ваши чувства, скажем так, несвоевременны и неуместны. Прежде всего, мне бы не хотелось, чтобы ты женился на иностранке и породнился с этими мятежными бурами. Я надеюсь, что когда-нибудь, много лет спустя – не забудь, Аллан, ты совсем еще юн, – ты женишься на достойной англичанке. О, как я на это надеюсь!
– Никогда! – воскликнул я.
– «Никогда» – чересчур громкое слово, сын. Поверь, то, что сейчас мнится тебе невозможным, рано или поздно произойдет.
Его слова тогда немало меня разозлили, однако позже я не раз их вспоминал.
– Даже если оставить в стороне мои упования и мою предубежденность, – продолжал отец, – вашим чувствам вряд ли суждено воплотиться в браке. Ты нравишься Анри Марэ, он признателен тебе за спасение жизни дочери, но не забывай, что он ненавидит англичан, в особенности бедных англичан вроде нас с тобой. Если только тебе не случится разбогатеть, Аллан, ты будешь бедняком – ведь мой достаток невелик.
– Я смогу разбогатеть, отец! Буду добывать ту же слоновую кость. Ты знаешь, я меткий стрелок.
– Аллан, я не верю, что ты разбогатеешь. У тебя не та кровь. Даже если деньги на тебя свалятся, ты вряд ли сумеешь сохранить их или приумножить. Наш род восходит, сын мой, к временам Генриха Восьмого, если не дальше. И никто, никто из наших предков не преуспел в коммерции. Подожди! Предположим, ты станешь исключением из правила. Это случится не в одночасье, верно? Состояния не вырастают за ночь, словно грибы после дождя.
– Пожалуй, ты прав, отец. Но я уверен, что мне повезет…
– Возможно. Но пока тебе предстоит соперничать с человеком, которому уже повезло. Точнее, с человеком, у которого карманы полны денег.
– О ком ты говоришь? – уточнил я и даже привстал с места.
– Об Эрнанду Перейре, Аллан. Он двоюродный брат Мари и, как говорят, один из богатейших людей колонии. Мне известно, что он хочет жениться на Мари.
– Откуда ты это знаешь, отец?
– Анри Марэ рассказал мне сегодня днем – думаю, намеренно. Перейра влюбился в нее с первого взгляда. Это случилось в тот день, когда он примчался вместе с остальными на ферму. Прежде он видел Мари лишь в детстве и не подозревал, какой красавицей она стала. Словом, он остался сторожить дом, пока все прочие поехали искать кафров, и… Об остальном можешь догадаться сам. У этих южан все происходит быстро.
Я опустился на ложе и вжался лицом в подушку, закусил губу, чтобы сдержать стон, который так и рвался наружу. Что ж, положение и вправду казалось безнадежным. Как мне соперничать с этим богатым и удачливым типом, которому отец моей нареченной наверняка отдаст предпочтение? Но затем мрак моего отчаяния вдруг осветился проблеском надежды. Пускай я ничего не могу сделать, но Мари-то может! Она всегда верна своему слову, а нрав у нее решительный… Ее ни за что не подкупить, и сомневаюсь, чтобы ее можно было запугать.
– Отец, – сказал я, – быть может, мне не суждено жениться на Мари, но сдается, что у Эрнанду Перейры тоже ничего не выйдет.
– Почему же, сынок?
– Потому что Мари любит меня, отец, и она не из тех, кто готов поступаться чувствами. Скорее уж она умрет.
– Тогда ты нашел себе весьма необычную женщину, Аллан. Как бы там ни было, сын, будущее принадлежит тем, кто до него доживает. Я буду молиться, чтобы любой исход оказался благом для вас обоих. Мари – милая девушка, она мне очень нравится, несмотря на бурскую кровь и французское происхождение. Хватит, что-то мы заболтались, тебе нужно отдыхать. Спи, не надо волноваться, Аллан, иначе разбередишь рану.
– Спи, не надо волноваться, Аллан… – Эти слова я бормотал, казалось, часы напролет, пытаясь избавиться от малоприятных мыслей.
Наконец слабость взяла свое, и я провалился в забытье. Что за жуткие сны мне снились! Хвала Небесам, теперь они стерлись из памяти, однако отдельные события, случившиеся позднее, заставляли меня – и, не стану скрывать, заставляют по сей день – думать, что это мои дурные сны нежданно воплотились наяву.
На следующий день после этого разговора меня, закутанного в чрезвычайно грязное одеяло, наконец-то вынесли на веранду и положили на туземную лежанку-римпи. Наконец я увидел солнце! Насладившись первыми за несколько дней глотками свежего воздуха, я принялся оглядываться по сторонам. Перед домом (точнее, перед тем, что от него осталось) стояли бурские фургоны, крайние – вплотную к веранде; понизу вдоль них тянулся свеженасыпанный земляной вал, кое-где торчали связанные вместе ветки мимозы. По всей видимости, эта цепочка фургонов, на которой несли дозор вооруженные буры и туземцы, должна была служить преградой и линией обороны на случай повторного нападения воинов Кваби или других кафров.
По ночам цепочку смыкали, а в светлое время суток центральный фургон чуть отодвигали в сторону, и получалось что-то вроде калитки. Сквозь эту калитку, или проход, виднелась полукруглая изгородь, которой обнесли довольно большое пространство, где теперь держали оставшийся скот и лошадей хеера Марэ, а также лошадей его друзей – тем явно не хотелось, чтобы их скакуны тоже сгинули без следа в вельде. Посреди этого поставленного на скорую руку крааля виднелся длинный и приземистый бугор; под ним, как мне сказали позднее, лежали тела тех, кто погиб во время нападения на ферму. Двух рабов, что пали, защищая дом, похоронили в маленьком садике, за которым ухаживала Мари, а обезглавленное тело Леблана удостоилось погребения в обнесенном стенами закутке рядом с домом: там покоились прежние владельцы фермы и несколько родичей хеера Марэ, в том числе его жена.
Пока я изучал окрестности, на веранду вышла Мари. Она появилась из сгоревшей половины дома, и за нею по пятам следовал Эрнанду Перейра. Завидев меня, Мари подбежала ко мне, раскинула руки, будто собираясь обнять. Потом, похоже, опомнилась и чинно подошла к моей лежанке.
Вся зардевшись от смущения, она проговорила:
– О хеер Аллан… – (Никогда прежде она не обращалась ко мне столь чопорно!) – Я так рада, что вы с нами! Как вы себя чувствуете?
– Неплохо, благодарю вас, – ответил я и не удержался от колкости: – Вы бы и раньше узнали об этом, Мари, если бы навестили меня.
В следующее мгновение я пожалел о своих словах, ибо глаза Мари наполнились слезами, а из ее груди вырвалось сдавленное рыдание. Но ответила мне не Мари, которая попросту не могла выдавить ни слова, – нет, вмешался Перейра.
– Юноша, – изрек он покровительственным тоном по-английски (этот язык он хорошо знал), – моей кузине выпало немало хлопот в эти дни, так что у нее не было времени заботиться о вашей ноге. Ваш почтенный отец уверял, что рана почти зажила и что скоро вы снова сможете забавляться и развлекаться, как подобает молодым людям вашего возраста.
Теперь уже я утратил дар речи от этакой дерзости, и на мои глаза тоже навернулись слезы – слезы ярости и бессилия. Мари ответила наглецу за меня.
– Верно, кузен Эрнан, – сказала она холодно. – Хвала Господу, хеер Аллан Квотермейн скоро снова сможет развлекаться и устраивать игры, например оборонять Марэфонтейн с восемью мужчинами против орды туземцев. И да помогут Небеса тем, кто окажется на мушке его ружья! – Тут она покосилась на бугор, насыпанный над телами кафров – многих я застрелил собственноручно.
– Прости меня, Мари, умоляю! – вскричал Перейра, нисколько не уязвленный этой отповедью. – Я вовсе не потешался над твоим юным другом, который, несомненно, храбр, как и все англичане, если верить всему, что о них говорят, и который доблестно сражался, когда ему выпал случай защитить мою дорогую кузину. Но позволь напомнить, что не он один умеет держать ружье в руках, и я буду счастлив это по-дружески ему доказать, когда он окрепнет. – Перейра сделал шаг вперед, внимательно оглядел меня и прибавил со смешком: – Allemachte! Сдается мне, до выздоровления еще далеко. Кажется, ветер вот-вот унесет его как перышко!
Я по-прежнему хранил молчание, разглядывая этого высокого и ладного, дорого одетого молодого человека, явно следившего за своим внешним видом. Он был широкоплеч и мускулист. Его лицо светилось здоровьем и самоуверенностью. Мысленно я сравнивал себя с ним. Вот я, изнуренный лихорадкой и потерей крови, бледный измученный паренек, можно сказать, крысеныш, с руками-палочками, копной всклокоченных волос, едва проклюнувшейся щетиной на подбородке, в грязном одеяле вместо одежды… Да разве можно нас сравнивать? Что мне противопоставить этому безупречному наглецу, ненавидящему лично меня и весь мой народ, человеку, в глазах которого я, даже полностью выздоровевший, все равно буду лишь бестолковым мальцом?
И все же, все же… Покуда я лежал там, униженный и осмеянный, меня посетила воодушевляющая мысль: пускай мой облик смущает и пугает, зато духом, мужеством, решительностью и способностями – словом, всеми истинно важными чертами – я уже настоящий мужчина. Не просто ровня Перейре, а нечто большее. Пускай я беден, пускай хрупок и слаб телом, но я непременно возьму над ним верх и сохраню для себя то, что сумел завоевать, – любовь Мари!
Таковы были мои мысли и чувства, и могу предположить, что в те мгновения они частично передались Мари, которая давно обрела способность читать в моем сердце, не дожидаясь, пока слова сорвутся с уст. Так или иначе, она гордо выпрямилась, ее лицо посуровело, ноздри раздулись, черные глаза засверкали; она кивнула – и произнесла столь тихо, что, по-моему, я единственный ее услышал:
– Так! Ничего не бойся!
Между тем Перейра не умолкал. Он было отвернулся, чтобы чиркнуть по кресалу, а теперь раздувал искру, желая раскурить свою большую трубку.
– Кстати, хеер Аллан, – сказал он, – чудесная у вас кобылка. Похоже, она преодолела расстояние от миссии до Марэфонтейна за удивительно короткий срок. И чалый тоже. Я вчера прокатился на ней, просто чтобы она размялась, и мне эта лошадь приглянулась. Мой вес, конечно, великоват для нее, но решено – я у вас ее покупаю.
– Кобыла не продается, хеер Перейра, – ответил я, подав голос впервые на протяжении нашей беседы. – И не помню, чтобы я разрешал хоть кому-то на ней кататься.
– Ваш отец позволил. Или тот уродливый готтентот?.. Честно сказать, запамятовал. А насчет того, что она якобы не продается… Знаете, в этом мире продается все, важна лишь цена. Я даю вам… Дайте-ка прикинуть… Да какая разница, когда денег не счесть?! Даю вам сотню английских фунтов за эту кобылу, и не считайте меня глупцом. Я намерен вернуть эту сумму и заработать больше на южных скачках. Согласны?
– Я же сказал, хеер Перейра, кобыла не продается. – Тут меня посетила мысль, и я продолжил не задумываясь, по привычке: – Но, если угодно, я готов предложить вам состязание. Когда я окрепну, давайте посоревнуемся в стрельбе. Я поставлю свою кобылу, а вы – сотню фунтов.
Перейра расхохотался.
– Друзья, только послушайте! – крикнул он бурам, что шли к дому на утренний кофе. – Этот юный англичанин желает состязаться со мной в стрельбе и ставит свою замечательную кобылку против моих ста британских фунтов! Он вызывает меня, Эрнанду Перейру, который завоевал все на свете призы за стрельбу! Нет, приятель, я не вор! Я не стану забирать вашу кобылу просто так!
Я по-прежнему хранил молчание, разглядывая этого высокого и ладного, дорого одетого молодого человека…
Среди буров случилось быть знаменитому Питеру Ретифу, весьма благородному и достойному человеку, гугеноту по происхождению, как и Анри Марэ. Этого человека, который находился в самом расцвете сил, правительство направило улаживать приграничные распри, однако из-за недавней ссоры с губернатором провинции сэром Андрисом Штокенштромом он вышел в отставку и сейчас занимался подготовкой к Великому треку. Лично я увидел тогда Ретифа воочию впервые в жизни. Увы, я и не мог предположить, где и когда увижу его в последний раз… Впрочем, не стану забегать вперед и поведу свое повествование в должном порядке.
Перейра продолжал потешаться надо мной и похваляться своими умениями, а Ретиф пристально посмотрел на меня, и наши взгляды встретились.
– Allemachte! – воскликнул он. – Так это тот юноша, который с жалкой кучкой готтентотов и рабов удерживал ферму против воинства Кваби?
Кто-то ответил, что так и было, и прибавил, что, когда подоспела помощь, я собирался застрелить Мари Марэ и застрелиться сам.
– Что ж, хеер Аллан Квотермейн, дайте мне свою руку. – С этими словами Питер Ретиф взял мои вялые пальцы в свою ладонь и громко сказал: – Ваш отец наверняка гордится вами сегодня, как гордился бы я, будь у меня такой сын! Господи Иисусе, далеко же вы пойдете, если уже успели столько совершить в столь юном возрасте. Друзья! Я приехал только вчера, а потому узнал о случившемся от кафров и от муи мейзи[21]. – Он кивнул в сторону Мари. – Я также прошелся по двору и заглянул в дом, посмотрел, где гибли нападавшие – эти места легко обнаружить по пятнам крови. Большинство убитых застрелил вот этот англичанин, лишь последних он убил копьем. Скажу как на духу, никогда прежде за всю свою богатую событиями жизнь я не видывал обороны упорнее и надежнее против превосходящего противника. А достойнее всего, пожалуй, то, как этот юный лев стал действовать, получив известие о намерениях врага, и его стремительная скачка от миссии к ферме. Повторю – отец может и должен им гордиться!
– Раз уж на то пошло, минхеер, я и горжусь, – сказал мой отец, присоединившийся к нам после утренней прогулки. – Но умоляю, ни слова более, иначе он возгордится без меры.
– Ба! – отозвался Ретиф. – Такие парни, как он, не пыжатся попусту! Зато любители поболтать так и норовят возгордиться. – Тут он сурово покосился на Перейру. – Как ни жаль, хватает павлинов, обожающих распушить хвост. Сдается мне, этот паренек ничуть не уступит мужеством вашему славному моряку, как его там… Нельсону? Ну, тому, который разгромил французов в пух и прах и геройски погиб, заслужив посмертную славу. Говорят, он тоже был мал ростом и маялся животом…
Должен признаться, что никакая другая похвала не была приятнее для моего слуха, чем слова комманданта Ретифа, прозвучавшие именно тогда, когда я ощущал себя буквально втоптанным в грязь. По лицам Мари и моего отца я видел, что и им эти слова показались слаще музыки. Да и остальные буры, люди храбрые и честные, не остались равнодушными.
– Ja! Ja! Das ist recht![22] – загомонили они. – Да, да, правильно!
А вот Перейра повернулся к нам своей широкой спиной и притворился, будто заново раскуривает погасшую трубку.
Ретиф еще, как выяснилось, не закончил.
– Так над чем вы приглашали нас посмеяться, минхеер Перейра? Над тем, что хеер Аллан Квотермейн вызвал вас на состязание? А почему бы нет, собственно? Если он стрелял в кафров, что бежали на него с копьями, значит вполне способен попасть в мишень. Вы говорите, что не желаете его грабить, забирать даром эту чудесную кобылу. Мол, вы выиграли столько призов в стрельбе по мишеням, верно? Но вам когда-нибудь доводилось стрелять в кафра, который летит на вас с ассегаем, минхеер? Или в ваших краях такого не случается? Что-то я не припомню таких новостей…
Перейра ответил, что я, кажется, предложил стрелять не по кафрам с ассегаями, а по другим целям, каким именно, еще не решили.
– Вот как? – уточнил Ретиф. – Ну, минхеер Аллан, и каковы же будут мишени?
– Мы оба встаем вон в том большом овраге между холмами. Хеер Марэ объяснит, он знает это место. Перед закатом там пролетают дикие гуси. Кто подстрелит шесть птиц наименьшим числом выстрелов, тот и победил.
– Если зарядить ружья дробью, это будет несложно, – заметил Ретиф.
– Дробью гуся редко собьешь, минхеер, – возразил я. – Они летят на высоте от семидесяти до ста футов. И я имел в виду нормальные патроны.
– Allemachte! – вскричал какой-то бур. – Вы изведете кучу патронов, чтобы подстрелить хоть одного гуся на такой высоте!
– Тогда сделаем так, – предложил я. – Каждому дается по двадцать выстрелов. Тот, кто собьет больше птиц, победит, даже если их будет меньше шести. Принимает ли вызов хеер Перейра? Если да, я готов сразиться с ним, пусть он завоевал столько призов.
Эрнанду Перейра явно медлил с ответом, и сомнения, его одолевавшие, были столь очевидными, что другие буры принялись смеяться над ним. В конце концов он разозлился и бросил в сердцах, что готов стрелять на пару со мной по антилопам, ласточкам и даже мухам, если мне и такое взбредет в голову.
– Пусть будут гуси, – подытожил я, – ведь иначе придется ждать, покуда я не окрепну для езды верхом, чтобы охотиться на антилоп и прочую дичь.
После этого Мари собственноручно записала условия поединка (мой отец, не скрывавший своей заинтересованности в результате состязания, не пожелал становиться участником этого, как он выразился, «спора из-за денег», а помимо Мари и меня самого, никто другой не был достаточно грамотен, для того чтобы перенести наше соглашение на бумагу). Затем мы оба подписались, причем Эрнанду Перейра, по-моему, поставил свою подпись не слишком охотно; если мое выздоровление пойдет быстро, состязание договорились устроить ровно через неделю. На случай возможных разногласий хеера Ретифа, который собирался задержаться в Марэфонтейне и окрестностях, назначили судьей и распорядителем. Кроме того, по условиям никому из нас не разрешалось посещать место поединка или стрелять по гусям до назначенной даты. При этом дозволялось сколько угодно практиковаться в стрельбе по другим целям и использовать любые ружья, на свой вкус.
Когда с этим было покончено, меня отнесли обратно в мою комнату, ибо после всех утренних треволнений я ощутил изрядное утомление. Туда же принесли обед, приготовленный Мари. Пребывание на свежем воздухе разожгло мой аппетит, и я съел все, что было на тарелке. Тут появился мой отец в компании хеера Марэ и затеял со мной беседу. Фермер довольно вежливо спросил, чувствую ли я себя достаточно хорошо, чтобы выдержать дорогу до миссии в повозке, запряженной волами. Дескать, повозка на рессорах, а меня удобно положат на «картель», матрац из шкур.
Я ответил утвердительно, как поступил бы даже на грани смерти, поскольку понимал, что хееру Марэ не терпится избавиться от меня.
– Не сердитесь, Аллан, – смущенно проговорил он. – Я вовсе не такой дурной хозяин, каким вы можете меня счесть, особенно если вспомнить, скольким я вам обязан. Но мне кажется, что вы с моим племянником Эрнаном не очень-то поладили, а в моем теперешнем положении, когда я почти разорен, мне совершенно не хочется ссориться с единственным по-настоящему богатым членом семьи.
Я ответил, что все понимаю и ни в коем случае не желаю доставлять ему неудобств. Впрочем, промелькнула мысль, что фермер действует по наущению хеера Перейры, который решил хотя бы так объяснить мне, насколько ничтожное я существо в сравнении с ним – просто мальчишка, каких в Африке пруд пруди.
– Знаю-знаю, – грустно прибавил Марэ, – моему племяннику до сих пор слишком везло в жизни, и потому он порой бывает несносен. Он не в состоянии понять, что битву необязательно выигрывает сильнейший, а в гонках не всегда побеждает самый быстрый. Сами посудите, он молод, богат и привлекателен… Словом, испорченный, избалованный ребенок. Мне жаль, но тут я ничего не могу поделать. Приходится с этим мириться. Если не получается приготовить еду, надо есть ее сырой, верно? И еще, Аллан… Вы, наверное, слышали, что ревность делает людей грубыми и жестокими?
Его взгляд был весьма многозначительным. Я промолчал; когда не знаешь, что сказать, лучше помалкивать.
– Признаться, я возмущен этим состязанием в стрельбе, в которое вас втянули без моего одобрения. Если он одержит верх, то станет потешаться над вами пуще прежнего; а если победите вы, он разозлится.
– Тут нет моей вины, минхеер, – ответил я. – Он хотел заставить меня продать мою кобылу, на которой ездил без моего разрешения, и не умолкая похвалялся своей меткостью. В итоге я не стерпел и вызвал его на поединок.
– Я не виню вас, Аллан, честное слово. Но все же вы поступили глупо. Для него не имеет значения, если он потеряет даже такую сумму. Но эта чудесная кобыла – ваше сокровище, и я сильно расстроюсь, если вам придется расстаться с животным, которое послужило доброму делу. Ладно, не стану вас долее мучить. Быть может, обстоятельства сложатся так, что поединок не состоится. Надеюсь на это.
– А я надеюсь, что состоится, – упрямо проворчал я.
– Не сомневаюсь, мальчик мой, в вашем-то состоянии, когда вы рассержены больше, чем лошадь, у которой спину натерло седлом. Но послушайте меня оба – и вы, Аллан, и вы, мсье проповедник. Есть и другие причины, помимо этой мелкой ссоры, по которым я буду рад, если вы уедете на время. Я должен посоветоваться со своими соотечественниками относительно неких тайных дел, насчет нашего благосостояния и нашего будущего, и, к сожалению, им не понравится, если рядом будут двое англичан… Очень скоро в вас заподозрят шпионов…
– Ни слова больше, хеер Марэ, – поспешил вмешаться мой отец. – Нам тем паче нет смысла задерживаться там, где мы оказались нежеланными гостями и где на нас смотрят с подозрением только потому, что мы родились англичанами. Милостью Божьей мой сын сослужил вам службу и принес пользу вашему дому, но теперь все это в прошлом и уже забылось. Велите запрячь ту повозку, о которой вы упомянули. Мы отправляемся немедля.
Анри Марэ, в глубине души джентльмен, пусть и подверженный, даже в те дни, приступам ярости и глупости в мгновения чрезмерного волнения (или под влиянием расовых предрассудков), принялся извиняться и уверять моего отца, что он ничего не забыл и нисколько не собирался нас оскорбить. В общем, кое-как они помирились, но около часа спустя мы все-таки покинули ферму.
Все буры пришли нас провожать и наговорили мне множество добрых слов; каждый неизменно прибавлял, что ждет не дождется, когда вновь увидит меня в следующий четверг. Перейра тоже был среди провожавших и вел себя вежливо и высокомерно, умолял обязательно поправляться, иначе победа над увечным не доставит ему ни малейшей радости, пусть даже это всего лишь стрельба по гусям. Я ответил, что приложу все усилия и что не привык проигрывать в состязаниях, больших или малых, а особенно в тех, которые задевают меня за живое. После этого, продолжая лежать на спине, я повернул голову и посмотрел на Мари, которая выскользнула из дома и тоже пришла на двор.
– Прощай, Аллан, – сказала она, протянула руку и одарила меня таким взором, какой, уверен, женщины лишь изредка дарят мужчинам. Потом притворилась, будто поправляет шкуру, которой меня накрыли, наклонилась и тихо прошептала: – Победи в этом поединке, если ты меня любишь! Я буду молиться за тебя каждую ночь, и пусть Господь даст мне знак.
По-моему, Перейра что-то заподозрил, хоть и не разобрал ее слов. Во всяком случае он закусил губу и сделал такое движение, словно хотел вмешаться в наше прощание. Однако Питер Ретиф довольно грубо встал перед ним, оттеснив Эрнанду в сторону, и сказал с добродушным смешком:
– Allemachte! Друзья, позвольте же мисси пожелать доброго пути юноше, который спас ее жизнь!
В следующий миг готтентот Ханс прикрикнул на волов, как заведено у туземцев, и повозка выкатилась за ворота.
Что я могу сказать? Раньше хеер Ретиф мне просто нравился, а теперь я его обожал!
21
Молодой красавицы. – А. К.
22
Да-да, правильно (нем.). Порой автор, приводя высказывания буров на «бурском» языке, на самом деле заставляет их говорить по-немецки.