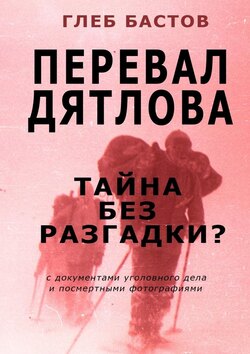Читать книгу Перевал Дятлова - Глеб Бастов - Страница 42
ТАК ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ?
На что мы можем опираться?
ОглавлениеСледует определиться, что мы будем считать фактами, заслуживающими доверия – а что отбросим. Как-то рассортировать огромную груду фактов – и того, что лишь маскируется под факты.
Прежде всего, в этой огромной куче есть официальное дело.
Далее, поскольку дело будоражило умы (и продолжает будоражить!) на протяжении полувека с лишним, за это время накопились версии. Как объясняющие гибель людей и трагедию в целом, так и рассматривающих лишь отдельные детали. В том числе множество разных слухов, передававшихся изустно или через куцые статьи в газетах и журналах, а сейчас по форумам сети. Многие из этих слухов уже давно дошли до стадии «кто-то где-то когда-то сказал, что» – и далее идет изложение какого-то «факта». Есть также многочисленные воспоминания тех, кто как-то был связан с поисками – ну, или якобы воспоминания, потому что большей частью они передаются тоже в виде «вот есть такие воспоминания одного из участников, что…»
Были предприняты экспедиции энтузиастов-расследователей на место трагедии. В основном, летом. Но и зимой там тоже бывали, и даже пытались ставить какие-то опыты, чтобы прояснить обстоятельства трагедии.
Есть сотни статей в газетах и в журналах. Десятки телепередач. Документальные фильмы. Несколько книг – от документалистики до откровенной беллетристики мистико-фантастического толка. По мотивам одной из этих фантастических книг был даже снят полноценный фильм в Голливуде.
Но на что из всего этого можно опираться, как на заслуживающее доверия?
Статьи, журналы и книги как источник фактов о деле мы должны сразу отринуть. Если какие-то реальные факты в этих книгах и статьях есть – они должны были откуда-то взяться, чтобы попасть в эти книги, так? Либо из воспоминаний очевидцев, либо напрямую из материалов дела. Значит, все действительные факты, которые можно найти в книгах и статья, мы должны будем встречать не только в этих книгах и статьях – а в каких-то других первоисточниках.
Экспедиции энтузиастов кажутся куда более надежным источником. Но, если задуматься, источником чего? Единственный факт, который можно считать надежно установленным по результатам этих походов, состоит в том, что за прошедшие полвека край леса поднялся по склону горы. Там, где раньше была жидкая поросль, теперь уже что-то похожее на лес. В том числе тот знаменитый кедр, под которым нашли раздетые тела и остатки костра, и который для поисковиков казался хорошим ориентиром на местности, выделяясь над краем леса, – теперь его найти могут только те, кто был в тех местах в те годы. Сейчас в лесу никакой кедр особо не выделяется.
Слухи на уровне «слышал, что кто-то где-то пересказывал слова одного очевидца, так вот он…» строит сразу отбросить. В наше время доступного всем интернета, и повального распространения социальных сетей, всем прекрасно известно, как легко люди могут врать – от невинных шуток до злобного троллинга и пропагандистских кампаний. Верить на слово, без элементарной проверки, просто нельзя.
А воспоминания поисковиков? Это надежный источник информации?
Пожалуй, это самый сложный вопрос.
Во-первых, разумеется, очевидцы могут быть фальшивыми. В последние годы тема стала настолько популярной, что регулярно возникают странные персонажи, которые, оказывается, в 59 году как-то соприкоснулись с поисками, или даже с самой трагедией. Обычно это полусумасшедшие пожилые люди, которым просто не хватает доброжелательного внимания, – или же так эти люди выглядят, когда к ним (может быть, вполне нормальным пожилым людям) пристает бессовестный журналист, готовый на все, лишь бы высосать сенсацию, и поэтому сознательно извращающий то, что эти люди сказали в реальности.
Такие случаи довольно легко распознать и сразу отсеять. А вот что делать с воспоминаниями людей, которые, вроде бы, реально могли соприкасаться с поисками? Или даже совершенно точно участвовали? Люди, чьи фамилии есть в уголовном деле?
Трудность состоит в том, что некоторые из этих людей «вспоминают» детали, противоречащие тому, что «вспоминают» другие участники. А зачастую (поскольку подобные воспоминания участников копятся уже не первое десятилетие) можно обнаружить, что воспоминания одного и того же человека, данные им в разное время, сильно разнятся.
Можно было бы предположить, что дело в цензуре (или самоцензуре), то есть что рассказы людей в 59 году не могли нести всей правды из опасений всемогущего КГБ и прочих подобных вещей, – а вот после распада СССР, в свободные 90-е и далее, люди уже могли рассказать всю правду… Увы, это предположение нас не спасает. Как быть с тем, когда оба рассказа, противоречащих друг другу (и данных одним и тем же человеком!), были даны уже после распада Союза, в «свободную» пору? Это никак не спишешь на «он боялся сказать правду из-за КГБ». Тем не менее, такое встречается. Воспоминания одного и того же участника поисков сильно разнятся между собой, – и еще сильнее они разнятся с тем, как его же показания были зафиксированы в материалах уголовного деле.
Ну и чему же, в таком случае, верить?
Кажется разумным взять за основу самые ранние показания, и отбросить те детали «воспоминаний», которыми воспоминания обросли позднее, как дно корабля ракушками.
И дело тут даже не в том, что человек сознательно привирает, чтобы получить больше внимания, – вовсе не обязательно. Дело, скорее всего, просто в том, что память сама по себе штука очень хитрая, ненадежная и обманчивая. За пятьдесят лет можно забыть, как же оно было на самом деле. А чужие слова, услышанные сорок лет назад, могли сплавиться с реальными воспоминаниями так, что уже и не разобрать, где что.
Самое неприятное открытие, которое нас подстерегает, состоит в том, что даже если отвлечься от воспоминаний, данных в необязательных интервью, а сосредоточиться только на показаниях людей, которые были даны непосредственно после поисков, официально в кабинете следователя, под роспись об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, – то даже эти показания у разных людей различаются! И порой кардинально! Показания в уголовном деле, данные разными участниками поисков – уже противоречат друг другу метами! И речь идет не только о деталях, которые люди пересказывали следователю с чужих слов. Но и в тех случаях, когда они говорят о том, что видели своими глазами.
Это, разумеется, не говорит о злонамеренности свидетелей, или о подложности дела. Увы, все куда естественнее – и хуже.
Если вы возьмете какое-нибудь реальное уголовное дело (не путать с детективным романом или постановочным судом в телевизионном шоу), такое, чтобы в нем было несколько свидетелей, и проводились их подробные опросы, – вы обнаружите, что это общее свойство уголовных дел. Во всех них свидетели будут сильно или не очень, но противоречить друг другу в деталях (если опрос достаточно подробный, и если это не показное судилище, где свидетели заучили свои «показания», написанные для всех сразу). Это такое свойство людей – видеть мир очень по-разному.
Такова особенность человеческой памяти и внимания. А точнее, невнимания к деталям. Очень часть мы лишь домысливаем что-то, – что в реальности упустили. И речь не о том, что мы домысливаем это через годы после давнего события, когда кто-то вдруг спросил нас о какой-то мелкой детали, – нет, речь именно о том, что у нас в голове сразу после события. Как только человек что-то увидел, он уже воспринял и оценил это на свой лад. Отличный от того, как это увидели и запомнили другие.
Даже если человека схватить за руку и попросить изложить все вот только что случившееся с ним, скажем, за последний час, – а потом сравнить это с видеосъемкой, которая велась все это время, то мы увидим множество неточностей в том, как человек будет описывать то, что происходило с ним и вокруг него за этот час. Даже если человек изо всех сил старался быть абсолютно честным и точным в деталях. Все равно что-то будет напутано, а что-то искажено. Особенно когда попросят вспомнить о таких деталях, которым человек не придал особого значения в момент, когда они происходили. Когда мы обращаемся к прошлому, мы постоянно додумываем – и неизбежно ошибаемся в чем-то – но принимаем этот результат работы нашего ума и памяти, со всеми их особенностями, за объективный отпечаток действительности. Увы, наша память таковым не является.
Это все следует иметь в виду, когда мы приступим к анализу документов дела, – а именно их, в свете всего изложенного выше, и следует считать наиболее достоверным источником фактов, какой у нас имеется.
Но, увы, и в этом источнике не все абсолютная истина. В нем есть противоречия. Большей частью, по всей видимости, несознательные – по причинам, только что объясненным. Но отчасти, видимо, и вполне сознательные (мы этого коснемся подробнее далее). Как бы то ни было, противоречия в материалах дела есть – надо отдавать себе в этом отчет, и рассматривать документы дела в целом, не выдергивая отдельные цитаты как доказательство какого-то факта. В другом месте может найтись цитата, опровергающая первую.
Именно поэтому в приложении книги материалы дела приводятся целиком.