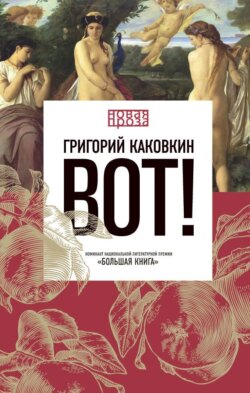Читать книгу Вот! - Григорий Каковкин - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Вот!
10
Оглавление– Оль, я больше не могу так! Все! – процедил сквозь зубы Филипп и отстранился от беззащитной обнаженной груди. Два коричневых съежившихся тонких соска, казалось бы уже изученные до мельчайших подробностей, смотрели на него, как неподвижные глаза большой куклы. Он повторил именно им, глухим, коричневым стражам ее девственности: – Не могу, Оля!
– Что? – в ответ прошептала она и снова прижала его к себе. – Ну что ты, маленький, мой маленький… что?
Наверху дернулась какая-то дверь, дерзко, по-мужски захлопнулась; они привычно замерли: лифт или лестница? Если начинал двигаться лифт, страх разоблачения отступал; если по лестнице стучали каблуки, Ольга прочнее прижимала Филиппа к себе, и они ждали, когда человек пройдет мимо застывшей у подоконника парочки.
Заскрипели колеса, плавно пошел вверх кабель, за мелкой сеткой пополз световой луч кабины…
– Больше не могу, – продолжал шептать Филипп в чуть озябшую грудную клетку. – Я хочу…
– Тоже! Но ты знаешь… ты все знаешь, мой маленький, ты… Если бы у нее был кто-то… мама отпускает нас только вдвоем. Папа… он вообще ходит злой, как будто его из табора выгнали, он бы нас вообще из дома не выпускал… Ой, какой он у тебя большой… он во мне не поместится?
Филипп сделал вид, что не расслышал в словах Ольги вопроса, а только удивление.
Приятно обожгло мужское нутро – заметила «его», назвала «большой», это точно лучше, чем маленький. Но девственник Филипп Решетников, скрывающий это от всех, не знал твердо: все ли такие, как у него, там, куда он так рвется, помещаются?
– Так же нельзя все время, – прошептал Филипп. – Придумай что-нибудь, у меня мать снова уезжает на две недели. Если мы и в этот раз просидим здесь… я не знаю…
– И я не знаю… Но все равно…
– Что все равно?!
– Это произойдет, потерпи… ты же меня любишь?
– Да.
– И я – да, но не могу здесь, я же… тут…
С Ольгой Поперси тут же соглашалась какая-нибудь перекосившаяся дверь с многооборотным гаражным замком…
Он напросился к Игорю Чуткову: «Дело есть!» Дело было странное, потому что у Филиппа Решетникова долго не находилось к нему слов, дело почти криминальное – надо было, как двум мафиози сферы влияния, разделить сестер Поперси. Разговор сразу, со слова «привет», набухал, как опухоль, Чутков и не собирался никого и ничего делить. Когда-то в школе он нервно повздыхал в сторону близнецов, возникла некая симпатия, но поскольку сестры не собирались становиться артистками, им было запрещено даже об этом думать, то и школьная симпатия растаяла, оставив, впрочем, крепкий дружеский след.
– Игорек! – несколько раз начинал Решетников. – Игорек! Знаешь, что жизнь – это театр, а мы все в нем актеры…
– Да! Это Шекспир сказал. И что?! Сейчас есть такая постановка в театре у Розовского…
– Игорь! Черт с ним, с Розовским! Черт с ним! Ты так и собираешься по театрам бегать?! Надо изучать марксизм, но без Ленина! Мы с тобой социологи… этот лысый извратил лохматого!
– Мне, честно говоря, что лысый, что лохматый… Первый курс закончится – буду снова поступать в ГИТИС.
– Актером хочешь быть?
– Посмотрим, посмотрим… – многозначительно ответил однокурсник.
– Не дури!
– Ладно, разберусь… Какое у тебя дело?
Филипп театрально вздохнул:
– На сто тыщ!
– Ну!
– Игорек! Игорь! Как ты относишься к сестрам…
– У меня нет сестер.
– Поперси?
– Не так, как ты!
– К Ольге и Елене.
– Никак.
Филипп Решетников и так знал, что Чутков «никак» не относится к ним, а после того вечера, когда Лена сказала ему, что он импотент, идиот, свихнувшейся на театре, того уже от фамилии Поперси передергивало.
– И это неправильно, – с намеком на только ему известную информацию произнес Решетников. – Ты понимаешь, это не-пра-виль-но. «Быть или не быть – вот в чем вопрос! Та-та-та… иль надо оказать сопротивление, умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук!» Ты понимаешь, Игорек: цепь сердечных мук! Я пришел к тебе, как парламентарий. Она сдается, она выбросила белый флаг. И ты на этом флаге можешь нарисовать красные узоры… красные узоры! Ты понял, Игорек? Красные узоры! Она готова. Она готова на все. Она хочет, я бы даже сказал – изнемогает! Я знаю!
– Откуда? – соблазняясь заговором, поинтересовался Чутков.
– От сестры…
– Ты знаешь, что она мне сказала тогда, когда…
– Знаю! – остановил друга Решетников. – Забудь! От любви до ненависти один… Ты сам такой! Я знаю, ты ее любил в школе. – Чутков попытался возразить. – Хорошо, не любил – она тебе нравилась! А потом «никак»! Никак! Игорь! Ты берешь Лену, я беру Ольгу, и мы… нет, не в шоколаде, а на шоколадной фабрике!
Сладкое производство возбудило подмороженного Мандельштамом и вообще широко охваченного мировой культурой Игоря Чуткова. Решетников объяснил: две недели есть свободная квартира, и она по первому требованию будет предоставлена и для него с Леной. Тогда уже не он с сестрой пойдет в театр, а они с Ольгой станут приобщаться к высокому искусству, приобщаться и радоваться за него, густо измазанного в шоколаде.
В то время квадратные метры были тесно связаны с первым сюжетом. Да не только с первым, квартирный вопрос вмешивался и захватывал самые разные территории живого человека.
Воплощение плана произошло не без коварства. Оказалось, что Ольга не может договориться с сестрой по простой и ясной схеме: «Мы – домой, а вы с Игорем – в театр».
– Почему?! – воскликнул Филипп в нетерпении. – Почему?!
– Какая разница? Не могу, и все! Мы пойдем вместе в театр, а перед входом я скажу, что… я не знаю что, но придумаю, и мы… поедем к тебе.
– Время! Время! Время уходит! – возмутился Решетников.
– Скажи Игорю, пусть выберет спектакль подлиннее.
«Легко сказать», – подумал Решетников, он-то знал, что Лена не готова для встреч с Чутковым, ничего не обещала, белых флагов с красными узорами не предвидится, и вот теперь он узнает, что даже в театр она не готова пойти ради сестры, согласной «на настоящую любовь».
Утро было слишком чудесным и длинным, чтобы что-либо делать. В ванной Филипп тер свое тело, как трут пол в казарме. Ему хотелось артикулировать по-французски, чтобы работали губы, и Решетников, погружаясь в пенную, мыльную воду, всплывал с каким-нибудь красивым по произношению выражением:
– Comprenez, jeune fille?
Еще погружение:
– Je ne mange pas six jours!
Всплытие:
– Мagnifiquement, merveilleux de vous, une femme merveilleuse!
С какой бы стороны Филипп ни смотрел на себя в небольшое зеркало здесь, в ванной, снизу доверху, ничто не предвещало и не могло дать осечки. Лицо, мускулы, волосатость кожи и, конечно, он – «большой»! Его собственное тело тогда еще не было осмыслено владельцем как нечто ценное, притягивающее или отталкивающее. Все казалось проще, его тело – ружье, из которого еще не стреляли. Но сегодня – Решетников был уверен – выстрел состоится. Все услышанное за жизнь о женской и мужской красоте, о женской слабости, мужской силе, все рассказы о блаженстве, неге, вся литература и живопись, наконец, приобретут для него твердую почву настоящей плотской любви. Захотелось написать об этом стихи; они, кажется, даже начали возникать. Филипп спешно вытерся, накинул халат и уже в комнате записал: «Ты придешь…» Потом задумался, обернулся на кровать, дописал: «Ко мне» – и вдруг понял, что она придет, а у него старое, застиранное постельное белье! Он побежал, боясь не успеть, в другую комнату, рылся в шкафу, выбрал лучший, на его взгляд, комплект белья и срочно перестелил кровать. Отошел на расстояние, как подлинный ценитель искусства возле картины, – накрахмаленное до жесткости ложе, розовые цветочки на зеленых веточках, взрыхленная подушка, но почему же одна? Их теперь должно быть две – для него и для нее! Решетников быстро нашел еще одну подушку и наволочку, а затем полил подготовленное ложе французскими духами, которые по ходу попались спрятанными в шкафу между стопками белья. Все готово…
Когда время наконец доползло до вечера, молодой Филипп Решетников еще раз осмотрел подготовленные апартаменты. Проверил спички и свечу, вспомнил о «Советском шампанском» в холодильнике и глазами наткнулся на икону, доставшуюся от прабабушки по отцовской линии – по семейным преданиям, любительницы мужчин, а попросту, честно сказать, бляди. Мать Филиппа, когда отец «задерживался на работе», часто поминала ее: «Твой папочка пошел в свою прабабку… прости меня грешную».
– Ну что, Анна Григорьевна, пожелай мне удачи, – произнес Решетников и перекрестил лоб, глядя на темный, нечитаемый лик в затертом окладе.
Перед театром толпился народ, лишний билетик спрашивали уже на выходе из метро.
«Молодец, Игорек, – подумал Решетников. – Не на какую-нибудь дрянь взял билеты»!
Сестры Поперси материализовались словно из воздуха, но обе с абсолютно постными лицами, отпечатанными под копирку, или, теперь об этом надо писать понятнее – предмет утерян в ходе научно-технической революции, – под копировальную бумагу. Решетникову стало ясно – объяснение состоялось, «наша сестра» знакома с пьесой и распределением в ней ролей. Только Чутков, зажигающийся от околотеатральной суеты, как бенгальский огонь, ничего не замечал, торопился, словно возможность войти в театр с билетами могли отнять, ему необходимо было быстрее оказаться внутри, сесть на свои места. Он сыпал именами актеров, режиссеров, драматургов, которые что-то говорили об этом выдающемся спектакле. Разумеется, он его видел еще в прошлом сезоне, на прогоне, перед закрытием, но теперь состоялось несколько замен, и все решительно менялось…
Его никто не слушал. Чутков даже не понял, почему Решетников продал два билета, почему за них чуть не подрались, почему Ольга попросила сестру купить две и ни в коем случае не выбрасывать программки. Почему Решетников похлопал его по плечу, он тоже не понял. Игорь смотрел на них, уходивших со спектакля, совсем без зависти, наоборот, с недоумением: «Дураки, на что променяли подлинное искусство, это же можно потом никогда не увидеть».
В метро не хотелось целоваться. Даже за руки друг друга взять не хотелось. Два тела ехали отдельно, скованные обманом, страхом и неизвестностью. Прислонились спинами к дверям, к которым во всем мире велено не прислоняться, даже не сказали ни слова, просто слушали стук колес и смотрели на извивающийся за стеклом кабель.
– Ты меня любишь? – с порога спросила Ольга, когда вошли в квартиру.
– Да, – ритуально ответил Филипп.
– Тогда не включай свет.
– Хорошо. Не включу.
– Пусть будет ночь, – загадочно произнесла она.
Уже через минуту глаза привыкли, и все стало видно почти как днем. Свет, идущий с улицы от фар проезжавших по двору автомобилей, рисовал причудливые тени на потолке, и розовые цветочки с зелеными листочками будто ползли по кровати, превращаясь в черные и серые.
Раздевались, как в синхронном плавании: он – рубашку, и она – рубашку, он – джинсы, и она – джинсы. Дошли до трусов – Ольга остановилась.
– Ты что? – спросил Филипп.
Ольга молчала. Он уверенно снял с себя новые белоснежные трусы и повторил вопрос. Она молчала. Они стояли возле кровати, он – у изголовья, она – в ногах.
– Ну!
Ольга Поперси опустила голову, но подняла глаза, рассматривая его поднятую вверх гордость.
– Ну…
Филипп сделал шаг навстречу, но Ольга его остановила тревожным шепотом:
– Я сама!
Аккуратные кружевные трусики, купленные Софьей Адамовной для дочерей на блошином рынке в Париже, свернулись в жгут, скатились с тонких ног и оказались на полу.