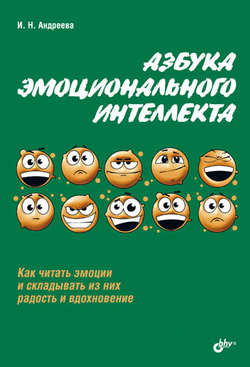Читать книгу Азбука эмоционального интеллекта - И. Н. Андреева - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
Единство эмоций и интеллекта в религиозных и философских учениях
ОглавлениеИдея единства эмоционального и рационального начала в человеке зародилась в философских и религиозных учениях. Истоки эмоциональной мудрости человечества мы находим в Библии, в Книге Притчей Соломоновых. Это изречения о роли интеллекта в процессе эмоциональной саморегуляции: «Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными мудрость» (Притч. 11: 2), «У глупого тотчас же выскажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбления» (Притч. 12: 16), «Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует» (Притч. 12: 18), «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (Притч. 15: 1); о значении контролируемости эмоций: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города» (Притч. 16: 32). В Книге Екклезиаста отмечается: «Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше» (Екк. 7:3).
Извечный вопрос: какое начало – разум или чувства – занимает главенствующее положение? Ветхий Завет свидетельствует о том, что центром духовной жизни человека является сердце. В нем сосредоточиваются все душевные переживания, добро и зло. Поэтому главным объектом воспитания являлась область чувств, помещаемая древними мудрецами именно в сердце: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч. 4: 23). Мудрость поселяется в сердце через насаждение в нем страха Божия. Правильнее видеть в этом не отрицательную эмоцию, принижающую человека до положения раба, а сложное чувство, включающее в себя и благоговейный страх к Богу, и сыновнюю любовь к Нему.
Этическим идеалом православия является жертвенная братская любовь – не только к своим близким, но и к врагам. Всем известны христианские заповеди о воспитании у потерпевшего любви и прощения: «Люби врагов своих», «Кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и другую». Чувство же мести является грехом, в котором необходимо каяться.
В православной традиции воспитание чувств имеет первостепенное значение для умственного развития: «Освободив свой ум от всех внешних вещей посредством хранения чувств и воображения, нужно вернуть его в сердце свое и непрестанно поучаться в Иисусовой молитве, склоняя и волю произносить молитву со всяким желанием и любовью. Плодом этого делания будет то, что ум со временем привыкнет пребывать в сердце, возненавидит чувственные похоти и представления и перестанет сочетаться с лукавыми и злыми мыслями» [93]. Ум понимается как способность различать истину. Это инструмент, который позволяет согласовывать жизненные земные задачи с вечным. В православном понимании разум, свободный от влияния сердца, лишен смысла и благодати.
Идея единства эмоций и интеллекта нашла косвенное отражение в фольклоре. В частности, русские пословицы характеризуют людей с различным уровнем интеллекта следующим образом: умного человека от глупца отличает беспричинность эмоций («Смех без причины – признак дурачины») и их неадекватность ситуации («Где умному горе, там глупому веселье», «Смеется, как дурак на похоронах», «Смешно дураку, что ухо на боку», «Когда дурак ворчит – умный молчит», «Дурак кричит – умный молчит»). Таким образом, эмоции глупого человека не опосредованы интеллектом, связь между аффектом и интеллектом здесь нарушена.
В русской религиозной философии высоко ценилась ориентация на других людей, готовность к сопереживанию. Такая способность сходна с понятием А. А. Ухтомского «доминанта в лице другого». Это понятие обсуждалось в контексте таких терминов как «принятие», «любовь», «приобщенность», «единство с другим» в трудах Н. А. Бердяева, А. Сурожского, С. П. Франка. Подобное отношение к другому человеку сводится прежде всего к эмоциональной отзывчивости.
Согласно представлениям современной православной педагогики и психологии процесс образования делится на три части: образование ума, образование воли и образование сердца. После грехопадения эти составляющие были повреждены: воля ослабела; ум исказился, утратил ясность, проницательность, быстроту; сердце стало жестким, неспособным к различению добра и зла. В связи с этим целью православного воспитания является восстановление истинной природы человека, всестороннее развитие его способностей.
Чувства и разум ребенка формируются под влиянием наставника, несущего в сердце своем любовь к ближнему. Православное воспитание учит, что обращение с детьми должно быть исполнено любви и кротости. Воспитатель должен уметь сдерживать свои отрицательные эмоции. Священное Писание говорит о том, что учить надо без раздражения, так как раздраженный учитель не наставляет, а раздражает.
Представления о значении эмоциональной стороны жизни в рамках христианства не были едиными. Например, католическое вероучение приписывало человеческому интеллекту большую ценность, чем православие. Католицизм воспитывает в пастве дисциплину воли и покорность внешнему церковному авторитету в вопросах добра и зла, греха и его допустимости. Задачей православия является пробуждение искренней любви к Богу через любовь к Христу. В православной традиции считается, что именно чувство любви является предпосылкой христианской воли и совести. Православный священник, следуя апостолу Павлу, стремится «споспешествовать радости» в сердцах людей, а не «брать власть над чужою волею» (2 Кор. 1: 24).
Нравственные идеалы протестантизма также отличаются от православных: во главе угла здесь стоит аскетизм, рационализм. Протестантское вероучение обещает спасение не подвижникам и альтруистам, а успешным в делах. Эмоции не способствуют успешности, поэтому они вытесняются из человеческой деятельности.
Спор о взаимоотношениях разума и сердца присутствует в теориях античных мыслителей. Сократ и Платон основали многовековую западную традицию, которая превозносит разум над эмоциями – взаимосвязи разума и эмоций представляют собой отношения господина и раба. В идеале просвещенный разум должен полностью контролировать разрушительное влияние эмоций.
Платон выделяет три вида чувствований: чувствования телесной природы, подобные зуду, который можно успокоить чесанием; чувствования, в которых участвуют как тело, так и душа, подобно тому, как мучительный голод успешно облегчается предвкушением еды; чувствования, образующиеся внутри самой души, вроде страстного стремления и любви. В тех чувствованиях, в которых участвуют и тело, и душа одновременно, соединяются рациональное и эмоциональное начала.
Значительный вклад в развитие представлений о связи познавательных и эмоциональных процессов внес Аристотель. В «Риторике» он рассматривает эмоции «как нечто, столь сильно преображающее человеческое состояние, что это отражается на его способности к рассуждениям, и сопровождается удовольствием и страданием» [63, с. 18].
Особое внимание древнегреческий ученый уделяет эмоциям гнева и страха. Они должны подчиняться рассудку и служить этическим целям. Эмоция гнева у Аристотеля не только естественная реакция на провокацию («презрение, игнорирование или наглость»), но и моральная сила, которая может контролироваться разумом. В «Никомаховой этике» он подробно рассматривает обстоятельства, при которых гнев уместен или, напротив, является неуместным, а также уточняет ту степень интенсивности гнева, которая является оправданной. «Рассердиться может каждый – это легко. Однако выразить гнев в отношении человека, который его заслуживает, в нужной мере, в соответствующее время, для достижения определенной цели и в соответствующей форме – это не легко», – в дальнейшем эти слова Аристотеля станут эпиграфом к бестселлеру Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект». По мнению философа, не только интеллектуальные оценки оказывают влияние на эмоции, но и эмоциональные состояния влияют на суждения. Так, он предостерегает: неэтично доводить судей до состояния гнева, поскольку в этом случае они могут вынести неправильные суждения. Для адаптации в обществе полезна умеренность в эмоциях, достигаемая посредством рассудка. В связи с этим Аристотель отмечает, что храбрость состоит не в преодолении страха, а в обладании должным его количеством: «человек должен иметь достаточно страха, чтобы не быть дураком, но не обладать неконтролируемым страхом труса» [63, с. 19].
Аристотелевское учение о тесной взаимосвязи эмоций и разума развили стоики. Однако они вернулись к прежнему мнению о том, что эмоции являются источником несчастий и ошибок. Даже слово pathos, которое обычно относят к страсти или эмоции, в контексте стоицизма является маркером какой-либо психопатологии. Стоики призывали людей сохранять «высший разум», подчеркивая бессмысленность эмоциональных привязанностей. Они считали, что бесстрастное и безразличное отношение к превратностям мира вознесет людей над суетой социальной действительности. Если Аристотель считал, что эмоции – результат правильной или неправильной интеллектуальной оценки ситуации, то стоики видели источник эмоций только в ошибочных суждениях.
Философия стоицизма оказывала влияние на европейскую культуру и искусство вплоть до XX века. Стоицизм как реакция на бесконтрольную жестокость войн, сопутствующих всей истории Европы, получил художественное воплощение в известной скульптурной композиции Огюста Родена «Граждане Кале». Здесь не просто изображена группа людей, идущих на казнь, но с тщательностью психолога запечатлены душевные переживания. Наиболее именитых горожан ожидает одинаковая судьба (публичное унижение и казнь ради спасения населения Кале), однако каждого из них переполняют различные эмоции, отражающиеся на их лицах, в позах и жестах. Шедевр Родена «Граждане Кале» олицетворяет современные психологические представления о том, что источником эмоций являются не сами события, а их оценка индивидуумом. Художник воплотил в своем произведении идею о том, что на выражение сильных эмоций влияют более или менее успешные попытки человека контролировать их.
На протяжении XIII–XIV столетий в рамках схоластического учения сохранялся принцип: «Нет ничего в интеллекте, чего не было бы сначала в чувствах».
Идеи античных ученых получили дальнейшее развитие в трудах мыслителей эпохи Просвещения. Р. Декарт в трактате «Страсти души» включил когнитивно-оценочный компонент аристотелевской теории эмоций в новый контекст. Эмоции в его понимании представляют собой особый тип страстей, тесно взаимосвязанных с высшими психическими процессами, которые он обозначил понятием «душа». Отношение Декарта к эмоциям двойственно. Он отмечает как их функциональные, так и дисфункциональные аспекты: «Польза страстей состоит единственно в их укреплении и поддержании в душе мыслей, которые для нее благотворно поддерживать и без коих эти мысли могли бы легко быть стертыми душой… Вред же состоит в том, что они поддерживают эти мысли более чем необходимо или же сохраняют другие, на которых лучше не задерживаться» [63, с. 21]. Ключом к регуляции эмоций является рассудок. Если эмоции могут подрывать человеческую способность к суждениям, то рассудок может направить страсти на служение человеческому «Я»: «Мыслю, следовательно, существую».
Другой деятель эпохи Просвещения Д. Юм усомнился в существовании самого рассудка. Из всех человеческих страстей наиболее гуманным он считает сострадание. Юм не противопоставляет сострадание рассудку и не возвышает рассудок над ним. Он утверждает, что сострадание сдерживает чрезмерный эгоцентрический интерес к себе.
Один из главных представителей философии Нового времени Б. Спиноза считает аффекты основной причиной «рабской несвободы» наших мыслей и действий. Человек становится свободным и рациональным, познавая необходимую связь вещей и тем самым освобождаясь от аффектов. Спиноза различает два типа эмоциональных явлений: страсть (passion) и эмоция (emotion). Страсть – это чувство по отношению к тому, о чем мы не имеем никакой ясной идеи, а эмоция – переживание, оформленное отчетливой идеей. Так называемый «слепой гнев» является проявлением страсти, тогда как любовь к ближнему – эмоцией. Реагировать со страстью означает реагировать несдержанно. Тот, кто действует, побуждаемый не разумом, а страстью, явно страдает беспорядочностью ума.
По мнению Ж.-Ж. Руссо, образование должно быть естественным и направляться эмоциями, а не сдерживаться жесткими рамками логики и рассудка. Взгляды Руссо послужили основанием для философского, литературного и художественного течения – романтизма. Он возник как реакция на формальный и безличный стиль предшествующих ему рациональных направлений в искусстве. В этот период западноевропейские поэты и прозаики (О. Бальзак, В. Гюго, И. Гете и др.) увлеченно изучали мир эмоций и природы. В музыке романтическое движение «возглавил» Л. Бетховен. Композиторы-романтики (Ф. Шопен, Ф. Шуберт, И. Брамс, Р. Вагнер, П. И. Чайковский) воспевали свободное возвращение к естественным формам драматической экспрессии. Они черпали вдохновение в фольклорных традициях и, используя большие оркестры и яркую инструментовку, пытались отразить богатство эмоциональных переживаний человека. В романтической философии и в представлениях современных экзистенциалистов эмоциональная сфера признается творческой и самобытной, а рассудок рассматривается как формализованная дань социальным нормам.
В восточных философских системах подчеркивается связь аффективных и интеллектуальных процессов с духовным ростом человека. В практике индийской йоги различают болезненные и безболезненные «волны сознания». Первые из них образуют мысли и эмоции, которые усиливают незнание, спутанность или зависимость, вторые ведут к свободе и к знанию. Самым большим препятствием к спокойствию являются такие болезненные «волны сознания», как гнев, желание и страх. Конечной целью йоги является преобразование положительных эмоций в трансцендентные[1] переживания. Под интеллектуальным развитием понимается не получение новой информации, а нахождение смысла в переживании («Не путай понимание с большим количеством новых слов», – говорят йоги).
Важной целью буддизма является самоконтроль эмоций. Он необходим для того, чтобы избавиться от власти переживаний и проявлять эмоции должным или адекватным образом. Самоконтролю способствует осознание эмоций и умение до конца их отреагировать. По мнению учителей дзен, если человек дает выход своему гневу, это должно быть подобно небольшому взрыву или удару грома. Только тогда чувство гнева переживается полностью, и впоследствии от него можно будет избавиться. Идеальным эмоциональным состоянием для буддиста является сострадание. Это переживание можно рассматривать как чувство единства со всеми остальными существами. Интеллект и рассуждения, по мнению буддистов, не позволяют человеку понять себя и окружающий мир. Интеллектуальное понимание углубляется и проясняется посредством медитации и повседневного служения людям. Например, человек, который лишь разглагольствует о сострадании, воспринимает его только как бессодержательную абстракцию.
Интеллект и эмоции в буддизме гармонично соединяются в четырех возвышенных состояниях ума. Это четыре качества сердца (мета, каруна, мудита и упеккха), которые, достигнув уровня совершенства, поднимают человека на высший духовный уровень.
Метта переводится на русский язык как «любящая доброта, всеобъемлющая любовь, доброжелательность, бессамостная всеобщая и безграничная любовь». Это качество имеет целью достижение счастья другими. Прямыми следствиями метта являются добродетель, свобода от раздражительности и возбужденности, мир внутри человека и в отношениях с окружающим миром. Следует развивать метта ко всем живым существам. Не нужно смешивать метта с чувственной и избирательной любовью, хотя это качество имеет много общего с любовью матери к ее единственному ребенку.
Каруна означает «сострадание». Это желание освободить других от страдания. Но сострадание отлично от жалости: ведь оно способствует великодушию и желанию помочь другим словом и действием. Каруна очень важна в «Учении Мудрости и Сострадания» Будды. Именно глубокое сострадание привело Будду к решению разъяснить Дхарму всем живым существам. Любовь и Сострадание – это два краеугольных камня практики Дхармы, поэтому буддизм иногда называют религией мира.
Мудита – это «сочувственная радость». Мы чувствуем ее, увидев или услышав о счастье и благополучии других. Это радость без малейшего оттенка зависти. Через сочувственную радость развиваются такие качества сердца, как счастье и нравственность.
Упеккха, или равностность, характеризует спокойное, устойчивое и стабильное состояние ума. Оно чаще всего проявляется при столкновении с несчастьем и неудачей. Некоторые люди с невозмутимостью и мужеством, без волнений и отчаяния встречают любую ситуацию. Спокойно и непредвзято они относятся одинаково ко всем, в любой ситуации, не испытывая ни сожаления, ни радости. Регулярное размышление над действиями и их результатами разрушает предвзятость и избирательность, приводя к осознанию того, что каждый человек является хозяином и наследником своих поступков. Так возникает понимание того, что хорошо и что плохо, что благотворно и что нет. В итоге действия человека становятся контролируемыми и ведут его к добру и мудрости.
С точки зрения суфизма, эмоции могут направлять сознание к познанию реальности или, наоборот, уводить от него. Аль-Газали вспоминает моменты блаженства и отчаяния, которые способствовали его собственному становлению. При этом важно осознавать свои собственные эмоции.
Развитой интеллект, по мнению сторонников суфизма, – это и сердце и голова; обобщенное понимание себя, мира, а также восприятие духовных знаний. Обычное знание может тормозить развитие интеллекта, если задача этого знания понимается неправильно. Чтобы выйти за пределы опыта и прийти к реальному знанию, необходимо постоянно перемежать интеллектуальные упражнения состояниями экстаза и мистических откровений.
Современные философы, вслед за мыслителями древности, подчеркивают актуальность проблемы эмоционального развития, связывая возможности ее решения с гармоничным взаимодействием сердца и разума, аффекта и интеллекта. Приведем в подтверждение этому несколько высказываний Ошо (Раджниша): «Чтобы интеллект преобразовать в разум, абсолютно необходимо открыть сначала свое сердце… Разум – это интеллект, настроенный в лад с вашим сердцем»; «Мудрость возникает от встречи сердца с интеллектом»; «Интеллект может привести сердце в то пространство, где случается переживание»; «Если узды правления в руках сердца, то лошадь интеллекта потрясающе красива» [86, с. 314, 316, 318].
Итак, существует множество общекультурных предпосылок представлений о единстве аффекта и интеллекта. В православии подчеркивается значимость воспитания «сердца», которое неразрывно взаимосвязано с умственным развитием. Ориентация на другого человека, «другодоминантность» признается важнейшей ценностью в русской религиозной философии.
К философским предпосылкам представлений об эмоциональном интеллекте можно отнести: идеи Аристотеля о взаимовлиянии когнитивных оценок и эмоций; суждение древнегреческих стоиков о том, что разум главенствует над эмоциями; воззрения деятелей эпохи Просвещения о взаимовлиянии когнитивных и эмоциональных процессов; идею европейского сентиментализма о существовании внутренних, чистых эмоциональных знаний; акцентирование эмоциональной экспрессии в искусстве представителями романтизма.
Предпосылки представлений об эмоциональном интеллекте содержатся в восточных философских учениях (йоге, буддизме, суфизме). В них акцентируется влияние эмоций на адекватность познания и значение интеллектуального контроля эмоций для духовного роста человека.
Отличались ли чувства людей, живущих многие столетия тому назад, от переживаний современного человека? Сей Сенагон, фрейлина японского императорского двора в X веке н. э., в своем произведении «Записки у изголовья» указывает на причины различных эмоций. Приведем некоторые из них.
То, что наводит уныние:
Собака, которая воет посреди белого дня.
Комната для родов, где умер ребенок.
Жаровня или очаг без огня.
Досадно, если к письму из провинции не приложен гостинец. Казалось бы, в этом случае не должно радовать и письмо из столицы, но зато оно всегда богато новостями. Узнаешь из него, что творится в большом свете.
Ожидаешь всю ночь. Уже брезжит рассвет, как вдруг – тихий стук в ворота. Сердце твое забилось сильнее, посылаешь людей к воротам узнать, кто пожаловал.
Но называет свое имя не тот, кого ждешь, а другой человек, совершенно тебе безразличный. Нечего и говорить, какая тоска сжимает тогда сердце!
То, что радует сердце:
Сердце радуется, когда пишешь на белой и чистой бумаге из Митиноку такой тонкой-тонкой кистью, что, кажется, следов не оставит.
Во время игры в кости много раз подряд выпадают счастливые очки. Глоток воды посреди ночи, когда очнешься от сна.
То, что радует:
Кончишь первый том еще не читанного романа. Сил нет, как хочется достать продолжение, и вдруг увидишь следующий том.
Заболел человек, дорогой твоему сердцу. Тебя терзает тревога, даже когда он живет тут, в столице. Что же ты почувствуешь, если он где-нибудь в дальнем краю? Вдруг приходит известие и его выздоровлении – огромная радость!
Люди хвалят того, кого ты любишь. Высокопоставленные лица находят его безупречным. Это так приятно! [104, с. 640–642].