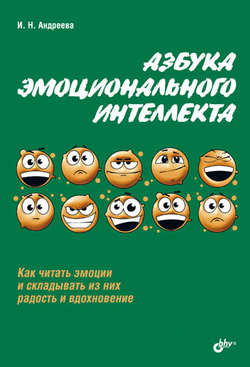Читать книгу Азбука эмоционального интеллекта - И. Н. Андреева - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
Современное понимание эмоционального интеллекта (ЭИ). Структура ЭИ в различных его моделях
Классификация зарубежных моделей эмоционального интеллекта
ОглавлениеВозникновение моделей эмоционального интеллекта закономерно привело к необходимости их классификации. Заслуживают внимания две попытки такого рода.
Мейер, Сэловей и Д. Карузо предложили различать модели способностей и смешанные модели. К первому типу относится их собственная модель, определяющая ЭИ как когнитивную способность. Ко второму – модели, трактующие эмоциональный интеллект как сочетание когнитивных способностей и личностных характеристик (модели эмоционального интеллекта Гоулмана, Бар-Она, Р. Купера).
Модели способностей предполагают измерение ЭИ при помощи тестов, состоящих из заданий с правильными и неправильными ответами (например, MEIS и более современная методика MSCEIT), смешанные модели – с помощью опросников, подобных традиционным, и основанных на самоотчете (прил. 1).
Несколько иную, возможно, более широкую классификацию предложили К. В. Петридес и Э. Фернхем, которые рассматривают ЭИ как способность к обработке эмоциональной информации (ability EI, information-processing EI, «cognitive-emotional ability») и ЭИ как черту личности (trait EI, «emotional self-effcacy») – «эмоциональную самоэффективность». Эмоциональная самоэффективность определена ими как «убежденность личности в том, что она обладает эмпатией и ассертивностью… а также элементами социального интеллекта… персонального интеллекта… и ЭИ-способности» [171, р. 427]. Иными словами, ЭИ-черта личности представляет собой «созвездие» взаимосвязанных с эмоциональной сферой самоосознаваемых способностей и диспозиций, расположенных на нижнем уровне иерархии личности. Индивиды с высоким уровнем оценок по ЭИ-черте уверены, что они находятся в контакте со своими эмоциями и могут эффективно регулировать их. Мейер, Роберте и Барсейд обращают внимание на семантическую неточность подобной классификации: черта личности (trait) рассматривается как отличительная особенность или как унаследованная характеристика. Следовательно, подобный термин может быть применен не только к ЭИ в смешанных моделях, но и в рамках модели способностей [161].
Характер модели определяется не столько теорией, сколько используемыми методами измерения конструкта, утверждают Петридес и Фернхем. Эмоциональный интеллект как черта связан с оценкой устойчивости поведения в различных ситуациях, поэтому для его измерения могут применяться опросники. Элемент интеллекта как способность относят к традиционной психологии, поэтому для его измерения наиболее оптимальны задачи, подобные задачам интеллектуальных тестов.
Четкое разграничение понимания эмоционального интеллекта в рамках модели способностей и смешанных моделей потребовало уточнения ряда понятий. С этой целью было введено понятие «стилистический эмоциональный интеллект», которым обозначается персональный стиль, отражающий проявления эмоционального интеллекта, включая, возможно, такие его атрибуты, как общительность, сердечность и уверенность в себе. Комбинация эмоционального интеллекта и социальной эффективности получила название социоэмоциональная эффективность. Под социоэмоционалъной эффективностью понимается индивидуальная способность эффективно продвигаться в социальном мире к достижению поставленных целей. Данная способность не основывается только на интеллекте. К ней также относятся привлекательность и уверенность в себе, эффективные стратегии помогающего поведения в сложных ситуациях, независимость в решении эмоциональных проблем.
В смешанных моделях ЭИ широко используется термин «некогнитивные способности», однако данный концепт до сих пор не был определен. Мейер и Дж. Сайароччи предложили вернуться к векслеровской идее неинтеллектуальных черт и интегрировать его идеи в следующем определении: некогнитивные способности – это «мотивационные и эмоциональные качества или черты, которые содействуют эффективному поведению» [160, р. 265].
Модель Д. В. Люсина
Российский исследователь Д. В. Люсин, отталкиваясь от существующих концепций, предлагает собственную модель ЭИ. Эмоциональный интеллект понимается им как способность к пониманию своих и чужих эмоций и к управлению ими. Способность к пониманию эмоций означает, что человек:
> может распознать эмоцию, т. е. установить факт наличия эмоционального переживания у себя или у другого;
> способен идентифицировать эмоцию, т. е. понять, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой, и найти для нее словесное выражение;
> понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она приведет.
Способность ^управлению эмоциями означает, что человек:
> может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего приглушать довольно сильные из них;
> контролирует внешнее выражение эмоций;
> может при необходимости вызвать ту или иную эмоцию.
Поскольку и способность к пониманию эмоций, и способность к управлению эмоциями может быть направлена как на собственные эмоции, так и на эмоции других людей, представляется возможным говорить о внутриличностном и межличностном эмоциональном интеллекте, которые хотя и предполагают актуализацию различных когнитивных процессов, но должны быть взаимосвязаны [71].
Люсин выступает против того, чтобы трактовать ЭИ как чисто когнитивную способность по аналогии с пространственным или вербальным интеллектом. По его мнению, способности к пониманию эмоций и управлению ими находятся в тесной взаимосвязи с общей направленностью личности на эмоциональную сферу, т. е. с интересом к внутреннему миру людей (и к своему собственному), склонностью к психологическому анализу поведения, с ценностями, приписываемыми эмоциональным переживаниям. В соответствии с этим эмоциональный интеллект можно представить как конструкт, имеющий двойственную природу. С одной стороны, он связан с когнитивными способностями, а с другой – с личностными характеристиками.
Модель М. А. Манойловой
Эмоциональный интеллект, по мнению М. А. Манойловой, – это «способность человека к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств других людей и себя самого» [73, с. 17]. В соответствии с представлениями Л. В. Веккера о единстве познания, чувств и воли в едином психическом акте, она рассматривает эмоциональный интеллект как совокупность программ-«регуляторов» и «мотиваторов» деятельности и общения, отвечающих за понимание себя и других людей, саморегуляцию и социальное поведение личности. Манойлова полагает, что ЭИ – это интегративное понятие, включающее в себя интеллект, эмоции и волю. При этом воля в ЭИ выступает как средство подчинения эмоционального интеллектуальному. Исследовательница выделяет в структуре эмоционального интеллекта два аспекта: внутриличностный и межличностный, или социальный (способность управлять собой и способность управлять отношениями с людьми). Первый аспект включает: осознание своих чувств, самооценку, уверенность в себе, ответственность, терпимость, самоконтроль, активность, гибкость, заинтересованность, открытость новому опыту, мотивацию достижения, оптимизм. Во второй аспект входят: коммуникативность, открытость, эмпатия, способность учитывать и развивать интересы другого человека, уважение к людям, способность адекватно оценивать и прогнозировать межличностные отношения, умение работать в команде. В качестве основных характеристик ЭИ выделяются эмпатия, толерантность, ассертивность и самооценка.
Модель Э. Л. Носенко и Н. В. Ковриги
Э. Л. Носенко предлагает считать признаками эмоционального интеллекта составляющие «Большой Пятерки»[10]: добросовестность, открытость новому опыту, эмоциональную устойчивость, дружелюбность, экстраверсию [82]. Основанием для такого подхода явилось то, что эти качества, как и эмоциональный интеллект, необходимы для успешной жизнедеятельности и отражают определенные характеристики эмоциональности как устойчивой черты индивидуальности. Так, открытость новому опыту, которая предполагает и толерантность к ситуациям неопределенности, с одной стороны, способствует стрессоустойчивости, а с другой – является признаком и предпосылкой креативности. Эта черта в какой-то мере характеризует потребности человека, готовность к взаимодействию с окружающим миром, и в целом – мотивационную решимость к активной деятельности. Добросовестность свидетельствует о способности достигать цели. Эмоциональная устойчивость обеспечивает умение преодолевать трудности, не поддаваясь фрустрации при их возникновении. Дружелюбность является одним из признаков умения сдерживать свои эмоции в общении с другими людьми, воспринимать их такими, какие они есть, что свидетельствует о наличии межличностного или социального интеллекта. Экстраверсия – предпосылка общительности, которая также принадлежит к признакам межличностного интеллекта. Первые три фактора, по мнению автора, отражают внутриличностный эмоциональный интеллект, последние два – межличностный.
В результате проведенного эмпирического исследования [83] были сделаны следующие уточнения в характеристике рассматриваемых признаков: добросовестность является фактором внутри-личностного ЭИ; доброжелательность – межличностного; эмоциональная устойчивость и открытость новому опыту способствуют формированию и выявлению как межличностного, так и внутри-личностного эмоционального интеллекта.
Под внутриличностным ЭИ авторы модели понимают способность самоорганизовываться на деятельность, достигая определенного «экологического мастерства», умения упорядочивать, изменять окружающую среду для достижения собственной пользы. Под межличностным ЭИ – способность человека взаимодействовать с окружающими, устанавливать благоприятные взаимоотношения с ними.
Эмпирические результаты позволили авторам сделать вывод о том, что проявление эмоционального интеллекта опосредовано внутренними особенностями личности. В качестве гипотетических компонентов ЭИ Носенко и Коврига определили: пять факторов «Большой Пятерки»; показатели уровня тревожности – ситуативной и личностной; показатели уровня самооценки, толерантности к неопределенности, уровня академической успеваемости и характеристики преимуществ, которые испытуемые отнесли к различным стратегиям помогающего поведения. При этом признаки ЭИ были разделены на следующие группы:
> онтологические опосредующие внутренние признаки (факторы «Большой Пятерки»);
> феноменологические внутренние признаки (показатели эго-контроля и эго-пластичности; уровень толерантности к неопределенности);
> признаки сензитивности субъектов к эмоциогенным раздражителям (показатели уровня самооценки, психологического благополучия, ситуативной и личностной тревожности);
> признаки субъективного переживания успешности собственной жизнедеятельности (показатели самооценки эффективности стратегий помогающего поведения).
Внешние аспекты проявления эмоционального интеллекта также имеют уровневую структуру. Феноменологический компонент внешнего, или внутренний компонент внешнего, отражает характер мотивации деятельности (внутренняя или внешняя), характер контроля (интернальный или экстернальный) и характер выбора актов поведения (с широкими возможностями, не дифференцированными субъектами; с возможностями для себя; с возможными альтернативами поведения). На уровне анализа внешних процессов эмоционального интеллекта в качестве его основной структурной единицы рассматривается эмоциональный процесс (количественные или качественные характеристики; знак основной эмоции, которая его сопровождает; модальность, конгруэнтность/ неконгруэнтность модальности эмоционального процесса ситуативным раздражителям).
В результате эмпирического исследования Носенко и Ковриге удалось описать иерархическую структуру уровней сформированности эмоционального интеллекта, которая определяется в зависимости от характера его внутренних опосредующих компонентов.
Наиболее низкому уровню сформированности ЭИ соответствуют: осуществление эмоционального реагирования по механизму условного рефлекса (реактивный акт); инициирование активности на сенсорно-перцептивном уровне; осуществление активности с преобладанием внешних компонентов над внутренними, на низком уровне ее осознания, при низком проявлении самоконтроля, с высокой ситуативной обусловленностью.
Для среднего уровня ЭИ характерно произвольное осуществление внешней активности (деятельности, общения) на основе представлений (мышления) и с совершением волевых усилий, что определенным образом отражается в сознании на уровне переживаний; преобладание внутреннего над внешним; высокий уровень самоконтроля; объединение стратегии концентрации на задаче со стратегией эмоционального реагирования, с ощущением психологического благополучия, позитивного отношения к себе как субъекту жизнедеятельности и взаимодействия. Данный уровень предполагает высокую самооценку субъекта, что может рассматриваться как специфическое осознание собственного эмоционального интеллекта.
Наиболее высокий уровень эмоционального интеллекта соответствует высокоразвитому внутренне человеку. Он основывается на наличии у субъекта соответствующих установок, отражающих его индивидуальную систему ценностей в отношении возможных для него альтернатив поведения в конкретных ситуациях. Для данного уровня развития ЭИ характерно гармоничное сочетание внутреннего и внешнего. Человек чувствует себя освобожденным от требований ситуации. Выбор поведения, адекватного ситуации, осуществляется им без чрезмерных волевых усилий, так как отражает систему социальных привычек, сформированных под влиянием убеждений на уровне сознания. Мотивация такого поведения осуществляется субъектом не извне, а изнутри. Достаточный уровень самоконтроля с интернальным локусом[11] способствует тому, что человек во внешнем поведении проявляет умеренный уровень сензитивности к возможным эмоциональным раздражителям и интенсивности реагирования на них. Самооценка при таком уровне высока. Человек ощущает достаточно высокий уровень психологического благополучия. В этом, по мнению Носенко и Ковриги, проявляются стрессозащитная и адаптивная функции эмоционального интеллекта.
Индивид с высоким уровнем ЭИ ощущает определенную независимость от ситуации в выборе стратегий совладающего поведения, различные формы которого представлены у него равномерно, с преобладанием наиболее продуктивной из них – концентрации на задаче.
Установлено, что различия в уровнях сформированности эмоционального интеллекта наиболее контрастно проявляются в отношении человека к себе как субъекту жизнедеятельности. Второе место в этой своеобразной иерархии занимают различия, проявляющиеся у него по отношению к другим людям. И наконец, наименее существенные различия обнаруживаются в отношении к миру и оценкам внешних событий.
Проблема множественности моделей эмоционального интеллекта
Слабостью или силой является такая множественность определений и измерений эмоционального интеллекта? Анализ настоящего уровня исследований интеллекта, по мнению М. А. Холодной, свидетельствует о сложившейся кризисной ситуации, которую она очерчивает двумя словами: «Интеллект исчез» [116, с. 121]. Ставится под сомнение существование термина «интеллект» в статусе психологической категории по причине его абстрактности и неопределенности. Можно предположить, что большое количество моделей и различных подходов к измерению эмоционального интеллекта приводит его также к «исчезновению».
По мнению Р. Д. Робертса, Дж. Мэттьюса, М. Зайднера, Д. В. Люсина, теоретическим рассуждениям об ЭИ не хватает четкости формулировок. При этом даже строго сформулированные теории склонны описывать функции, а не процессы. Так, утверждение того, что восприятие эмоций – компонент эмоционального интеллекта, является обозначением функции без указания на какие-либо процессы, ее обеспечивающие. Вопросы, связанные с уровнями переработки информации, в рамках существующих теорий пока не поднимались [95]. «Исчезновению» эмоционального интеллекта способствуют также различия в его структурной организации, которая «определяется особенностями состава и строения когнитивных психических структур, обеспечивающих специфический тип репрезентации происходящего в индивидуальном сознании и, в конечном счете, предопределяющих эмпирически констатируемые интеллектуальные свойства» [116, с. 125].
В каждом из подходов к определению ЭИ предлагаются различные варианты его измерения, основанные на различных представленнях о данном феномене. Как отмечает В. Н. Дружинин, при изменении процедуры измерения конструкта изменяется и его содержание [46]. Поэтому неудивительно, что результаты измерения эмоционального интеллекта – способности и ЭИ – совокупности личностных черт образуют низкую корреляцию. Возникает закономерный вопрос: на чем основана уверенность исследователей в том, что измеряются аспекты одного и того же феномена? Гоулман и Р. Эммерлинг признаются: при наличии точки зрения о том, что эмоциональный интеллект – это созвездие личностных черт и способностей, доказательства этого не ясны [139]. Но в то же время они констатируют, что существование нескольких теоретических позиций внутри парадигмы эмоционального интеллекта – это скорее сила, нежели слабость. Отмечается, что альтернативные теории традиционного интеллекта в свое время способствовали обсуждению проблем в этой области; углублению знания и расширению практического применения измерений интеллекта (однако при этом возникает вопрос: не множественность ли теорий интеллекта привела к абстрактности и, в конечном итоге, «исчезновению» этого феномена?). По мнению Гоулмана и Эммерлинга, множественные теории позволяют пролить свет на дополнительные аспекты этого комплексного психологического конструкта.
В определенной мере с подобной позицией соглашается Дж. Эйврилл [127]. В связи с полумифичностью, неопределенностью феноменов он характеризует ЭИ и эмоциональную креативность как двух «снарков»[12]. Однако такая характеристика не означает, что на изучении этих феноменов следует «поставить точку». Исследователь считает, что периоды обоснованной неопределенности необходимы в истории любой науки. Преждевременное прекращение обсуждения проблемы эмоционального интеллекта способно помешать появлению плодотворных результатов в его исследовании. По мнению Эйврилла, нужно использовать преимущества коллективной мудрости, не пренебрегать ими.
При всем разнообразии подходов к столь сложному и неоднозначному феномену, как эмоциональный интеллект, в каждом из них можно обнаружить «рациональные зерна». По этой причине обратим внимание не столько на недостатки каждой из моделей, сколько на те идеи, которые могут способствовать дальнейшему развитию теории и практики эмоционального интеллекта.
Несомненной заслугой Гоулмана является стимулирование людей к развитию личностных качеств, способствующих достижению успехов в тех или иных сферах деятельности. Тем не менее эмоциональный интеллект в его концепции «исчезает» в силу семантической и структурной неопределенности понятия. Очевидно, что среди структурных компонентов эмоционального интеллекта, выделяемых Гоулманом, можно обнаружить не только эмоциональные способности, но и волевые качества, характеристики самосознания, социальные умения и навык. Не случайно мы встречаем в его работах отождествление эмоционального интеллекта с характером: «Существует старомодное слово для основной части умений, которые символизирует эмоциональный интеллект: характер» [145, р. 285]. Между тем обоснованное определение характера включает далеко не только эмоции, интеллект или их комбинацию.
Модель Бар-Она содержит косвенное указание на важнейшие функции эмоционального интеллекта: познавательную (познание себя и окружающих), адаптивную, стрессозащитную. Вместе с тем эмоциональный интеллект здесь «исчезает» по причине его расширительного толкования и из-за отсутствия эмпирического подтверждения модели.
Смешанные модели превращают эмоциональный интеллект в феномен популярной психологии, призывающей не столько к развитию ЭИ, который с данной точки зрения остается полумифическим, неопределенным понятием, сколько к развитию различных личностных характеристик, якобы способствующих успеху. Однако личностных качеств, однозначно гарантирующих успех во всех сферах деятельности, просто не существует. Каждый тип успеха, будь то академические достижения, счастливый брак или хорошая работа, является продуктом определенных, тех, а не иных качеств. Ответ на вопрос о том, какие черты несут в себе позитив, зависит от того, когда и где они находят применение. Например, такие оптимистические заявления как «Не беспокойся, ты сможешь это преодолеть!» могут способствовать более успешной работе, но звучат откровенно жестоко у постели тяжелобольного человека. Кажущееся негативным выражение гнева порой необходимо для того, чтобы оградить от опасности ребенка или заставить ленивого и самодовольного человека работать (в данных примерах гнев – позитивный фактор, так как направлен на достижение положительного результата).
Вслед за сторонниками смешанных моделей нельзя однозначно утверждать, что, чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем более человек оптимистичен и счастлив. Взаимосвязи между ЭИ, с одной стороны, и оптимизмом и самоуважением, с другой, не являются сильными. Этому есть несколько причин. Во-первых, высокий уровень эмоционального интеллекта не всегда ценится в обществе, поэтому его обладатели могут иметь значительный опыт фрустрации. Во-вторых, счастье может и не являться самоцелью человека с высоким уровнем ЭИ. Такие люди могут по своей воле принимать на себя трудные в эмоциональном отношении роли – спасатель, социальный работник, психолог, врач – потому что они хотят сделать мир лучше. В-третьих, работа над эмоциями и самосовершенствование в этой области, как и другие личностные изменения, требуют длительного времени. Позитивные перемены, к которым может привести развитие эмоционального интеллекта, могут оставаться незаметными вплоть до среднего и даже пожилого возраста. К тому же не следует рассматривать оптимизм и пессимизм в излишне обобщенных ценностных категориях: слишком большая степень выраженности каждого из указанных качеств является дисфункциональной. Так, одинаково нерационально и неэффективно оптимистически пытаться «пробить головой стену» и пессимистически не быть способным «пройти в открытую дверь» [33].
Тем не менее подход к эмоциональному интеллекту сторонников его смешанных моделей позволяет рассматривать его не только как чисто когнитивную способность, но и как личностную характеристику, заставляет задуматься о его месте в структуре индивидуальности.
На наш взгляд, стоит согласиться с Бреславом, который полагает, что наиболее убедительно выглядит модель Мейера, Сэловея и Карузо, в которой обозначены две основные социальные функции эмоциональной сферы – регуляторно-эмпатийная и регуляторно-экспрессивная – и два вида саморегуляции – на уровне познания и мотивации поведения [14]. Однако эмоциональный интеллект отчасти «исчезает» и в этой модели, поскольку, хотя здесь и определены такие базовые свойства интеллекта, как уровневые и регуляторные, но не выделены комбинаторные свойства, характеризующие способность комбинировать в различных сочетаниях компоненты опыта, и процессуальные свойства, характеризующие операциональный состав, приемы и стратегии интеллектуальной деятельности вплоть до уровня элементарных информационных процессов.
Концепция Люсина представляется достаточно конкретной в плане выделения компонентов ЭИ, однако и здесь пока еще интеллект «исчезает», требуя уточнения определения и дальнейшего эмпирического обоснования модели. Так, если эмоциональный интеллект это не интеллектуальная способность (он только связан с когнитивными способностями) и не совокупность личностных характеристик, тогда возникает вопрос о том, к какой группе психологических явлений его можно отнести, где его место в структуре личности.
В модели Манойловой заслуживают внимания указания на ин-тегративный характер эмоционального интеллекта, его взаимосвязи с мотивацией и волей. При этом часть и целое меняются местами: неэмоциональный интеллект рассматривается как компонент социального интеллекта, а наоборот, социальный интеллект превращается в межличностный компонент ЭИ. Определение эмоционального интеллекта выглядит неоправданно расширенным, включая в себя ряд личностных характеристик, хотя и взаимосвязанных с ЭИ, но не имеющих к нему прямого отношения.
Подход Носенко и Ковриги, по нашему мнению, испытывает влияние смешанных моделей эмоционального интеллекта, поскольку ЭИ включает и способности, и личностные характеристики, способствующие успеху в жизни. Можно сказать, что успешная жизнедеятельность является здесь той «лакмусовой бумажкой», которая определяет принадлежность тех или иных качеств к эмоциональному интеллекту. Следует согласиться с тем, что компоненты «Большой Пятерки» действительно соотносятся с межличностным и внутриличностным интеллектом, но интеллектом социальным. Вместе с тем заслуживает внимания выделение двух основных функций эмоционального интеллекта – адаптивной и стрессозащитной.
Ряд проблем в изучении эмоционального интеллекта выделяет М. Зайднер. Во-первых, нет единого определения и концептуализации эмоционального интеллекта. Не ясно, является ли ЭИ когнитивной или некогнитивной характеристикой, имеет он отношение к эксплицитным или имплицитным знаниям об эмоциях, является ли он общей способностью или обусловливает адаптацию к специфической социальной и культурной атмосфере. Во-вторых, неясно, как эмоциональный интеллект может быть наилучшим образом измерен (его оценки, полученные при использовании объективных тестов и опросников, образуют низкую корреляцию). Результаты объективных тестов умеренно взаимосвязаны как с общим интеллектом, так и с личностными аспектами. Параметры, измеряемые при помощи самооценочных шкал ЭИ, во многом перекрывают или даже дублируют существующие личностные конструкты, но независимы от традиционного интеллекта. По мнению Д. В. Ушакова, «слабые корреляции опросников и задачных тестов между собой, различие их корреляций с внешними мерами заставляют предположить, что они оценивают как минимум две разные способности» [112, с. 22]. В-третьих, практическое применение EI-тестов ограничено их концептуальной и психометрической недостаточностью. Развивающие программы страдают отсутствием ясного теоретического и методологического обоснования и часто представляют собой набор разносортных техник, психологическая эффективность которых остается невыясненной.
Отвечая на критические замечания, касающиеся исследований эмоционального интеллекта, Мейер, Сэловей и Карузо обобщают их следующим образом. Во-первых, значительная доля критики направлена на наивную популяризацию понятия, особенно на безответственные заявления в популярных изданиях. Эти критические замечания не имеют отношения к научной теории ЭИ. Популярные теории глубоко укоренились в психологической литературе, и Мейер, Сэловей и Карузо выступают против тех из них, которые являются безосновательными.
Во-вторых, критике подвергаются инструменты для измерения эмоционального интеллекта, опирающиеся на его самооценку, в противоположность измерению ЭИ как способности. Некоторые тесты, основанные на самоотчете, пригодны для измерения самооценки ЭИ, но не для измерения фактического эмоционального интеллекта – способности. Другие самооценочные шкалы измеряют то, что более эффективно можно было бы оценить при помощи иных личностных тестов. С этой позицией критиков авторы неоднократно выражали согласие.
В-третьих, исследования в сфере эмоционального интеллекта постоянно расширяются. В то же время публикации, их освещающие, появляются позже. Порой критика связана с тем, что из-за этого «отставания» ее авторы не знакомы с последними статьями или не полностью интегрировали новые работы в комментарии.
В-четвертых, критика связана с теми или иными специфическими особенностями используемых тестов и с возможностями оптимизации исследования. Это, по мнению авторов, разумная критика, которая способствует дальнейшему развитию модели эмоциональных способностей и усовершенствованию MSCEIT. В целом конструктивная критика исследовательской работы должна проводиться в контексте вопросов: «Как много сделано?» и «В чем заключается научная новизна полученных результатов?»
Множественность теорий эмоционального интеллекта нормальна для «детского возраста» этого феномена, однако следующий этап в его исследовании, назовем его «подростковый возраст», требует большей определенности в выборе ориентации. На наш взгляд, необходимым шагом в развитии теории эмоционального интеллекта в настоящий момент является уточнение структуры данного феномена и включение ее в систему личностных характеристик. С одной стороны, необходимо определить, что относится собственно к интеллекту, с другой – требуется выделить те личностные характеристики, которые детерминированы ментальными способностями эмоционального интеллекта.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу