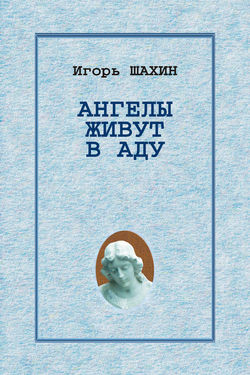Читать книгу Ангелы живут в аду - Игорь Шахин - Страница 8
Сюрпляс
Роман
7. Кузнецов и Яровой
ОглавлениеСравнение нашлось индифферентное и, пожалуй, не показывающее моего отношения к тому, чем занимается Яровой. Мне эти его дела и противны, и безразличны, и любопытны. Когда перед глазами встает моя бедная Наталья – все безразлично. Когда вспоминаю этого жлоба из рыбнадзора Ефимова, становится любопытно: а как тот орудует ножом? Когда же вспоминаю эту наглую и трусоватую пьянь, валяющуюся на берегу в песке, окурках и собственной блевотине, становится противно, до тошноты, словно выглотал насильно несколько литров теплой кипяченой воды.
Впрочем, у меня нет намерения в своих объяснениях рассыпаться бисером перед кем бы то ни было. С тех пор, как в моей семье поселилась смерть, единственным мерилом нравственности моих поступков стали жена и сын… А если говорить о сравнении, которое пришло мне в голову в тот момент, когда Ярый одним длинным движением острейшего ножа вспорол осетру живот, то он словно бы расстегнул пластмассовую молнию спортивной куртки, такой был звук.
И я увидел икру. В первый раз – именно вот так, со стороны, спустя много лет после того, когда сам вот так же вспарывал. В детстве мы не знали, что осетр – это древнейший из жителей планеты, что мы соприкасались почти что с вечностью, истребляли ее частицы. Впрочем, истребляли, чтобы жить, а не делать на этом капитал.
Мать рассказывала, как я годовалым ребенком ползал по столу, искал пальчиком крошки хлеба или картошки и бережно отправлял их в рот. Это было единственной моей игрой в то время. Отец, инструктор райкома партии, пропадавший сутками на строительстве поливных каналов для тогда еще солончаковых полей, пришел как-то рано и застал меня за этим занятием, долго смотрел в пол, чем напугал мать, а затем пошел к отцу Ярового и поехал с ним на ночную рыбалку… Может быть, именно с той поры меня подташнивает даже от одного вида черной икры. Я объелся и чуть не умер.
Больше отец на рыбалку не ездил, но мать Ярового с того раза стала частенько к нам забегать и всегда подсовывала кусок вареного судака или пирог с рыбой и капустой. Наши матери подружились, поэтому, наверное, и мы, дети, почти не расставались. Уже будучи подростком, в который раз выслушивая историю о поисках крошек, я задумывался над тем, почему отец в тот голодный сорок восьмой год пошел к отцу Ярового, а не к Звонаревым или Черепановым? Все Яровые – и отец, и его братья, и его старшие сыновья – слыли отчаянными хулиганами: чуть что, они затевали потасовку с любыми, как считали они, обидчиками. Сестры Яровые хулиганили словами и ногтями… Вспыльчивость – их семейная черта. И хотя они и промышляли красной рыбой, но, как рассуждали поселковые, «ни кола, ни двора» у них не было.
А Звонаревы и Черепановы жили в достатке. Почему бы отцу не пойти к ним? Да и воевали они с моим отцом в одной, кажется, авиационной части. Во всяком случае, Черепанов-старший как-то на рыбалке на эту совместную службу намекал. И все же к ним отец не пошел. Ответа на этот вопрос не находил, да и понятно почему: мне казалось, что достаток в их семьях был всегда. У меня даже не возникало мысли, что в их домах могло бы и не быть так богато, как было. Думалось и мечталось о том, чтобы и моего отца, а значит и меня, возили на машине и чтобы нам сделали большой каменный дом, а в огороде проложили бетонированные дорожки, по которым легко бегать в уборную во время засыпающей все вокруг метельной зимы или в дни чавкающей грязью осени… Впрочем, у Черепановых даже туалет был не на улице.
Хотелось, чтобы наш дом стоял так же близко ко всему-всякому, как и у них. Особенно об этом мечталось, когда меня посылали на базар за сечкой для кур. Два километра от базара домой казались самой длинной дорогой в мире. Мешок с двадцатью килограммами зерна был моим ненавистным, могущественным хозяином. Он вывихивал мне шею, поочередно – плечи, выдергивал из суставов руки, когда уже перед самым домом я, покачиваясь от усталости, волок его по земле. Но потом, уже дома, глядя на эту округлую тушку зерна, я ощущал себя героем, победителем.
До школы тоже далеко. Весной и осенью особенно было несладко. Сапоги так и норовили слезть с ног и остаться навсегда в липкой глине бывшего древнего хвалынского моря. Но зато их дома не заливало во время весеннего паводка. А я забрасывал удочки прямо с крыльца. И еще: когда сходила полая вода, то неподалеку от нашего дома, в большой зеленой низине, разбивал шатры цыганский табор, и здесь собирались поселковые – и взрослые, и мы, пацаны. Отцы Звонарева и Черепанова никогда сюда не ходили. И не только они. Тот, кто мог съездить в город и купить там плотницкий инструмент или тяпки, вилы, лопаты для огорода – имели на то деньги, – никогда ничего не заказывали у цыганского кузнеца.
Но пацаны бывали возле горна все, это точно. Цыган за считанные минуты у нас на глазах из ржавого прута сооружал два-три маленьких ножика и отдавал нам за десяток помидоров или каких-нибудь фруктов. И еще давал покачать кожаный мех горна, воздух дул на почти белые от огня угли и среди них краснели, а потом и белели наши железные прутья.
Тут же всегда на тележках с маленькими колесиками подпрыгивали на руках инвалиды в выгоревших гимнастерках и вступали в перебранки со всеми подряд, исключая разве что дурачка Додю, навязывали невольным покупателям самодельные открытки, на которых были разные поздравления, пожелания, но одни и те же лица: чернявый мужчина с блестящей от бриолина прической и белокурая кудрявая девица – немка, считали мы.
Я все не мог понять, где эти уроды достали себе настоящие гимнастерки, а некоторые даже и медали. Спрашивал у отца, но он уходил от объяснений. Он вообще мало что рассказывал о войне. Одно только и твердил «об этом не расскажешь». Показывал на полки книг, попавшие к нам от опального деда, бывшего до войны в Карлаге, певшего когда-то с «самим Шаляпиным», и советовал: «Читай. Постигай сам».
Инвалиды и цыгане со временем куда-то исчезли. Поселок отгородили от Волги высокой земляной дамбой, а нас уже никогда больше в половодье не затапливало. Вместе с разливами ушло детство. Мы закончили школу. И тут удивил Черепанов. Как-то прибегает к нам Звонарев, сует почитать районную газету, а в ней большая статья о его отце, какой он интересный человек, отличный руководитель автобазы, как его водители славно поработали на обваловании поселка и прилегающих к нему полей. И подпись «нештатный кор. П. Черепанов».
Я удивился не статье, а тому, почему в газете печатается Черепанов, а не Звонарев, который все школьные годы занимал призовые места в районных литературных олимпиадах. Неудобно писать о собственном отце? Но почему же! Кто как не сын знает своего отца…
Мой отец прочел статью несколько раз, отложил газету, уставился в пол и стал тереть виски кончиками пальцев. Это всегда говорило о его сильной взволнованности, о внутренних противоречиях, неразрешимом конфликте.
Так же, я помню, он сидел долго-долго, когда сообщили о смерти Сталина. Мать плакала навзрыд, а он, ничего не делая, сидел себе и сидел, только вот виски и тер…
Возвращая газету Звонареву, он спросил: «Тебе нравится то, что написал именно твой друг или то, что красиво написано о твоем отце?»
Может быть, он спросил как-то по-другому, но суть вопроса запомнилась, потому что, когда Звонарев сказал, что понравилось то, как написано, отец отчеканил: «По отношению к тебе твой друг поступил по-людски, а вот по отношению к таким, как я, по-божески. Это две большие разницы».
Мы были озадачены, но никаких объяснений сказанному не услышали.
Потом вокруг статьи возникли разные толки, разговоры, но никакого опровержения в газете не появилось, и все так и угасло, если не считать того, что Звонарев потом именно из-за размолвки с отцом уехал из дома навсегда и не появлялся, пока тот не умер. После чего Звонарев все свои отпуска проводил только у матери: копал, поливал, ремонтировал, перестраивал. Да мало ли каких дел наберется в хозяйстве…
То, что он уехал именно из-за конфликта с отцом, я вычислил самостоятельно – это тогда, когда с упоением готовил кандидатскую диссертацию. Ее название непосвященному мало о чем может сказать, суть же ее заключается в том, что я попытался объяснить мотивы поступков взрослых, исходя из того, как их характер формировался в детстве.
Проще говоря, у меня не было никакого сомнения в том, что познакомиться близко с самим собой человек может чудесным образом, если как следует вспомнит свое детство.
Но кто помнит себя в три года? Так, кое-что… Чуть больше нам отмеряет память из нашего пяти-шестилетнего периода. А дальше? Дальше основы характера уже заложены, а как до них докопаться? Родители расскажут? Не расскажут, а если и попробуют это сделать, то обязательно исказят, не имея даже дурного умысла ввести в заблуждение. Не у каждого такая память, чтобы в ней «калоши вязли».
Когда я принялся за диссертацию, то чуть ли ни дневал и ночевал со своими бывшими одноклассниками. Черепанов общению со мной был всегда рад, он вообще являл собой образец общительности, а вот со Звонаревым было посложнее. Нет, бирюком он не был, напротив, где только он себя не пробовал – и спорт, и театр, и кино-фотолюбительство, и литературный кружок… Легко, казалось бы, жил, свысока и надменно посматривая на окружающих, но эта легкость скрывала под собой его состояние неуверенности в себе, чувство одиночества, непонятости, обособленности.
Кто часто с ним общался, считал, что Звонарев из тех, кто «подолгу держит у порога». Вот, мол, стоит одинокий, знающий что-то значительное человек и почему-то не хочет пустить туда, за дверь. А двери никакой и не было. Вот он, перед нами, как на ладони, законченный эгоцентрик.
Так-то оно так, да не совсем так. Был эгоцентрик, да весь вышел, переродился. Это был один из ударов, расшатавших мою диссертацию. А ведь все складывалось верно: его эмоциональность, повышенное чувство ответственности – он всегда старался сделать все как можно лучше и всякий раз беспокоился: а вдруг не получится.
Сомнения истощали его впечатлительную душу и не находили выхода, особенно в семье: черствый, рациональный, хотя и энергичный отец, требовал от него похожести в поступках, к которым Звонарев не был готов ни психически, ни физически, в результате этого всегда наступает отказ от контактов, возникает чувство обособленности. И налицо – сформировавшийся эгоцентрик.
Но эгоцентрик рухнул. И произошло это, мне кажется, после того, как он попал в больницу после пожара на буровой вышке. Но что именно произошло – это непостижимо…
С каким неожиданным юмором, легкостью, уничижающей самоиронией рассказал он историю возвышения своего отца от механика по ремонту военных самолетов до директора автобазы, и рассказ этот в его устах мне порой казался совсем не смешным. Звонарев и Черепанов старшие, демобилизованные после Победы, умудрились через всю Европу протащить домой несколько чемоданов с трофейным барахлом, подобранным в разрушенных магазинах и складах: швейные иголки, мыло, тряпки с разными рюшками и бантами.
В поселке это все кому за так давали, кому продавали, а с кем вступали во взаимовыгодный обмен. Мой отец с самого начала наотрез отказался принимать участие в этом предприятии. Он часто говаривал: «Не ты положил, не тебе и взять».
Объяснимы мотивы Звонарева и Черепанова: почти пять лет сурового солдатского быта отодвигались в прошлое, наступала мирная, гражданская жизнь, захотелось победившим пожить и на широкую ногу. Это – по-божески…
Понятен мотив отца: стыдно роскошествовать среди руин страны. Это – по-людски…
Однако это понимание не позволяет мне кого-то из них осуждать или оправдывать. Ведь именно решением моего отца Звонарев-старший был назначен директором будущей автобазы. При этом, мне думается, отец сказал: «Бери, создавай, коли уж ты такой шустрый. Посмотрим». И тот ее организовал. Ну, а уж какими методами он пользовался – это иной разговор. Во всяком случае, после того как Звонарев-младший ушел тогда от нас со статьей о «прекрасном директоре автобазы», отец оставил в покое свои виски и сказал: «Деловой человек и хороший человек – это, как правило, несовместимые вещи». От этих слов веяло тайной, права знать которую я тогда не имел. Отец умело оберегал меня от сложных взаимоотношений в мире взрослых, исподволь, недосказанностями, полунамеками готовя ко встрече с иным миром, и в то же время непонятно как, но помогал мне в кругу сверстников быть «собой среди других». Некоторые утверждают, что тут нет ничего, кроме обычной отцовской любви…
Поведение мое было гибким, чаще всего я свободно чувствовал себя во многих неожиданных ситуациях, что помогало при различных обстоятельствах сохранять чувство собственного достоинства.
В общем, рос я благополучным ребенком и, по словам взрослых, обещал быть хорошим и деловым человеком. Все бы, быть может, так и случилось, когда бы не «порок», который проявился во мне, как и у многих в подростковом возрасте, но у меня он все более и более прогрессировал. Во всех женщинах я стал видеть прежде всего женщин, и только женщин. И если из школы мне удалось вынести неплохие знания, то благодаря только тому, что большинство преподавателей были мужчины. На педагогинь я смотрел с нескрываемым любопытством, открыто и подробно рассматривая лицо, плечи, грудь, живот, бедра. Тем более что обе они, как представлялось мне в ту пору, были еще не очень старыми – лет по двадцать пять. Реагировали они на эту мою наглость по-разному, но я уже вполне понимал, что какой бы ни была эта реакция, служит она одному-единственному желанию – скрыть свое смущение.
Связываться со мной посредством воспитательных бесед они не желали, глубоких ответов на уроках от меня не добивались, торопливо сворачивали всякие мои разглагольствования и ставили хорошие отметки. Не стали они еще толковыми педагогами, но мне это было невдомек.
В десятом классе начались мои любовные похождения. Помню немало девчонок, которых мне не удавалось смутить ни своим рассматриванием в упор, ни откровенными намеками на их природу, но это меня мало огорчало. Тех, которые смущались, было предостаточно. Особенно нравилось будоражить чувства девушек в присутствии моих товарищей, ведь их тоже волновали эти невинные игры в слова, в якобы нечаянные касания девичьих прелестей.
На интимную близость в этом возрасте может толкнуть многое, но еще большее от нее удерживает. И чаще всего это мысли о необъяснимой вине, которая непременно должна обрушиться на тебя после свершившегося. Это, пожалуй, самая первая, настоящая взрослая ответственность в жизни подростка, если не учитывать патологию или развращенное знание о половойжизни. Вот это, второе, меня и подстерегало.
В то время Звонарев уже четвертый год ходил в музыкальную школу – довольно далеко от поселка, в военный городок. Важно, что в военный городок. Там было так: офицеры занимались своими делами в гарнизоне с солдатами и техникой, а их жены, не занятые каким-либо трудом, потому что не всегда находилась для них работа – не в колхоз же им идти или на судоремзавод! – они погружались: кто в новейшие модели сезона, кто в чтение толстых журналов, кто в самодеятельность, ну и справедливости ради надо сказать, кое-кто занимался спортом. Наши матери их недолюбливали за легкость и комфорт жизни. Но это к делу почти не относится. Дом офицеров бурлил от энергичной деятельности их женсовета. Каких только там кружков не было: и английского языка, и фехтования, и любителей восточной поэзии, не говоря уж о самых обыкновенных кружках для их младших детей. А в роскошно отделанных цветной плиткой и зеркалами туалетах для их старших детей «действовали» стихийные нелегальные кружки знатоков болгарских сигарет, венгерских сухих вин, редких записей рок-н-ролла и тонкой картежной тактики.
Взрослые, изредка забегавшие в эти заведения, ничего кроме мирно беседующих юнцов не замечали – конспирация была отработана до мельчайших деталей. Им даже могло казаться, что и сигаретный дым не имел к юнцам никакого отношения. Впрочем, взрослые забегали туда только по вечерам да в выходные дни, когда в Доме офицеров шел фильм или проводились какие-нибудь мероприятия…
За четыре года беганья в музыкальную школу наш Красавчик стал своим среди офицерских ребят, но не тех, что прятались от взрослых в интимном заведении. Его приятели большей частью пропадали на баскетбольной площадке или в литературном кружке. Нас же, поселковых, старался с ними не знакомить, видимо, стеснялся нашей полусельской неотесанности и, как я потом понял, не хотел с нашей стороны некоторых разоблачений, так как успел приврать кое-что о своих родителях и о своих талантах. Что поделать, Звонарев был фантазером отменным, этого и теперь у него не отнять.
И вот как-то пришел он в школу с фингалом в пол-лица и распухшими губами. Такой выходки по отношению к нашему товарищу мы никому простить не могли. Никто, кроме офицерских, тронуть его не мог по одной-единственной причине: все мы, семеро одноклассников, горой стояли друг за друга, потому что жили на двух соседних улочках – Степана Разина и Емельяна Пугачева. Это обязывало. Другие поселковые нас остерегались или старались с нами дружить, да и понятно это – с первого класса мы всегда вместе. Мало того, все мы были помешаны на спорте, кроме Ветлы, и всякая сборная школы в последние годы учебы состояла, прежде всего, из нас, несмотря на то, что было еще два класса параллельных, да и старшеклассники кое-что значили. После одного зарубежного боевика мы сами себя прозвали «великолепной семеркой».
Не знаю, чего бы мы стоили без потрясающей дипломатичности Черепанова, который первым начинал разговоры с обидчиками, и чаще всего эти его диалоги с противниками и заканчивались. А если уж ничего не получалось у Черепанова, то все решал Ярый. Он оправдывал прозвище и своим вспыльчивым характером, и буграми мускулатуры.
В случае развития конфликта роли распределялись так: Яровой крушил налево и направо, я периодически повисал на его руке, чтобы он кого не убил, братья Гримм, близнецы Гримпельштейн стояли спиной к спине и изредка отмахивались, если на них кто-то наседал, Черепанов валялся с кем-нибудь на земле, с криками от одних к другим метался Ветла, пока его кто-нибудь не задевал, после чего он, придерживая ушибленное место, садился в сторонке и отрешенно ждал окончания этой катавасии, Звонарев возбужденно и вместе с тем тщательно выполнял серию борцовских приемов, которые перенял у офицерских ребят, стараясь притом никого сильно не ушибить…
Звонарев признался, что зашел в туалет, где у него попросили закурить, на что, не зная как ответить, промолчал, только вот закашлялся от дыма и выдавил из себя: «Вот так накурили!».
Мы втроем: Ярый, Красавчик и я пошли в городок.
В туалете набралось ребят многовато, но отступать было некуда.
– Мы пришли побить тех, кто его тронул, – с порога начал Ярый, показывая на Звонарева. – Кто из них? – спросил он у Красавчика.
Обидчиков не оказалось на месте, или Звонарев отказался их назвать. Ребята ничего обидного не сказали, рассматривали нас с интересом, хотя и с некоторым напряжением, а потом предложили попробовать сухого вина.
Ярый расхохотался:
– Сухое?! Это как… жевать?
После чего смеялись все.
С того дня я зачастил в ту компанию. По части карт соображал хорошо, но не было таких денег, на какие там играли. Курить научился, понравилось, а вот вино мне не показалось. Не люблю нереальных ощущений, а после вина именно так и случалось: недоступное в трезвом состоянии казалось после выпитого доступным, россказни «бывалых любовников» принимались за чистую монету. Впрочем, откровения вновь испеченных приятелей о любовных похождениях и без выпивки принимались за истину. Мой развивающийся порок ждал случая.