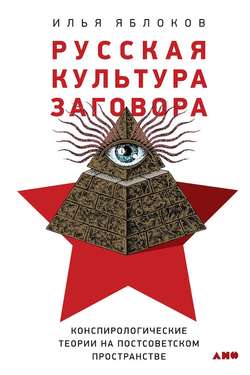Читать книгу Русская культура заговора - Илья Яблоков - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
Как изучать теории заговора?
Теории заговора – это нормально
ОглавлениеЧрезвычайная популярность теорий заговора, захлестнувшая США в 1990-е гг. (эта волна докатилась и до постсоветской России, вспомнить хотя бы повышенный интерес к сериалу «Секретные материалы»), способствовала переосмыслению этого явления научным сообществом. Оказалось, что теории заговора привлекательны как способ постижения мира не только для фанатиков-маргиналов. В действительности они могут быть особенным способом рационального мышления, своеобразным порталом, «через который обсуждаются социальные явления»[65]. Сторонники нового взгляда обращают внимание на то, что предыдущие попытки объяснить конспирологию способны только локализовать ее среди маргинальных право- и леворадикальных групп, в то время как в конце ХХ в. теории заговора вырвались за пределы этого идеологического гетто. Теперь они – важный элемент современной культуры, присутствующий в кинематографии, музыке, литературе[66]. Как в связи с этим можно проанализировать, кто наиболее склонен верить в теории заговора? Есть ли психологические предрасположенности к такой вере? Какие истории могут считаться теориями заговора, а какие нет? Как быть с историческими фактами, лежащими в основе конспирологии? Делают ли они теории заговора более легитимными?[67]
Типичная фраза, с которой начинается обсуждение той или иной теории заговора, «Я не конспиролог, но…» совершенно ясно отражает природу конспирологии, ее положение в повседневной проблематике как «подавленного знания» (используя терминологию Мишеля Фуко[68]). Джек Братич в связи с этим отмечает, что теории заговора являют пример того, как официальный дискурс, обладающий большей властью и легитимностью, может подавлять знания, несущие информацию о существенных общественных конфликтах[69]. В последние два десятилетия представители различных областей науки – историки, антропологи, социальные психологи, религиоведы, политологи, социологи и культурологи – проделали огромную работу, стараясь прояснить концептуальные и дисциплинарные особенности изучения феномена, продвинуть вперед исследование теорий заговора и тех, кто в них верит, и внесли огромный вклад в изучение этого явления.
Выяснилось, что оно не настолько уж маргинально[70]. Социальные психологи установили, что вера в заговор может объясняться склонностью к недоверчивости и подозрительности. Если кто-то верит в одну теорию заговора, то скорее всего поверит и в другую, даже если они взаимоисключающие[71]. Многое также зависит от ситуации, в которой человек находится. Если политическая партия, которую он поддерживает, проиграла выборы, подозрительность по отношению к выигравшему конкуренту будет выше[72]. Во время кризисов – чрезвычайных ситуаций, войн, техногенных катастроф – также наблюдается рост доверия к теориям заговора[73]. Больше того, никакой патологии в том, что люди склонны в них верить, нет. Эта вера ситуативна и основана на той информации, которая становится доступна человеку и на основе которой он затем выносит суждение[74]. Если человек получает больше информации, содержащей конспирологические интерпретации, выше и вероятность того, что последующие события будут оцениваться им в том же ключе[75]. В такой ситуации стремление найти информацию, согласующуюся с его собственной точкой зрения, известное в науке как «предвзятость подтверждения», служит еще одним способом упрочения конспирологического менталитета[76]. Более того, склонность людей замыкаться внутри сообщества со схожими взглядами, в котором живут и эволюционируют различные мифы и в том числе теории заговора, влияет на психологическое поведение членов подобных сообществ[77]. Однако высокий уровень образования и развитое критическое мышление могут стать фактором, снижающим доверие к конспирологическим идеям[78].
Групповая идентичность и позитивное восприятие группы, к которой принадлежишь, также способствуют популярности теорий заговора. Британский социолог Александра Чичока и коллеги демонстрируют, что склонность у членов группы к вере в заговор проявляется в обстоятельствах, когда коллективная идентичность подвергается угрозе. Своего рода самолюбование членов группы, восприятие себя особенными, часто подталкивает их к вере в то, что внутригрупповые проблемы были «срежиссированы» извне неким злонамеренным субъектом[79].
Исторические исследования показывают, что даже самые развитые демократические государства и такие их ключевые институты, как парламент или свободная пресса, служат плодотворной средой для бытования теорий заговора[80]. Эти теории могут быть полезны для достижения прозрачности государственных институтов и развития демократических ценностей в обществе[81].
В то же время на личностном уровне теории заговора способны оказывать негативное воздействие на их носителей и сторонников. В частности, те, кто верит в теории заговора, нередко не совсем объективно оценивают себя: завышенная самооценка – один из триггеров веры в то, что против человека плетется заговор. Вместе с тем неадекватное самовосприятие приводит к неспособности прийти к взаимовыгодному компромиссу с окружением[82].
В плане защиты здоровья и окружающей среды теории заговора также несут угрозу обществу. Так, рост веры в то, что вакцины способствуют развитию аутизма, может привести к тому, что все больше родителей не будут прививать своих детей, что, в свою очередь, опасно для здоровья последних[83]. Другой пример: в Южной Африке, где пропаганда антиВИЧ была поддержана самим президентом Табо Мбеки, в период его правления число умерших от СПИДа достигло 330 000 человек[84].
Одним из источников веры в конспирологию становятся бессилие и неспособность изменить свою жизнь и положение вещей в окружающем мире[85]. Исследования показывают, что потребление теорий заговора снижает политическую активность и желание участвовать в политических или общественных кампаниях (например, против глобального потепления)[86]. Политические конфликты, активно освещаемые медиа, приводят к тому, что доверие к политикам и институтам снижается. Чиновники правительства, а также руководители корпораций – в списке лидеров, которым доверяют меньше всего, и именно эта тенденция привела к росту праворадикальных и консервативных идеологий по всему миру в последние десять лет[87].
Неотъемлемой частью глобально развивающейся культуры заговора стало стремление ставить под вопрос любую официальную версию событий. И именно это предопределило интерес ученых к исследованию теорий заговора как научного феномена. Более того, посмотрев на неевропейские культуры заговора, ученые убедились, что многие мотивы и сюжеты конспирологических теорий не только универсальны, но и, вне зависимости от национального контекста, формируют альтернативный политический язык. Они ставят под вопрос слова и действия политических элит, часто превращаясь таким образом в популистский инструмент влияния[88]. В культурах, находившихся под властью европейских держав, питательной средой для активного развития теорий заговора[89] послужили межэтнические политические конфликты, в которые многие бывшие колонии погрузились после ухода колонизаторов. В контексте становления новых национальных идентичностей лидеры государств использовали теории заговора, чтобы выдвинуть обвинения либо против «бывших угнетателей», либо против «внутренних врагов» из числа политических оппонентов и привлечь таким образом на свою сторону большинство населения[90].
Культурологические исследования современной политики также помогают избежать традиционной стигматизации теорий заговора и понять, как они работают в контексте современного мира. Вслед за британскими и американскими коллегами я рассматриваю теории заговора как легитимный способ интерпретации властных отношений в современном мире[91]. Теории заговора ставят под вопрос существующий порядок вещей в обществе и предлагают (порой весьма специфически) трансформировать его в более справедливые, эффективные формы. Другими словами, теории заговора – это своего рода «креативный ответ» на вызовы времени. Они способны быть одновременно разрушительными и созидательными в плане социальных отношений: могут мобилизовать огромные массы населения для того, чтобы разрешить серьезный конфликт в обществе, но могут также стать губительной силой для репутации человека или организации и подорвать доверие к ним.
Таким образом, они выступают мощным инструментом перераспределения влияния между социальными акторами, а также эффективной политической стратегией, способной вскрыть глубокие социальные проблемы и неравенство в политической, экономической и социальной сферах общества.
Нормализация теорий заговора подводит нас к вопросу о том, в какой форме они обычно выражены и почему порой становятся таким мощным политическим орудием. Форма, в которой они проявляются в политической риторике, – это популизм. Именно популистская риторика позволяет эффективно перераспределять власть и влияние среди политических сил. Недавние примеры популистской риторики, тщательно сдобренной ссылками на заговор, – это выборы в США Дональда Трампа[92], риторика противостояния с Евросоюзом и «либеральным лобби» Джорджа Сороса, превращенная в основной электоральный инструмент Виктором Орбаном, премьером Венгрии[93], риторика изоляции от Евросоюза сторонников «Брекзита» в Великобритании[94]. Во всех перечисленных случаях популистски фреймированные теории заговора – защита простого человека от коррумпированных и чуждых элит – оказали мощную поддержку выигравшей партии.
Вокруг популизма, как и вокруг теорий заговора, исследователи ведут ожесточенные споры. Как теории заговора в середине XX в. считались чем-то недостойным политика[95], так и популизм ныне часто воспринимается как не совсем «чистое» политическое действие[96]. Кэс Мадд и Ровира Кальвассер называют его самым часто используемым и самым неверно употребляемым термином как внутри академических кругов, так и за их пределами[97]. Несмотря на разнообразие подходов к популизму как к политической стратегии[98] или логике политики[99], способу реализации политики[100] или даже способу коммуникации политиков, медиа и обычных граждан[101], относительно элементов популистского дискурса, которые помогают выявить его в любых политических идеологиях, существует определенный консенсус.
В первую очередь, в центре популистского дискурса находится «народ» («простые люди»)[102], к которому апеллирует харизматичный политик, призывающий дать отпор нелояльным/коррумпированным/преступным элитам[103]. Согласно Бену Стэнли, в основе популизма лежит допущение существования двух гомогенных субъектов политики – народа и элиты, находящихся в антагонистических отношениях; а также существование в данном социуме идеи популярного суверенитета и морального превосходства народа над элитой[104]. Исходя из этих критериев, можно предположить, что популизм может быть обнаружен почти в любом обществе и на любом уровне иерархии социальных отношений.
Франциско Паницца и Эрнесто Лаклау утверждают, что популизм – это «способ идентификации, доступный совершенно любому социальному актору, действующему в дискурсивном поле, где идея суверенитета людей, конфликт между властью и бессильными являются краеугольным камнем современного представления о политике»[105]. В основе такого представления лежит разделение социального на две части: «людей», объединенных общей задачей или проблемой, требующей скорейшего разрешения, и «другого» – центра власти, принятия решений, воспринимаемого в качестве источника проблем «людей». Популизм помогает объединить разрозненные группы граждан общим запросом (который может быть любым), создавая таким образом новую социальную или национальную идентичность[106]. По словам Лаклау, эти два лагеря представляют собой «власть» и аутсайдера, который стремится «воплотить желания людей, бросив вызов существующему порядку вещей в обществе»[107]. Согласно этой интерпретации, популизм может являться неотъемлемой частью демократического общества, а не только авторитарных и тоталитарных режимов. Ведь с помощью популистской риторики можно достичь необходимой смены политики, особенно когда правящие элиты не справляются со своими задачами.
В то же время популизм, разделяющий социальное на своих и чужих, имеет непосредственную связь с природой теорий заговора. Создание и поддержание политической идентичности требует четкого и убедительного «другого», от которого новая идентичность будет отстраиваться. В этом контексте теории заговора предоставляют необходимый потенциал для общественной поляризации, основанной на страхе «другого»[108]. Именно эта «коммуникативная» функция теорий заговора объясняет ту важную роль, которую они играют в политической риторике. Они способны выявить – и порой более эффективно – социальные проблемы и постараться заставить политические элиты решить их.
Американский политолог Марк Фенстер отмечает, что вернее всего называть теории заговора «популистской теорией о влиянии»[109]. Разделяя общество на своих и чужих, они помогают создать общность «людей», которые борются с несправедливостью, созданной политическим/социальным/культурным/этническим «другим». «Другой» представляет собой центр влияния, подвергаемый популистской критике оппонентов, которая, в свою очередь, помогает альтернативным центрам влияния усилиться, стать более легитимными. Именно этот эффект объясняет популярность теорий заговора в авторитарных и тоталитарных режимах. Однако важно повторить, что эти теории являются частью любого политического режима и могут быть найдены на любом уровне общества. По словам Фенстера, проблема непонимания природы теорий заговора связана с проблемой «идеологического непонимания властных взаимоотношений, которые могут возникнуть в политической системе»[110]. Нам легко верить, что конспирологи водятся исключительно среди политических оппонентов или в глубоко отсталых, тоталитарных режимах. Тяжело смириться с тем, что теории заговора окружают нас повсеместно и мы сами в них часто верим.
Маккензи-Макхарг утверждает даже, что сам термин «теории заговора», появившийся в англо-американском культурном контексте, по мере глобализации и дальнейшего внимательного исследования феномена, способен рассказать об обществе куда больше, чем известно сейчас[111]. История этого явления и того, какой характер оно приобретает в различных национальных традициях, может выявить его особенности и переосмыслить его природу. Переносясь обратно в Россию, мы видим, что подобная интерпретация теорий заговора имеет огромный потенциал для анализа российской (и не только) политической реальности. Исследователи уже отмечали, что теории заговора на постсоветском пространстве должны изучаться как особый социальный феномен[112]. Таким образом, обозначенный подход позволяет нам не только избавиться от стигмы «параноидального сознания», но и исследовать, какую роль могут играть теории заговора в процессе создания национальных и политических идентичностей. Возникновение многочисленных демократических республик на обломках СССР создало условия для активного проявления популистской риторики на всех уровнях общественной жизни. В ситуации политической нестабильности эта риторика выражается в разделении общества на «народ» и всесильного «другого» и в стремлении распознать зловещий план элит, нацеленный против обычных людей.
Но в случае российской национальной идентичности традиционным «другим» исторически выступает Запад, воспринимаемый как «единый, неделимый субъект, чье поведение нужно либо копировать как модель развития России, либо избегать его как самой большой угрозы»[113]. Именно ориентация на Запад во многом определяла развитие русской национальной идентичности в последние несколько веков. Ресентимент российских элит, отмеченный еще Лией Гринфельд, возник из осознания разницы между Россией и ее идеальным партнером/противником, Западом, и позволяет подчеркнуть свою инаковость и даже превосходство над ним[114]. Корни антизападной конспирологии проистекают из этого же ресентимента: страх заговора против России базируется на идее того, что она не может стать такой, как продвинутые европейские государства, потому что она лучше, духовнее и богаче Запада, и Запад не в состоянии с этим смириться и делает все возможное, чтобы ее уничтожить. Такой взгляд – по сути классическое проявление «особого пути» – позволяет формировать каркас российской национальной идентичности на антизападных идеях[115].
Обозначенный подход к теориям заговора также важен для понимания динамики на политической арене постсоветской России и анализа политической борьбы в постсоветский период. Допуская, что теории заговора являются нормальной частью политической риторики современных государств, мы можем предположить, что история постсоветской политики – это набор определенных «запросов» общества и политических/интеллектуальных элит. В контексте общества посткоммунистического транзита язык заговора, невероятно все упрощая, легко позволяет найти виновного в сложностях экономической, социальной и политической трансформации. Воспринимая теории заговора как специфический способ обсуждения проблем в обществе, мы можем проанализировать, как различные политические силы используют риторику заговора для усиления собственных позиций и поиска общественной поддержки.
Далее мы изучим риторику политических и интеллектуальных элит и увидим, как политики выбирают теории заговора, идеи и концепты, выработанные или привнесенные в российскую культуру извне публичными интеллектуалами, и используют их для политических целей или оценки происходящих в стране событий. Традиционный анализ теорий заговора основан на попытке понять риторику «простых людей», критикующих элиты, через речи самих политиков. Это, как мы уже видели, традиционный элемент популистской риторики. В российском же контексте популистские теории заговора используются элитами для обозначения собственной позиции как «вместе с народом» против коварного Запада, воспринимаемого как центр глобального влияния. Чрезвычайная распространенность такой риторики, как будет продемонстрировано далее, связана прежде всего с налаженным процессом производства и распространения теорий заговора в постсоветское время. Это производство основано на заимствованиях как из современных зарубежных традиций заговора, так и из исторического прошлого российского общества.
65
Bratich, J.Z. (2008). Conspiracy Panics: Political Rationality and Popular Culture. Albany: State University of New York Press, р. 6.
66
Birchall, C. (2006). Knowledge goes pop. From Conspiracy Theories to Gossip. Oxford: Berg.
67
Olmsted, K.S. (2009). Real Enemies: Conspiracy Theories and American Democracy, World War I to 9/11. New York: Oxford University Press.
68
См.: Фуко М. Археология знания. Ч. 1. – М.: Гуманитарная академия, 2012.
69
Bratich, J. Z. Conspiracy Panics, 11.
70
Oliver J. E., Wood T. (2014). Medical conspiracy theories and health behaviors in the United States. JAMA Internal Medicine, 174, 817–818. DOI: 10.1001/jamainternmed.2014.190; Sunstein C. R., Vermeule A. (2009). Conspiracy theories: Causes and cures. The Journal of Political Philosophy, 17, 202–227. DOI: 10.1111/j.1467–9760.2008.00325.x.
71
Wood M. J., Douglas K. M., Sutton R. M. (2012). Dead and alive: Beliefs in contradictory conspiracy theories. Social Psychological and Personality Science, 3, 767–773. DOI: 10.1177/1948550611434786.
72
Uscinsky J., Parent J. (2014). American conspiracy theories. Oxford: Oxford University Press.
73
Van Prooijen J-W., Douglas K. M. (2017). Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations. Memory studies, 10 (3), 323–333.
74
Radnitz, S., Underwood P. (2015). Is Belief in Conspiracy Theories Pathological? A Survey Experiment on the Cognitive Roots of Extreme Suspicion. British Journal of Political Science, 47 (1), 1–17.
75
Van Prooijen J-W., Douglas K. M. (2018). Belief in conspiracy theories: Basic principles of an emerging research domain. European Journal of Social Psychology, 48 (7), 897–908.
76
Бразертон Р. Недоверчивые умы: Чем нас привлекают теории заговора. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017.
77
Bessi, A. (2016). Personality traits and echo chambers on Facebook. Computers in Human Behavior, 65, 319–324.
78
Van Prooijen J. W. (2017). Why education predicts decreased belief in conspiracy theories. Applied Cognitive Psychology, 31, 50–58. DOI: 10.1002/acp.3301; Douglas K. M., Sutton R. M., Callan M. J., Dawtry R. J., Harvey A. J. (2016). Someone is pulling the strings: Hypersensitive agency detection and belief in conspiracy theories. Thinking and Reasoning, 22, 57–77. DOI: 10.1080/13546783.2015.1051586.
79
Cichocka A., Marchlewska M., Golec de Zavala A., Olechowski M. (2016). ‘They will not control us’: Ingroup positivity and belief in intergroup conspiracies. British Journal of Psychology, 107, 556–576.
80
См.: Uscinsky, Parent, American conspiracy; McKenzie-McHarg A., Fredheim R. (2017). Cock-ups and slapdowns: A quantitative analysis of conspiracy rhetoric in the British Parliament 1916–2015. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 50:3, 156–169, DOI: 10.1080/01615440.2017.1320616.
81
Swami V., Coles R., Stieger S., Pietschnig J., Furnham A., Rehim S., & Voracek M. (2011). Conspiracist ideation in Britain and Austria: Evidence of a monological belief system and associations between individual psychological differences and real world and fictitious conspiracy theories. British Journal of Psychology, 102, 443–463. DOI: 10.1111/j.2044–8295.2010.02004.x; Clarke S. (2002). Conspiracy theories and conspiracy theorizing. Philosophy of the Social Sciences, 32, 131–150. 10.1177/004931032002001.
82
Swami V., Voracek M., Stieger S., Tran U. S., Furnham A. (2014). Analytic thinking reduces belief in conspiracy theories. Cognition, 133, 572–585. DOI: 10.1016/j.cognition.2014.08.006.
83
Jolley D., Douglas K. (2014b). The effects of anti vaccine conspiracy theories on vaccination intentions. PLoS ONE, 9, DOI: e89177 10.1371/journal.pone.0089177; Barbacariu, C.L. (2014). Parents’ Refusal to Vaccinate Their Children: An Increasing Social Phenomenon Which Threatens Public Health. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 149, 84–91.
84
Chigwedere P., Seage G. R. 3rd, Gruskin S., Lee T. H., Essex M. (2008). Estimating the lost benefits of antiretroviral drug use in South Africa. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 49, 410–415. DOI: 10.1097/QAI.0b013e31818a6cd5.
85
Abalakina Paap M., Stephan W., Craig T., Gregory W. L. (1999). Beliefs in conspiracies. Political Psychology, 20, 637–647. DOI: 10.1111/0162–895X.00160; Mirowsky, J. and Ross C. (1983). Paranoia and the Structure of Powerlessness. American Sociological Review 48, 228–239.
86
Jolley, D., Douglas K. M. (2014). The social consequences of conspiracism: Exposure to conspiracy theories decreases intentions to engage in politics and to reduce one’s carbon footprint. British Journal of Psychology, 105, 35–56; Douglas K., Sutton R. M. (2015). Climate change: Why the conspiracy theories are dangerous. Bulletin of the Atomic Scientists, 71:2, 98–106, DOI: 10.1177/0096340215571908.
87
Van Prooijen J. – W., Van Lange P. A. – M. (2014). Power, Politics, and Paranoia. Why People Are Suspicious of Their Leaders. Cambridge: Cambridge University Press.
88
West H. G., Sanders T. (2003). Transparency and Conspiracy: Ethnographies of Suspicion in the New World Order. Durham: Duke University Press.
89
Akhtar A. S., Ahmad A. N. (2015). Conspiracy and statecraft in postcolonial states: theories and realities of the hidden hand in Pakistan’s war on terror. Third World Quarterly, 36 (1), 94–110; Swami V., Zahari H. S., Barron D. (2020, forthcoming). Conspiracy Theories in Southeast Asia // Knight, P., Butter M. Handbook of Conspiracy Theories. London: Routledge.
90
Silverstein, P. (2002). An Excess of Truth: Violence, Conspiracy Theorizing and the Algerian Civil War. Anthropological quarterly, 75 (4), 643–674.
91
Knight, P. (2000). Conspiracy Culture: American Paranoia from the Kennedy Assassination to The X-Files. London: Routledge; Fenster, M. (2008). Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
92
Homans C. The Conspiracy Theorists’ Election // The New York Times. 2016. 27 September. https://www.nytimes.com/2016/10/02/magazine/the-conspiracy-theorists-election.html (дата обращения: 24.12.2019).
93
Verseck K. Hungary: Europe’s champion of conspiracy theories // Deutsche Welle. 2018. 11 December. https://www.dw.com/en/hungary-europes-champion-of-conspiracy-theories/a-46689822 (дата обращения: 24.12.2019).
94
Schindler S. Conspiracy Theories, Brexit, and the Nature of the Present Crisis // European Consortium for Political Research. https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=46479&EventID=123 (дата обращения: 24.12.2019).
95
Taggart, P. (2018). Populism and Unpolitics, Populism and the Crisis of Democracy Vol. 1: Concepts and Theory, 1st Edition. London: Routledge.
96
Bunzel J. N. (1967). Anti-politics in America: Reflections on the Anti-political Temper and Its Distortions of the Democratic Process. New York: Knopf.
97
Mudde C., Kaltwasser C. R. Populism and (liberal) democracy: a framework for analysis // Mudde C., Kaltwasser C. R. (eds) Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy? Cambridge: Cambridge UP, 2012.
98
Weyland K. Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics // Comparative Politics, 34 (1), 1–22; Barr R. R. (2009). Populists, Outsiders and Anti-Establishment Politics // Party Politics, 15 (1).
99
Laclau, E. (2005). On Populist Reason. London: Verso; Laclau, E. (2005). Populism: What’s in the Name? // Panizza, F. (ed.), Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso, 32–49.
100
De la Torre C. (2010). Populist Seduction in Latin America. Ohio University Press; Hawkins K. (2010). Who Mobilizes? Participatory Democracy in Chávez’s Bolivarian Revolution. Latin American Politics and Society, 52 (3), 31–66.
101
De Vreese C. H., Esser F., Aalberg T., Reinemann C., Stanyer J. (2018). Populism as an Expression of Political Communication Content and Style: A New Perspective. The International Journal of Press/Politics, 23 (4). DOI: 10.1177/1940161218790035
102
Woods D., Wejnert B. (2014). The Many Faces of Populism: Current Perspectives. Emerald publishing, р. 10.
103
Mudde C., Kaltwasser C. R. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
104
Stanley, B. (2008). The thin ideology of populism. Journal of Political Ideologies, 13, 102.
105
Panizza, F., ed., Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso.
106
Laclau, E. (2005a). On Populist Reason. London: Verso, 93–101.
107
Laclau, E. (2005b). Populism: What’s in the Name? In: Panizza, F., ed., Populism and the Mirror of Democracy. London: Verso, 37–38.
108
Bergmann E. (2018). Populism and Conspiracy: The Politics of Misinformation. London: Palgrave.
109
Fenster, Conspiracy Theories, 89.
110
Там же, 84–90.
111
McKenzie-McHarg A. (2020, forthcoming). Conceptual History as a Source of Reflection – and Meta-Reflection – on Conspiracy Theories // Knight P., Butter M. (eds). Handbook of Conspiracy Theories. London: Routledge.
112
Ortmann, S. and Heathershaw, J. (2012). Conspiracy Theories in the Post-Soviet Space. The Russian Review, 71 (4), 551–564.
113
Tolz, V. (2001). Russia. London: Arnold, 70.
114
Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. – М.: Когито-центр, 2013.
115
Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия / Под ред. Э. А. Паина. Институт Кеннана. – М.: Три квадрата, 2010.