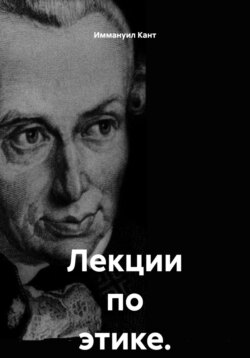Читать книгу Лекции по этике - Иммануил Кант - Страница 2
Всеобщая практическая философия.
ОглавлениеПролог.
Вся философия является либо теоретической, либо практической. Теоретическая философия – это правило познания, практическая философия – правило поведения в том, что касается свободной воли. Теоретическая и практическая философия различаются по своему объекту. Теоретическая философия имеет своим объектом теорию, а практическая – практику. В целом философия делится на спекулятивную философию и практическую философию. Говорят вообще о теоретических и практических знаниях, какими бы ни были их объекты. Знания являются теоретическими, когда они составляют основу понятий об объектах, тогда как они практические, когда составляют основу применения знаний об объектах. Так, например, существует теоретическая геометрия и практическая геометрия, теоретическая механика и практическая механика, теоретическая медицина и практическая медицина, теоретическая юриспруденция и практическая юриспруденция, хотя объект в обоих случаях один и тот же.
Следовательно, если знания являются теоретическими и практическими независимо от объекта, то такое различие касается только формы знания: теоретическая форма относится к оценке объекта, а практическая – к его созданию. Но здесь кроется разница между теоретическим и практическим в отношении объекта. Практическая философия является таковой не по форме, а по практическому объекту, и этим объектом являются свободные действия и поведение. Теоретическое – это знание, а практическое – поведение. Если абстрагироваться от объекта, то философия поведения – это та, которая дает правило хорошего использования свободы, и это использование представляет собой объект практической философии без учета объектов.2
Таким образом, практическая философия рассматривает использование свободной воли не в отношении объектов, а независимо от какого-либо объекта.3 Логика дает нам правила относительно использования рассудка, а практическая философия – относительно использования воли; рассудок и воля – это две силы, из которых все возникает в нашем духе. Если же мы назовем высшими способностями способности движения и действия, то первой будет высшая познавательная способность, или рассудок, а второй – высшая способность желания, или свободная воля. И у нас есть соответствующие дисциплины для этих двух способностей: логика для рассудка и практическая философия для воли. Низшие способности не могут быть обучены, потому что они слепы.
Здесь мы рассматриваем существо, обладающее свободной волей, которым может быть не только человек, но и любое разумное существо. Мы излагаем здесь правило использования свободы, и это составляет практическую философию в целом. Таким образом, практическая философия содержит объективные правила свободного поведения. Подобное объективное правило указывает, что должно произойти, даже если этого никогда не случалось.5 Субъективное правило указывает, что происходит на самом деле, ведь даже для пороков существуют правила, согласно которым действуют.
Антропология занимается субъективными практическими правилами, наблюдая только за фактическим поведением людей; моральная философия пытается регулировать их хорошее поведение, то есть то, что должно происходить. Практическая философия содержит правила хорошего использования воли, так же как логика содержит правила правильного использования рассудка. Наука о правиле, как человек должен вести себя, составляет практическую философию, а наука о правиле фактического поведения – антропологию.
Обе науки тесно связаны, поскольку мораль не может существовать без антропологии, ведь прежде всего нужно знать, способен ли субъект достичь того, что от него требуется, что он должен делать.4 Хотя можно рассматривать практическую философию и без антропологии, то есть без знания субъекта, в таком случае она будет лишь спекулятивной или идеей, так что человека в любом случае придется изучать позже. Всегда говорится о том, что должно произойти, но никто не задумывается, возможно ли это, поэтому известные предостережения, которые являются тавтологическими противоречиями правила, будут происходить фатально, повторяя лишь то, что уже известно, а проповеди с кафедры о таких наставлениях окажутся тщетными, если проповедник не учитывает человеческую природу (и в этом Шпалдинг превосходит всех остальных).
Следовательно, нужно знать человека, чтобы понять, способен ли он сделать то, что от него требуется. Рассмотрение правила бесполезно, если нельзя заставить людей охотно следовать ему, поэтому, как мы сказали, эти две дисциплины сильно зависят друг от друга. То же самое происходит с теоретической физикой, которая тесно связана с экспериментами, ведь и с человеком можно проводить эксперименты. Например, можно проверить, верен ли слуга. Действительно, при экзамене на проповедника следует учитывать не только его знание догматов, но и его характер и сердце.
Таким образом, практическая философия является таковой не по форме, а по своему объекту. Это учение о действии. Подобно тому как логика – это наука о разуме, объектом практического должна быть практика. Следовательно, это наука об объективных законах свободной воли, философия объективной необходимости свободных действий или воли, то есть исключительно всякого возможного хорошего действия, подобно тому как антропология – наука о субъективных законах свободной воли.
Практические правила, указывающие, что должно произойти, бывают трех видов: правила умения, правила рассудительности и правила моральности. Объективное практическое правило выражается через императив, в отличие от субъективного практического правила. Например, старики обычно говорят, что то или иное так, но не должно быть так, однако в старости не следует экономить больше, чем в молодости, потому что в старости уже не нужно столько, так как впереди не так много жизни, как в молодости.
Таким образом, существует три вида императивов: императив умения, императив рассудительности и императив моральности. Каждый из этих трех императивов выражает долженствование, следовательно, субъективную необходимость и, конечно, необходимость свободной и хорошей воли, потому что это соответствует императиву и требуется объективно. Все императивы содержат объективную необходимость, конечно, при условии хорошей свободной воли.
Императивы умения проблематичны, императивы рассудительности прагматичны, а императивы моральности моральны. Проблематические императивы указывают, что при подобном правиле обозначается необходимость воли относительно произвольной цели. Средства утверждаются ассерторически, а цели проблематичны. Например, практическая геометрия использует такие императивы, поскольку при построении треугольника, квадрата или шестиугольника необходимо действовать согласно определенным правилам. Таким образом, это произвольная цель, достигнутая благодаря предписанным средствам.
Таким образом, все практические науки в целом, такие как геометрия, механика и т. д., содержат императивы умения. Они чрезвычайно полезны и, кроме того, должны предшествовать остальным императивам, потому что сначала нужно установить цели, которые хотят достичь, и располагать средствами для их достижения, прежде чем можно будет реализовать поставленные цели. Императивы умения предписывают только гипотетически, поскольку необходимость использования средства всегда обусловлена.
Практическая философия не содержит правил умения, а только правила рассудительности и моральности. Таким образом, это прагматическая и моральная философия: прагматическая в отношении правил рассудительности и моральная в отношении правил моральности.
Благоразумие – это искусство в использовании средств относительно всеобщей цели людей, то есть счастья, поэтому здесь цель уже определена, чего не было в случае умения. От правила благоразумия потребуется две вещи: определить саму цель, а затем – использование подходящих средств для её достижения. Таким образом, это правило суждения о том, что есть счастье, и правило использования средств для его достижения. Следовательно, благоразумие – это искусство определять как цель, так и средства её достижения. Определение счастья – первое в сфере благоразумия, ведь до сих пор существует большой спор о том, состоит ли счастье в обладании вещами (erhalten) или в приобретении престижа (erwehen).
Ибо кто кажется более счастливым? Тот, у кого нет средств, но который и не нуждается ни в чём, что мог бы получить с их помощью, или тот, кто уже имеет много ресурсов, но нуждается в ещё больших? Несомненно, определение цели счастья, выяснение его сущности – это первый вопрос в сфере благоразумия, а вопрос о средствах его достижения – второй.
Императивы благоразумия предписывают не под проблематичным условием, а под ассерторическим, всеобщим и необходимым, присущим каждому человеку. Наиболее точная формулировка – не «если ты хочешь быть счастливым, ты должен делать то-то и то-то», а «поскольку каждый хочет быть счастливым (что предполагается у всех и каждого), он должен соблюдать то или иное». Мы имеем дело с субъективно необходимым условием. Нельзя сказать: «ты должен быть счастлив», так как это было бы объективно необходимым условием, а «поскольку ты хочешь быть счастлив, ты должен сделать то или иное».
Но мы можем представить себе императив, в котором цель устанавливается в соответствии с условием, предписывающим не субъективно, а объективно – и это моральные императивы, например: «не лги». Это не проблематичный императив, иначе он звучал бы так: «если тебе это не вредит, не лги». Следовательно, этот императив безусловен или подчинён объективно необходимому условию. В моральном императиве цель сама по себе не определена, и действие также не определяется согласно цели, а направлено исключительно на свободную волю, независимо от цели. Таким образом, моральный императив предписывает абсолютно, не учитывая целей.
Наше свободное действие или бездействие обладает собственной добродетелью, придавая человеку внутреннюю ценность, абсолютно непосредственную – ценность моральности. Например, тот, кто держит слово, всегда обладает внутренней ценностью – ценностью свободной воли, какой бы ни была цель. Однако прагматическая добродетель не придаёт человеку никакой внутренней ценности.