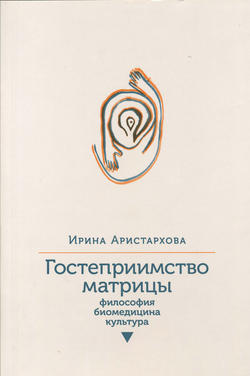Читать книгу Гостеприимство матрицы. Философия, биомедицина, культура - Ирина Аристархова - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Гостеприимство матрицы
Глава 1. Путешествия матрицы: Внутри и вне материнского тела
Смыслы матрицы
ОглавлениеЭтимология слова матрица (лат. matrix), имеющего общий корень с такими словами, как материя и мать, обнаруживает прямую связь соответствующего понятия с материнским телом как порождающим началом, источником бытия и становления. Эта исходная связь подверглась переосмыслению в Новое время, особенно после того, как в середине XIX века английский математик Джеймс Джозеф Сильвестр впервые применил термин матрица для обозначения замкнутого числового массива. Данный раздел посвящен настойчивому присутствию и интересной судьбе понятия матрица в культуре – в первую очередь тем смыслам, в которых оно схватывается/тиражируется воображением наших современников, а также широкому диапазону его трактовок, простирающемуся от крайне специализированных научных версий (например, в геологии и молекулярной биологии) до идиом поп-культуры (к примеру, автомобиль Toyota Matrix и фильм «Матрица»).
Итак, слово матрица необходимо рассматривать с учетом древней семантической триады материя-мать-матрица. Если мы упрощенно представим карту значений как серию концентрических кругов, то матрица окажется внутри матери, а мать – внутри материи. Сегодня в биомедицинском словаре большинства индоевропейских языков общим словом для обозначения места формирования эмбриона является не матрица (лат. matrix), а матка (лат. uterus). Более того, в отличие от своих синонимов – матки (англ. womb) и uterus – слово матрица использовалось для обозначения любого типа материи (растительной, животной, геологической, умопостигаемой и т. д.)[10]. Именно эта одновременная связанность матрицы с материнским телом, маткой, беременностью и ее отделенность от этих смыслов стали предпосылкой впечатляющей востребованности термина матрица в рамках множества современных дискурсов.
Матрица (matrix) – индоевропейское слово, образованное от корня mater, «мать», и, таким образом, родственное словам material, «материя». В латинском суффикс -trix отсылает, как его определяет Балди, к «производительному женскому фактору»[11]. По своему исходному смыслу латинское слово matrix тесно связано со словом genetrix, обозначавшим когда-то биологическую мать, и словом nutrix, обозначавшим как женщину-кормилицу, так и римского раба[12]. Общий суффикс -trix («производительный женский фактор») представляет здесь продуктивность как таковую, соединяя (символическую) женственность с материнством как практикой. Этимологическая связь матрицы с производительностью через вскармливание и уход также весьма примечательна и будет подробнее проанализирована во второй части этой главы со ссылкой на философское понятие хора.
Ранние латинские (до I в. н. э.) значения матрицы – «самка животного, которую держат специально для размножения», или «беременное животное». Кроме того, слово матрица могло обозначать «родительское растение». Наиболее общим ранним значением было «источник и начало» («место рождения» или, в более широком смысле, «место порождения»). При этом слово matrix редко использовалась для обозначения «матки» (особенно человеческой матки) или «места происхождения». Стандартным латинским термином для обозначения матки было слово uterus, в то время как слово chora греческого происхождения было редким термином, сохранявшим оттенок материнства и использовавшимся античными философами в контексте размышлений о природе пространства и места. Первое упоминание матрицы в значении «матка», подробно рассмотренное Дж. Н. Адамсом в его «Латинском словаре сексуальности», имело место в Controversiae («Спорах») Сенеки Старшего, написанных в самом начале первого тысячелетия нашей эры: «…она более не удовлетворяет своего мужа как [matrix, матка] производительница потомства»[13]. Здесь, кажется, традиционный смысл «животного для размножения» привлекается для того, чтобы впервые использовать матрицу в значении матки-органа. Это слово у Сенеки отсылает к беременности не напрямую, а как к подразумеваемому следствию гетеросексуальных отношений. Адамс предполагает, что в этом переходном значении матка персонифицируется и что это использование понятия может рассматриваться как «двусмысленное», то есть находящееся в процессе становления. Утверждение значения матрицы как «матки» в поздней латыни частично основывалось на тесной семантической связи между «матерью – производительницей потомства» и «маткой»; эти слова зачастую использовались как взаимозаменяемые[14]. Отсюда понятно, почему традиционная близость понятий материя, мать и матка учитывалась при использовании слова matrix долгое время после того, как оно перестало обозначать «животное для размножения» и «родительское растение». В результате закрепления за ним значения «матки-органа» слово матрица стало широко использоваться в позднелатинской медицинской литературе. Адамс документирует его употребление в значении «матки» в трудах по гинекологии Теодора Присциана (около 400 г. н. э.), где оно уже вытесняет все другие слова для ее обозначения, включая uterus. В итоге исследователь приходит к следующему общему выводу: «…вполне справедливо предположить, что значительная частота использования слова matrix в поздних медицинских работах, взятых как целое, отражает его широкое употребление [в данном значении] в данное время»[15].
В Средние века и в эпоху Ренессанса слово матрица выжило лишь благодаря довольно ограниченному использованию в области печати и литья, став обозначением клише или формы, применяемой для производства различных рельефных изделий. Пусть даже некоторые этимологические словари (The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, 1981, 1744) отмечают, что между XIV и XVII столетием оно также использовалось в значении «места или среды, в которой нечто развивается» (около 1555), и «вмещающей или охватывающей массы» (1641), такое употребление было редким. Одно из наиболее поздних употреблений слова matrix в значении «матка» встречается в 1526 году (в переводе Библии на английский язык[16], однако для возникающих в этот период новых естественно-научных дисциплин, объединившихся под рубрикой «исследований порождения/ возникновения», слово uterus стало намного более общепринятым термином для обозначения «матки» в смысле органа (мышечной ткани), где развивается плод. Начиная с XIX века слово матрица все чаще использовалось для общих рассуждений о пространстве (в смысле «продуктивного и порождающего места»), в то время как слово матка (uterus) постепенно приобретало все более негативное содержание: как место страдания и разного рода других «проблем» (бешенство матки и т. д.)[17].
На основе приведенных примеров можно заключить, что значение слова matrix в английском языке колебалось между «местом порождения всех вещей и существ» и «формой для печати и литья». Важно отметить, что вплоть до недавнего времени матрица сохраняла смысловую привязку к материнскому телу в некоторых других индоевропейских языках. Однако в Новое время значение «матка» было полностью вытеснено другими значениями – такими как типографское клише и форма для отливки – также и в романских языках (ит. и фр. matrice), что сделало прежнюю привязку к «матке», «животному для размножения», «родительскому растению» и (в меньшей степени) «началу/источнику» устаревшей или недействительной. Для широкой публики, популярной науки, современного искусства и философии матрица вполне могла бы остаться никому не интересной «формой для литья» или загадочным и темным «истоком», если бы не Дж. Дж. Сильвестр. В 1850 году Сильвестр предложил использовать понятие матрица в математике. Именно этот эпизод сыграл роль отправного пункта для современного возобновления интереса к матрице, и именно с этого момента мы можем наблюдать стремительное расширение использования этого термина во множестве новых контекстов, сопровождающееся мутациями его значения, – в то время как его прежняя связь с «маткой» либо становится нарочито устаревшей, либо вовсе исчезает из памяти (как в случае с определением из Merriam-Webster Online Dictionary, приводимым ниже). Хотя сам Сильвестр привлек это слово в его историческом значении «матки», а не позаимствовал его из словаря печатников и литейщиков, он решил применить его для обозначения предельно абстрактных математических понятий. В своей биографии Сильвестра Карен Хангер Паршелл пишет, что впервые математик употребил термин «матрица» мимоходом в ноябре 1850 года, а затем еще раз в статье, опубликованной в 1851-м. Его нововведение сопровождалось показательным разъяснением: матрица – это «прямоугольный массив данных, который, как матка общего родителя, может порождать различные системы определителей»[18]. Подкрепляя мое предположение о том, что именно «порождающий» и «поддерживающе-формирующий» смысл матрицы являлся главной предпосылкой для широкой современной востребованности этого термина, Паршелл отмечает, что Сильвестр видел «неограниченные возможности… в матрице как базовой структуре и определителе как ключевом понятии, из нее вырастающем»[19]. Более того, Сильвестр считал процесс наименования крайне важным для развития математики и поэтому уделял ему подчеркнутое внимание. Он даже провозгласил себя «математическим Адамом»[20]. По мнению Паршелл, Сильвестр тем самым ставил себя в один ряд с теми, кто «дает начало новым жизням» и, соответственно, «обладает преимущественным правом именования своего потомства, посредством чего устанавливает над ним свое покровительство»[21].
Так, впервые через Сильвестра символическое значение матрицы как «производящего пространства» воссоединилось с ее прикладным смыслом как «формы для литья и печати». Для него математическая матрица является вместилищем и вещью наподобие матки. Скачок в его мысли происходит, когда он вводит понятие «общий родитель», то есть подменяет мать абстрактным заместителем через утверждение некоего «общего» права на матку. В выборе Сильвестром термина матрица сыграла роль надежда на то, что новые математические сущности, над которыми он (вместе с другими) работал, станут такими же «порождающими», как матка. Эта процедура создания нового математического термина осуществляется по схеме классической метафоры: она задействует семантические ассоциации с маткой и материнством, одновременно дистанцируя создаваемое значение от материнского тела. Таким образом, все версии использования термина матрица, проистекающие из этого конкретного семантического присвоения, остаются метафорами постольку, поскольку они представляются не «маткой» и обеспечивают тем самым потерю памяти о матрице как матки в современных значениях этого термина[22].
В XX веке матрица стала «зонтичным» термином для обозначения широкого разнообразия предметов, чисел, концептов и явлений, если и связанных между собой, то лишь смутным воспоминанием о чем-то пространственном, вместительном и эластичном. Главным свойством этого расплывчатого «нечто» является его способность «удерживать вещи вместе» и представлять их в пространстве как невидимую темную материю. Стремление сделать это «нечто» понятным и прирученным проявляется в склонности представлять его как можно более абстрактно (как, например, в математической теории матриц) и так, как будто бы имелась возможность отделения того, что создается, от среды создания; как будто это такой сосуд, в котором ничего нет. Матрица уподобляется идеальному инкубатору, который не оказывает на свое содержимое никакого воздействия (кроме поддержания самой жизни как таковой).
Результатом упомянутых выше метафорических операций с матрицей стали ее общепринятые в XX веке определения: с одной стороны, она трактуется как изначальное место, из которого развиваются и получают свое существование все вещи; с другой стороны, она превращается в предельно абстрактное, математически опосредованное понятие, отсылающее к пространственной организации чисел, вещей, идей и систем. Наглядной иллюстрацией этого тезиса может служить список значений слова матрица в современном употреблении, представленный в Merriam-Webster Online Dictionary.
«Этимология:
Латынь, самка животного, используемая для размножения; родительское растение; от matr-, mater
Дата: 1555
1: нечто, внутри или из чего нечто другое зарождается, развивается или обретает форму;
2а: отливочная форма, с помощью которой производятся рельефные изделия (напр., типографские литеры); b: устройство для формования или штамповки; с: пластина с выгравированным или вырезанным негативным изображением, служащая для отливки, чеканки или штамповки; d: создаваемый методом гальванопластики оттиск фонографической записи, используемый для массового производства копий оригинала;
3а: природный материал (например, почва, камень), в который включено нечто другое (например, окаменелость или кристалл); b: материал, в который нечто вложено или заключено (например, с целью изучения или защиты);
4а: внеклеточная субстанция, в которую встроены клетки ткани (например, соединительной ткани); b: утолщенный эпителий у основания ногтя руки или ноги, из которого исходит рост ногтевой пластинки;
5а: прямоугольная таблица каких-либо математических объектов (например, коэффициентов линейных уравнений), которая может образовывать суммы и произведения со схожими таблицами, имеющими соответствующее число строк и столбцов; b: нечто сходное с математической матрицей, особенно по признаку расположения элементов в горизонтальных строках и вертикальных столбцах; с: ряд или контур из отдельных элементов (например, диодов и транзисторов), выполняющий определенную функцию;
6: главное предложение, содержащее придаточное предложение»[23].
Таким образом, современное употребление слова matrix в англоязычном контексте выдвигает на первый план производительность («нечто, внутри или из чего нечто другое зарождается или обретает форму») и способность служить контейнером («материал, который содержит нечто другое»). При этом среди перечисленных выше определений отсутствует, пожалуй, самое примечательное и широко распространившееся метафорическое значение матрицы как виртуального пространства или киберпространства, – значение, которое было наиболее ярко проявлено и терминологически закреплено американским блокбастером «Матрица». Поскольку этому фильму посвящено уже довольно много комментариев[24], здесь будет достаточно подчеркнуть то обстоятельство, что большинство определений «матрицы» в этих комментариях и текстах умалчивают (или вскользь упоминают) о ее связи с материнским телом, однако при этом развивают в своих теориях порождающие и вмещающие свойства матричного пространства[25]. В самом фильме разные значения перемешались в одно ощущение этого «нечто» – матрицы. Так, своего рода визуальный логотип фильма (бегущие вертикально на черном экране зеленые числа, составляющие матрицу из нулей и единиц и заимствованные из японского оригинала) отсылает именно к математической матрице как массиву данных, хотя по сюжету фильма она скорее представляет собой машинно-порожденный мир, в который мы погружены как в сон, в то время как наши тела неподвижно томятся в матках-капсулах (мотив, который отсылает к платоновской метафоре «пещеры» и нередко анализируется с ее помощью). По словам одного из главных героев фильма Морфеуса: «Матрица повсюду, она вокруг нас, здесь, даже в этой комнате. Ты можешь увидеть ее из окна или на экране телевизора. Ты ощущаешь ее, когда идешь на работу, в церковь, когда ты платишь свои налоги. Это мир, которым заслонили твой взор, чтобы ты не мог осознать… что ты, как и все остальные, был рожден для рабства… что тебя держат в тюрьме, которую ты не можешь понюхать, попробовать на вкус или пощупать. Это тюрьма твоего разума. Матрица»[26].
Таким образом, путешествия и приключения слова матрица необычайны: от «самки животного, используемой для размножения» и «родительского растения» (а также «матки» в позднелатинском употреблении) до «главного предложения, содержащего придаточные предложения» и «тюрьмы разума». Все эти смысловые повороты и превращения, как и широкая востребованность матрицы в современном мышлении, определяются ее способностью эффективно и специфически растолковать пространство, будь то в математике, биологии или философии. Эту способность я называю «эффектом матрицы». Он позволяет представить пространство как гостеприимное, через его материализацию и/или порождение. В этом смысле матрица придает «пространству» «место». Матрица размещает пространство, позволяя его мыслить. Или, как на это указывают другие определения, матрица обладает формообразующей способностью; это понятие помогает ответить на вопрос о том, чем в нашем представлении являются формы и чем они опосредованы (особенно это заметно при изучении истории эмбриологии). Приняв значения «формы для отливки», «типографского клише», а затем «математического числового массива» и «киберпространства», на сегодняшний день термин матрица в философии, популярной культуре и биомедицине утратил какое-либо отношение к материнскому телу, за исключением чисто этимологической связи[27]. Это размежевание заслуживает внимания, поскольку оно закрывает возможность этического отношения к матери; выводя мать за пределы рассмотрения вопросов порождения и концепции (conception), матрица становится матереубийственной.
Понятие хоры позволяет нам продвинуться в понимании матрицы как гостеприимного пространства. Феминистский ракурс рассмотрения хоры, предложенный Люс Иригарей и Эмануэлой Бьянки, демонстрирует, в частности, каким образом абстрактная матрица может быть воссоединена с материнским телом. А это, в свою очередь, позволяет выработать обновленное представление о гостеприимстве, выходящее за рамки пассивной толерантности и включающее в себя порождающую способность материнского тела (как возможности, но не обязательности или автоматизма).
10
Использование двух различных слов для обозначения, с одной стороны, женского производительного органа, а с другой – числового массива или формы для тиражирования чего-либо характерно для многих современных индоевропейских языков. К примеру, в русском языке второе понятие обозначается словом «матрица», а первое – словом «матка», которое исходно связано по смыслу с «матерью» и «началом-истоком» и которое стало преимущественным обозначением телесного органа только в современную эпоху. Важно отметить, что русское слово матрица (так же, как английское matrix) не используется для обозначения телесного органа: несмотря на фонетическую, семантическую и этимологическую связь, матрица и матка не являются синонимами.
11
Baldi, Philip. The Foundations of Latin. New York: Mouton de Gruyter, 2002. p. 302.
12
Ernout, A., and Meillet, A. Dictionnaire étymologique de la langue Latine: Histoire des mots. Paris: Klicksieck, 1932. p. 565.
13
Adams, J. N. The Latin Sexual Vocabulary. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1982. p. 105.
14
Adams, J. N. The Latin Sexual Vocabulary. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1982. p. 106.
15
Adams, J. N. The Latin Sexual Vocabulary. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1982. p. 107.
16
Tyndale, W., and Dabney J. P. The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ; The Original Edition 1526. London: Bagster, 1837. p. 26.
17
Этимология слова uterus не вполне ясна; однако большинство источников связывают его с негативными коннотациями, включая происхождение от греческого слова hystera, давшего также название истерии и истерики. Предполагается, что слово uterus произошло из индоевропейского корня udero, означающего «чрево» (и использовавшегося как эвфемизм другого, табуированного слова), через латинское venter, означающее «чрево», «живот». История с замещением табу показательна, поскольку также указывает на в целом негативную историю uterus. Также и русское «ведро», восходящее к udero, указывает на все те же пространственно-вмещающие смыслы слова, связанного с беременностью и материнским телом.
18
Sylvester, цит. по: Parshall K. H. James Joseph Sylvester: Jewish Mathematician in a Victorian World. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2006. p. 102.
19
Sylvester, цит. по: Parshall K. H. James Joseph Sylvester: Jewish Mathematician in a Victorian World. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2006. p. 102.
20
Sylvester, цит. по: Parshall K. H. James Joseph Sylvester: Jewish Mathematician in a Victorian World. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2006. p. 111.
21
Sylvester, цит. по: Parshall K. H. James Joseph Sylvester: Jewish Mathematician in a Victorian World. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2006. p. 111.
22
Сильвестр ввел в словарь математики и другие термины, но ни один из них не приобрел такого широкого использования далеко за пределами математики – в компьютерных технологиях, инженерном деле, вычислительной биологии, экономике, бизнесе, финансах и т. д. Особенно успешным термин matrix оказался в применении к геометрии кривых и сложных поверхностей, дав потомство в виде таких понятий, как матричные группы, пассивные матрицы и др. Сегодня различные дисциплины, такие как биомедицина, геология, минералогия и химия, пользуются этим термином в двух значениях: во-первых, в математическом, а во-вторых – в значении объемлюще-поддерживающей структуры и носителя отпечатков.
23
Электронный ресурс: www.Merriam-Webster.com цитируется с разрешения создателей сайта.
24
См., в частности: Zizek, Slavoj. «The Matrix, or Two Sides of Perversion: Extending the Horizons of Continental Philosophy», in: Philosophy Today 43, 1999; Irwin, William, ed. The Matrix and Philosophy: Welcome to the Desert of the Real. Chicago: Open Court, 2005.
25
Немногочисленные исключения – текст Рейнера Эмига (Reiner Emig, Sexing the Matrix, 2006), в котором автор сквозь призму психоанализа обсуждает действующую в фильме «гетеросексуальную матрицу»; а также другие теории тела, разработанные Джудит Батлер и Мишелем Фуко.
26
Wachowski A., and Wachowski L. The Matrix: The Shooting Script. New York: New Market, 2001, p. 26. Славой Жижек суммировал задействованные в фильме определения матрицы, связав их с предельно абстрактной идеей сети, в которой все еще звучит отдаленное эхо «производительного и производящего» пространства: «Что такое Матрица? Просто… Большой Другой, виртуальный символический порядок, – сеть, структурирующая реальность для нас» (Zizek, ibid). Известны и другие попытки переописать матрицу (без ссылки на фильм) с помощью психоаналитических теорий. Так, в книге Брахи Эттингер (Ettinger, Bracha, L. The Matrixial Border Space. Minneapolis: Minnesota UP, 2006) матрица, связанная с внутриматочным пространством, трактуется как альтернатива Закону Отца.
27
Современные мыслители и ученые нередко обращаются к материнскому телу в связи с фундаментальными проблемами концептуализации пространства. К примеру, Роберт Каплан в статье «Есть ли там что-то?» показывает, что такие трактовки понятия «ничто», как «вакуум», «нуль» и в особенности поиск «абсолютного вакуума», были основаны на фундаментальной культурной ошибке, которая повлекла за собой столетия научных мук. Он стремится «материализовать» западную концепцию «ничто», связав ее с древнеиндийским понятием «пустота» (шунья), ассоциирующимся с беременностью: «Кант справедливо указал на то, что мы способны представить себе пространство без объектов, но никогда – объекты без пространства. Однако современные физические исследования микро- и макроструктур, как кажется, продемонстрировали нам, что мы не можем мыслить действительное пространство как пустое. Разве его искривления, обнимающие галактики, и его способность служить матрицей для исчезающих и вновь возникающих частиц не согласуются полностью с нашим обновленным пониманием индийской пустоты, шуньи, как не пустой, но беременной?» (Kaplan, Robert. «Is it Out There?», in: Graham Gussin and Ele Carpenter, eds., Nothing, 64–76. New York: Nothern Gallery of Contemporary Art / Birkhauser, 2001. p. 67).