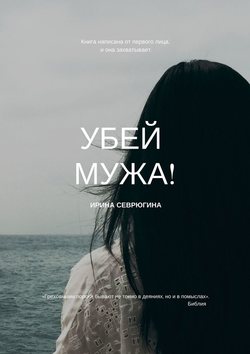Читать книгу Убей мужа! «Греховными пороки бывают не токмо в деяниях, но и в помыслах». Библия - Ирина Владимировна Севрюгина, Ирина Владимировна Соболева, Ирина Владимировна Щеглова - Страница 2
«УБЕЙ МУЖА!»
Греховными бывают не только деяния, но и помыслы
Глава 1
ОглавлениеСегодня пасмурно и холодно. Май перевалил за свой половинчатый рубеж и стремительно приближается к лету. Но в это время цветёт сирень, а по преданию, буйство её красок и запахов всегда сопровождается похолоданием и даже, случается, заморозками. Никуда не хочется идти, ни с кем не хочется общаться, а хочется писать-писать-писать. Сплин.
Через месяц моему сыну исполнится восемнадцать лет, наступит его совершеннолетие. И у меня друг возникла потребность подвести незримую черту, отделяющую его отрочество от детства, и будто бы отчитаться перед ним о проделанной, так сказать, работе, а главное, оправдаться и покаяться, как на духу. Теперь, когда мой сын стал совсем взрослым, я могу рассказать все без утайки. Надеюсь, он поймёт меня и простит.
Родился он в июне во вторник в половине четвертого утра в роддоме, что в Петровско-Стрешневском парке, недалеко от станции метро «Сокол» и нашего дома на Волоколамском шоссе, где мы тогда жили в коммуналке. Он был желанным ребенком, планируемым нами, его родителями, добросовестно и неутомимо корпевшими над его зачатием восемь с половиной месяцев назад.
И вот, немного раньше положенного срока появился на свет мой мальчик. Всю ночь лил тогда дождь, как из ведра, сверкали молнии и гремел гром такой страшной силы, что казалось, сотрясалась вся вселенная. Рожала я очень долго, целые сутки, орала, что есть мочи, навлекая на себя гнев медперсонала. Один только Яков Семенович, врач-акушер, был ко мне благосклонен. Не став применять садистские щипцы для извлечения плода, которыми меня пугали разъяренные акушерки, видимо обиженные на то, что я не дала им ночью поспать, он навалился всей своей тяжестью зрелого мужчины на мой огромный живот и выдавил из моей утробы трёхсот двадцати граммовый жёлтый комочек, уже начавший было задыхаться. Через паузу комочек подал голос младенческим басом, так что сразу стало ясно – мальчик. Тогда, ещё в советское время, в самое худшее, причем, когда в магазинах было пусто, хоть шаром покати, и народ был злой с голодухи, к пациентам в больницах, и особенно в роддомах (ну, не во всех, конечно, я думаю, мне просто не очень-то повезло), относились по-скотски. После родов меня вывезли на каталке в коридор и оставили часа на два-три, пока не пришла на работу новая смена акушеров. Но зла я на них не держу и из всей этой эпопеи помню только то, что доктор Яков Семёнович «выдавил» моего единственного ребенка из меня целым, здоровым и невредимым.
Двое суток мне не приносили его кормить, потому что, как мне объяснили, он был слишком слаб, чтобы брать грудь. А когда принесли, он присосался так, что невозможно было оторвать. Проголодался. Детский врач сказала, что он был на волосок от гибели. Обессиленный, слегка придушенный при родах, когда отчаянно буравил выход головой, он был похож на гуманоида с закрытыми крепко-накрепко глазами неизвестного цвета и огромными бантиком папиными губами.
– «Ваш ребёнок очень хочет жить, судя по всему, – сказала сестричка, показывая мне сына издалека. – Доктор всю ночь от него не отходила, мы уж думали, что он не выживет».
Это были самые первые страхи за моего ребёнка. Дальше – больше: от уколов в голову у него начался абсцесс, и на пятые сутки из роддома его отправили в Русаковскую больницу. Ко мне тогда на помощь приехала моя мама, бабушка Надя с Украины, – и это было моим спасением.
Отец моего сына, ростовский парень, все последующие дни крепко пил на радостях, обмывая рождение наследника. И днём и ночью он кричал с балкона на весь район: «„У меня сын родился! Казак!“» На следующий день после явления отпрыска на свет божий он принёс под окна роддома букет бордовых роз, и, недолго думая, влез на подоконник, и стал орать во всё горло, что у него родился казак. Дед Володя из Ростова приехал по такому радостному случаю и тоже пил и кричал про рождение казака. На пятый день казачка бабушка Аля, моя свекровь, встречала нас одна у порога больницы без цветов и, увидав сморщенное личико ребёнка, усомнилась вслух в том, что он здоров и будет жить. В этом она вся как есть – женщина-вамп, бульдозер, асфальтовый каток, разрушительная сила, заявившая ещё на нашей свадьбе при всём честном народе, что хотела бы своему сыну совсем другую партию.
Каждое утро моя мама провожала меня в Русаковскую больницу, где лежал в одноместном боксе мой ребёнок с перебинтованной головой, один, как лунь. Голодный, он набрасывался на мою грудь, жадно поглощая материнское молоко, но не наедаясь, по всей видимости, потому орал громко и требовательно, едва отпрянув от груди. А, может, он просто возмущался от непонимания, почему его так надолго, на целую ночь, оставляют в стеклянном боксе одного без материнского присмотра. Но правила в этой больнице были таковы, что вечером каждого дня я должна была покидать её стены и уезжать домой, чтобы на утро снова туда возвращаться (безжалостные правила совка в стиле фильмов-ужасов). После двух недель моих мытарств мама мне сказала:
– Вот что, дорогая, забирай-ка ты своего сына домой под расписку.
– Но врач сказала, что мозжечок у ребёнка ещё не зарос, а кожица в этом месте, как пергаментная бумага, тонкая, и она не знает, жилец ли мой ребёнок на этом свете, – в страхе, нагнетаемом на меня со всех сторон, промямлила я.
– Забирай, – скомандовала мама.
Как медицинская сестра, она знала, что врачи обычно перестраховываются, чтобы не нести ответственность в случае чего. Но что стоило мне пережить их перебдения, они, конечно же, и не догадывались. Вскоре у меня начались осложнения после родов, меня увезли на «скорой» в больницу исправлять халтурную работу принимавших роды «аистов». Благо, было на кого положиться: бабушка Надя оставалась с малышом.
Папа моего сына гастролировал, у коллектива, в котором он работал, был в то время «чёс» по городам и сёлам нашей необъятной Родины. Бабушка Аля не появлялась вообще, у неё тогда был очередной бурный роман в самом разгаре с неким Николаем Ивановичем, ныне уже покойным (царствие ему небесное), так что ей было не до нас. И бабушка Надя отдувалась за всех одна, успешно, надо сказать, со всем справившись. Но и она через два месяца уехала к отцу в Черкассы, так как тот, как дитя малое, без неё не мог существовать и дня, а тут прошла целая вечность – два месяца. Мы остались с сыном вдвоем. Его отец периодически появлялся между гастролями; спал, ел, разговаривал по телефону и уходил по своим делам. Но я старалась его понять, ведь творческий процесс, думала я, невозможно остановить никакими обстоятельствами. И я оставалась бы и дальше в неведении того, что всё кардинально изменилось. Но однажды я случайно сняла параллельную трубку телефона в коридоре и услышала женский голос, вопрошающий:
– Почему ты молчишь, что, жена рядом?
Меня будто облили расплавленным свинцом. Я влетаю в комнату с глазами на лбу и ору:
– Как ты можешь?
Я так перенервничала, что у меня перегорело молоко. Если бы он не ползал у меня в ногах, вымаливая прощение и клянясь в верности, я бы уже тогда ушла от него. Боль была невыносимой. Это даже не ревность, нет, это смертельная обида, причинённая самому слабому в тот момент, беспомощному существу – первородящей матери его ребенка. Не мне ли он клялся в любви и называл меня единственной, умнейшей из умнейших, красивейшей из красивейших?! А я-то, глупая, думала, что так будет всегда (у меня богатое воображение, не жалуюсь). И вдруг оказалось, что у него есть другая женщина, в такой ответственный, трудный момент в моей жизни.
Но я простила его, конечно же, как прощала и после его эгоизм, безучастие и даже жестокость. Когда я, намаявшись за день, по ночам не могла встать, чтобы перепеленать и напоить ребёнка, просила его подойти к нему, разрывающемуся от рыданий, он бесился и посылал нас обоих куда подальше. Надо сказать, он не сразу воспылал к сыну любовью. Очень долгое время он часто напивался, где-то пропадая сутками, и лишь изредка позванивая домой. А однажды он позвонил ночью со студии, на которой записывал новую песню, и заплетающимся языком спросил: «Ты больше не любишь меня? Теперь для тебя самый главный человек – сын, а я тебе больше не нужен?» Вот оно – мужское эго, возведенное в степень.
Рос и развивался мой сын очень стремительно, быстрее своих сверстников. На пятом месяце сам поднимался, чтобы сесть, на шестом подолгу ходил, держась за мои руки, по нашей с отцом кровати взад-вперед. А кушать любил много, и потому весил прилично, так что ножки от ходьбы к шести месяцам искривились, как у кавалериста.
Ползать он не стал, сразу пошёл, сначала по манежу, потом по стеночке самостоятельно. Называла я его Нюсей (от слова манюся). А вот зубы появились поздно, только к году первые четыре выросли после поездки к бабушке Але на подмосковную дачу, видимо, от свежего воздуха. Зато разговаривает он с года и трех месяцев. Как-то утром проснулся и говорит: «Мама, вставай», – я так и подскочила от удивления. А ещё через месяц он заявил: «Пойдем гулять!»
В этом возрасте мой ребёнок очень полюбил книги и легко различал предметы на картинках: реакция быстрая, память великолепная. Он приводил меня в неописуемый восторг своей ранней сообразительностью. Вскоре он уже узнавал почти всех животных в книге «Атлас мира» и очень был горд своими познаниями. И уже рассказывал два стишка.
Когда сын был совсем ещё маленький, я какое-то время вела дневник.
Вот, что я тогда писала:
«Детский врач в поликлинике так была удивлена столь ранним развитием моего ребенка, что записала эти стишки и целые фразы, которые он произносил довольно рассудительно, прямо в карту истории болезней. В два года мой Нюся читал стихи К. И. Чуковского «Муха-цокотуха», «Федорино горе», «Телефон». И на вопрос, кто написал эти стихи, он отвечал: «Корней Иванович».
А Пушкина мы читали с ним вдвоем: я начинала, а он заканчивал, примерно так. Я говорю: «Жил-был…", – Нюся продолжает: «…поп, тояконный ёб». Все рифмы он помнил безошибочно.
В это лето я серьёзно заболела, и потому читали мы с ним всё реже и реже, да к тому же я решила дать его памяти отдохнуть, так что к осени он все стихи позабыл. Зато он стал говорить мне «моя любимая мамочка, моя красивая мамочка». Он пел свою любимую песню Бутусова «Я хочу быть с тобой», да так старательно выпевал мелодию, что иногда попадал в нужные ноты, а ритмический рисунок уже тогда получался безукоризненным со всеми положенными синкопами. Он играл на гитаре, коей являлась кегля или палка, растопырив ноги в стойке рок-гитариста. А когда папа принёс настоящую гитару, он кружил над нею весь этот вечер, еле уложила спать, и первое, о чём он спросил, проснувшись на следующее утро, было: «Где моя гитара?»»
На «апанине» (пианино) играл, как папа, двумя руками, «натафон» (магнитофон) просил включать с двумя песнями – «Я тебе не верю» и «Я хочу быть с тобой». Любимая английская рок-группа была «Nazaret», папу называл «папакой», просил попить вопросительно: «Чаеку нам?» «Мама, я каток взамнив», – это значит, молоток взял, а «надив» – нашёл, а «я кому казяв» – сказал.
Когда осенью мне пришлось лечь надолго в больницу, папа очень сильно привязался к сыну и даже сделал для себя открытие, что такого чувства безумной любви он не испытывал ни к своей матери, ни к своей любимой жене, то есть ко мне. И сын так проникся к папе высокими чувствами, что теперь уже ему признавался в пламенной любви, и папа платил сыну тем же. Как-то сын проговорил какие-то рифмы, правда, на своем, на тарабарском, а папа спрашивает: «Ты что, поэт Пушкин?» Он отвечает: «Да, я поэт, я буду стихи писать», – вот такие заявочки на третьем году жизни. А когда папа дал ему штаны с поручением одеться, он сказал: «Нет проблем», – и одел (задом наперёд, правда).
В начале лета того года мы с сыном ездили в гости в Черкассы, что на Украине, к нашим родственникам – моей сестре с мужем «тете Маси» и «дяде Сяси». Мой Нюська хвостиком ходил за двоюродным братиком Ванькой, старшим на пять лет, и «обезьянничал» во всём, что тот ему показывал. Так он научился стойке «каятэ» (карате) и очень нас смешил взбрыкиванием одной ноги в сторону и руки вперед с воплем «кия» – настоящий хунвейбин. Такой забавный малыш! «Мася, я буду кусять (кушать)». «Сяся, дасьте (здравствуйте)!» – говрил мой сын на своём тарабарском. А с двоюродной сестрой Анечкой, совсем уже большой девочкой, всё время дрался, не жаловал её, почему-то. Он охотно рассказывал стишки на бис, но записываться на магнитофон не хотел категорически, твердо заявив: «Не хоцу.»
За эту поездку сын очень изменился, как-то резко повзрослел. Он уже почти совсем не капризничал. Особенная страсть у него там, на Днепре, была к кораблям; всюду виделись ему одни корабли, без конца раздавался восторженный крик: «Ковабздик!» Там, на огромной реке, где она разливается Крименчужским водохранилищем и где поистине «редкая птица долетит до середины Днепра», мы видели много кораблей и даже катались на прогулочном катере к великому нашему всеобщему удовольствию.
В поезде ему тоже очень нравилось ехать. Он всю дорогу смиренно смотрел в окно и безошибочно различал встречные поезда: где пассажирский, а где товарняк. Как я поняла, сын у нас «лягушка-путешественник». Да и кем же ему ещё быть в семье артистов?
В Москву мы вернулись с Анечкой. У неё начались летние каникулы после окончания девятого класса, и мы забрали её погостить у нас. Сын мой так обращался к своей пятнадцатилетней сестре, будто они были ровесниками, не замечая и отвергая её старательную взрослость, стирая огромную возрастную разницу между ними, но, в сущности, ещё детьми.
Пока я лечусь в больнице, в дом к нам понаехало нянек: бабушка Надя и дедушка Володя из Черкасс (деды у Нюси оба Володи). Наш любвеобильный сыночек уже и им стал признаваться в любви, целовал, обнимал их то и дело, слушался беспрекословно, – очень благодарный ребенок. Когда бабушка ложилась отдохнуть, он поглаживал её по лицу и приговаривал: «Бабушка устала, бедненькая». Жалостливый мальчик, он ещё в год проявлял чудеса сострадания, к другой своей бабушке, точнее, к прабабушке Марусе. А дело было так.
Гуляли мы с сыном и с моей бабушкой Марусей, которая жила после смерти деда с нами и тоже иногда выходила на прогулку, хоть и была совсем старенькой, в сквере недалеко от дома. И вот, сидела она как-то раз на скамейке, а Нюся, только что научившийся ходить как следует, крутился возле неё. Вдруг, откуда не возьмись, подбегает какой-то мальчишка чуть постарше и замахивается на бабушку палкой. Мой храбрый сын, насупив грозно брови, идёт на таран к этому задире, отпихивает его и, прижавшись к бабушкиным коленям, заслоняет её собой. О, бабушка Маруся обожала своего правнучка, всё приговаривала: «Как королек, как королек!» – с ударением на второй слог.»
Вот ещё кое-что из моего дневника:
«Ну, вот я и дома. Ребёнок мой подрос за долгие три месяца моего больничного заточения, опять заметно повзрослел, стал самостоятельным вполне: ест без слюнявчика, одевается сам, пусть и наизнанку по-прежнему и задом наперёд, но было бы, как говорится, желание всё делать самому.
С папой у них был дуэт рокеров: один играет на пианино, другой – на гитаре, и оба истошно вопят на самых немыслимо высоких нотах. При этом Нюська, расставив широко ноги, одной подёргивает точно в такт, а личиком симпатично гримасничает и то вскидывает голову назад, развеивая отросшие до плеч волосы, то припадает на одно колено, наклоняясь до пола. Такой рок-концерт они с папой устроили однажды на дне рождения соседки по дому Дарьи, любимой тогда подружки моего сына. Ему уже два с половиной годика. Первое, чем мы с ним занялись на досуге после моего возвращения домой, спустя немало времени после наших первоначальных интеллектуальных занятий, – чтением книг. Ему очень нравились две сказки А. С. Пушкина – «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке». Примерно через полмесяца он знал их наизусть. Он донимал меня с утра до вечера просьбой почитать «про царю Дадону и царю Салтану». Обе сказки смешались у него в голове в одну, он запутался в царях-князьях Дадоне, Салтане, Гвидоне и, видимо, затем, чтобы внести ясность, требовал читать ему эти сказки как можно чаще.
Надо сказать, мальчик у нас с младенчества был серьезным, с ним не забалуешь. Однажды во время завтрака на моё предложение съесть ложечку кашки за царя Дадона, которое я внесла со смутной надеждой этим старым испытанным, казалось бы, бабушкиным способом обвести его вокруг пальца и запихать в него кашки побольше, (а он её всё меньше любил по мере взросления), он вдруг неожиданно заявил: «Царь Дадон за себя сам съест кашку». Да, такие наивные методы нам уже не подходят».
На этом мои записи обрываются, наверное, было уже не до них, так как грозные тучи над моей головой сгущались и становились всё чернее день ото дня.