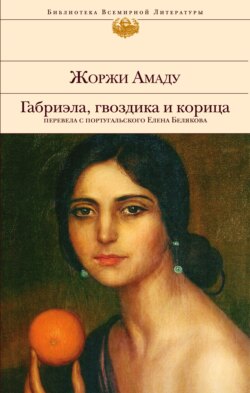Читать книгу Габриэла, гвоздика и корица - Жоржи Амаду - Страница 2
Предисловие. Наш любимый[1] Жоржи
ОглавлениеЖоржи Амаду по праву считается самым выдающимся писателем Бразилии, его называют бразильским Бальзаком и бразильским Горьким, его книги переведены на сорок девять языков и изданы в восьмидесяти странах, он лауреат всех литературных премий мира, кроме Нобелевской.
Жоржи Амаду – это гений писателя и пламенное сердце борца, протестующего против любой социальной несправедливости.
Для нас, русских читателей, Жоржи Амаду – сама бразильская литература. Как сказал бы другой классик, мы говорим «бразильская литература», подразумеваем – Амаду, мы говорим «Амаду», подразумеваем – бразильская литература. Скажу больше: для русского человека Жоржи Амаду – это сама Бразилия. Амаду открыл нам душу бразильского народа, сделал понятными и близкими его страдания, радости и надежды. Не случайно именно байянец открыл Бразилию миру, ведь Баия – квинтэссенция Бразилии. Штат Баия – тот самый плавильный котёл, где соединялись культуры и языки разных народов. Разноязыкие европейцы, африканцы, индейцы – все внесли вклад в культуру и язык Бразилии, и начало этому было положено здесь, в Баии. Отсюда «есть пошла бразильская земля», а Сан-Салвадор-да-Баия-ди-Тодус-ус-Сантус стал матерью городов бразильских. Здесь, на территории будущего штата Баия, в Порту-Сегуру в 1500 году высадились первые португальцы под руководством Педру Алвариша Кабрала. Годом позже, 1 ноября 1501 года, в День Всех Святых, португальская экспедиция, возглавляемая португальцем Гаспаром ди Лемосом и итальянцем Америго Веспуччи, открыла залив, которому дала название бухта Всех Святых. Бухта дала имя городу, а потом и всему штату. Почти полвека спустя, в 1549 году, на берегу залива был заложен город Сан-Салвадор-да-Баия-ди-Тодус-ус-Сантус, который был столицей Бразилии более 200 лет – до 1763 года. На картах этот город отмечен как Салвадор, а народ называет его нежным именем Баия.
Будущий писатель родился 10 августа 1912 года на фазенде Аурисидия в муниципалитете Ильеус, на юге штата Баия. Факт, казалось бы, общеизвестный и сомнений не вызывающий. Ан нет, споры вызывает и место рождения, и даже имя писателя. В некоторых источниках говорится, что его полное имя – Жоржи Леал Амаду ди Фария. Это утверждение не имеет отношения к реальности. В метрическом свидетельстве о рождении будущий писатель записан именно так: Жоржи Амаду – и никаких Леал ди Фария. На праздновании столетия Амаду его дочь Палома так объяснила этот казус: информацию выдумал какой-то журналист, и она разошлась по средствам массовой информации вплоть до Википедии. Что касается места рождения, то здесь вообще полнейшая путаница. В некоторых источниках таковым называется посёлок Феррадас в муниципалитете Итабуна, в других – деревня Пиранжи. Вот что говорил по этому поводу сам Амаду: «В справочниках часто пишут, что я родился в Пиранжи. Это не так. Это Пиранжи родился на моих глазах. Мне было около четырёх лет, когда мы с отцом верхом впервые приехали туда. Там стояло три домика. Теперь это город…»[2]. В 1944 году Пиранжи переименовали в Итажуипи, а в 1952 году был образован отдельный муниципалитет. Согласно современному административному делению территория фазенды Аурисидия относится к муниципалитету Итажуипи, но в 1912 году она относилась к Ильеусу. В Феррадасе Амаду был зарегистрирован и получил то самое свидетельство о рождении, о котором говорилось выше. Поскольку ни в Итабуне, ни в Итажуипи Амаду никогда не жил, а своей родиной всегда считал Ильеус, то нет никакой необходимости учитывать изменения в административно-территориальном делении штата Баия.
В советское время писали, что Жоржи Амаду происходит из семьи бедных крестьян, в постсоветское – что из семьи богатых фазендейро. И то и другое не соответствует истине. Конечно, семья Амаду была одной из самых уважаемых в Ильеусе и достаточно состоятельной, чтобы построить самый красивый в Ильеусе дом и дать высшее образование трём сыновьям, что в 30-е годы было весьма недёшево. Но родители его были люди самые простые. Отец, Жоау Амаду ди Фария, уроженец штата Сержипи, приехал в Ильеус в 1902 году без гроша в кармане в поисках лучшей жизни. В начале двадцатого века слухи о богатстве «земли золотых плодов», как называли тогда Ильеус, привлекли тысячи переселенцев из всех уголков Бразилии: правительство штата бесплатно давало землю желающим выращивать какао. Одним из таких переселенцев был Жоау Амаду. В Ильеусе он женился на уроженке Баии Эулалии Феррейра Леал, которая зарабатывала на жизнь изготовлением кондитерских изделий. Жоржи Амаду – истинный сын Бразилии, в его жилах смешалась португальская, индейская и африканская кровь. В роду его отца были негры-рабы, а мать – наполовину индианка. Дед Амаду, Лидио Феррейра Леал, встретил в сельве молодую индианку, привёл домой и женился на ней.
Жоау Амаду получил участок леса и своими руками вырубил сельву под плантацию какао. Но земли на всех не хватило, и владельцам плантаций приходилось с оружием в руках её защищать. Жоржи было десять месяцев, когда его отец был ранен в перестрелке и чудом спасся.
Через год из-за эпидемии оспы семья переезжает в Ильеус. Там у Жоржи появились на свет два младших брата: Жоэлсон и Жамес.
В 1917 году Жоау Амаду решил снова заняться выращиванием какао, и семья переехала на фазенду Таранга в той же Итажуипи. Но с фазендами ему как-то не очень везло, разбогатеть отцу писателя так и не удалось. Конечно, трёхэтажный дом семьи Амаду стоит в самом центре Ильеуса, рядом с собором, он украшен каррарским мрамором, португальскими изразцами и витражами, только построен этот дом не на доходы с фазенды, а на выигрыш в лотерею. Семья переехала в этот дом в 1926 году, однако прожила там не более 10 лет. Из-за наводнения реки Кашуэйра родители Жоржи потеряли фазенду и вынуждены были продать дом.
Начальное образование будущий писатель получил в Ильеусе, в школе доны Гильермины, а в 1922 году отец отправил Жоржи в столицу штата, город Салвадор, в иезуитский колледж Антонио Виэйры. Именно там произошло одно знаменательное событие. Однажды после очередного сочинения учитель португальского языка Луис Гонзага Кабрал вызвал Жоржи к доске и обратился к классу со словами: «Запомните, этот ваш товарищ через несколько лет станет величайшим писателем Бразилии». Но столь высокая оценка его таланта не примирила юного автора с атмосферой в школе отцов-иезуитов: телесные наказания, голод, насекомые – и мальчик в 1924 году сбегает из колледжа. Два месяца он шёл пешком к своему деду в соседний штат Сержипи. После этого родители вернули его в Салвадор, но уже в другое учебное заведение – гимназию Ипиранга. Там он стал издавать школьную газету «А Фолья». Но и в этой школе он продержался только до 1927 года.
Существует два типа писателей: одни живут в башне из слоновой кости и наблюдают мир со стороны, а другие бросаются переделывать этот мир. Жоржи Амаду принадлежал ко второму. Он всегда был деятелем, а не наблюдателем, поэтому в пятнадцать лет Жоржи окончательно бросает школу и окунается в самую гущу байянской жизни: устраивается криминальным репортёром в газету «Диариу да Баия» и снимает комнату в доме 68 на Ладейра ду Пелоуринью, самом бедном в ту пору районе города.
«Годы ранней юности, проведённые на улицах Баии, в её порту, на ярмарках и рынках, на народных праздниках или состязаниях капоэйры, на магическом кандомблэ или на папертях древних церквей, – вот мой лучший университет; здесь мне был дарован хлеб поэзии, здесь я познал боль и радость своего народа». Так определил истоки своего творчества сам Амаду в речи, которую он произнёс при избрании в Бразильскую академию литературы в 1961 году.
Начало тридцатых годов – важнейший этап в судьбе юного Амаду: именно тогда восемнадцатилетний юноша выбрал свой жизненный путь. Вот как он сам говорил об этом в 1954 году на II съезде советских писателей: «С сердцем, полным благодарности, вспоминаю я сейчас глубокое, неизгладимое впечатление, которое произвёл на меня первый прочитанный мною советский роман. Было это в далёком 1931 году. Я был тогда молодым писателем, страстно и трагически искавшим свой путь гражданина и стремившимся найти верное направление для своего творчества. Маленькое бедное издательство «Пас» начало свою деятельность публикацией романа «Железный поток» Серафимовича. До сего дня сохраняю я в памяти моей огромное впечатление от этой страстной книги. Её страницы донесли до нас горячее дыхание революции, картину шторма и созидания нового мира. С тех пор я чувствовал себя связанным с романом и писателем, связанным с этим миром, рождающимся в буре; я чувствовал свою связь с идеями, которые дают людям, защищающим их, эту героическую силу гигантов».
К тому времени Баия становится тесной для талантливого молодого человека. Как он вспоминал впоследствии, Салвадор в то время был маленьким провинциальным городом, где ничего не происходило. Поэтому в 1930 году он уезжает в Рио-де-Жанейро и поступает на юридический факультет университета. Теперь его жизнь изобилует событиями. Но и здесь учёба интересует Жоржи меньше всего. Гораздо важнее для него творчество и политика. В 1931 году тиражом в одну тысячу экземпляров выходит его первый роман «Страна карнавала». Уже эта первая тоненькая книжка обратила на себя внимание читателей, а опубликованный в 1933 году роман «Какао» сделал его двадцатилетнего автора самым известным писателем Бразилии. Первый тираж в две тысячи экземпляров был распродан за месяц – для Бразилии явление невиданное. Такой же интерес вызвала и его следующая книга, «Пот». Как позднее написал другой известный бразильский писатель, Эрику Вериссиму, «Худой, с китайским разрезом глаз байянец, убежавший из дома и жадно окунувшийся в гущу жизни, полон любви к угнетённым и униженным; в 23 года он стал крупнейшим романистом Бразилии».
Чтобы понять, почему эти юношеские произведения, в которых нет ещё стиля Амаду, изысканной красоты языка, сделали его писателем номер один, надо знать литературную обстановку в Бразилии в то время. Самым популярным писателем тогда был Коэльо Нето. Амаду так охарактеризовал его творения в своей книге «Рыцарь надежды»:
«Сподвижники Коэльо Нето именовали его «принцем бразильских писателей». Он опубликовал две сотни книг… Но среди многих тысяч написанных им строк не было ни одного слова о людях, борющихся за Амазонию, и ни одного проклятия по адресу тех, кто предавал Амазонию иностранным интересам. Коэльо Нето не хотел знать «неизящных слов». Литература всего этого направления – бездушная, мёртвая. Писатели этого направления продавали своё перо за объедки с барского стола. Это самая отвратительная, лживая и бесполезная литература в мире…» (Похоже, писатели по фамилии Коэльо губительны для бразильской литературы.) А в несовершенных, неизящных книгах Амаду современники увидели реальную жизнь, в них поднимались острые социальные вопросы, волновавшие всю Бразилию. Так юный автор начал летопись своего родного края – Баии. В его книгах Баия будет представлена во всём её многообразии: её природа, её экономика, культура, кулинария, верования и праздники, но, самое главное, – её люди, земляки писателя, его герои, его друзья. Сам Амаду называл «Какао» и «Пот» литературой факта. Жоржи Амаду всегда писал только о том, что увидел и пережил сам, что пропустил через своё сердце. В первой книге он описывает труд батраков на плантации какао, во второй – жизнь обитателей того самого дома 68 на Ладейра ду Пелоуринью, где когда-то жил сам.
В западном литературоведении до сих пор бытует мнение, что впервые произведения Жоржи Амаду («Какао» и «Пот») были изданы в Советском Союзе ещё в 1935 году. Однако это не так. В пятом номере журнала «Интернациональная литература» за 1934 год была опубликована только заметка, информирующая о выходе в Бразилии революционных романов Амаду, а сами книги на русский до сих пор не переведены. Знакомство советских читателей с творчеством Жоржи Амаду произошло на четырнадцать лет позже, в 1948 году, когда был опубликован перевод романа «Город Ильеус». Можно долго гадать, почему первые книги Амаду не были опубликованы, но мне кажется, ответ на этот вопрос даёт сам Амаду в письме к своему первому советскому корреспонденту Давиду Выгодскому. Обсуждая возможность перевода «Какао» на русский язык, Амаду говорит: «Но книга, подобная “Какао”, не может заинтересовать народ, у которого есть такой роман, как “Цемент”»[3].
Не менее, а может быть, даже более важным была для молодого Амаду революционная борьба. В 1932 году он вступает в Коммунистическую партию Бразилии. Что привело его туда? Участие в коммунистическом движении не было предопределено его социальным происхождением. Амаду мог бы стать модным писателем или адвокатом, а стал профессиональным революционером. Очень впечатлительный, тонко чувствующий, Жоржи Амаду не мог равнодушно смотреть на нищету и страдания своего народа. В Бразилии той эпохи разрыв между бедными и богатыми был чудовищный. Все богатства страны сосредоточились в руках горстки латифундистов и промышленников, а на долю миллионов простых людей доставались нищета, неграмотность, голод. Трудно представить, что в этой богатейшей стране мира ещё в начале двадцать первого века люди умирали от голода, а в тридцатые годы века прошлого это явление носило массовый характер. Жоржи Амаду, с его горячим сердцем, не мог смириться с чудовищной социальной несправедливостью, поэтому выбрал путь борьбы. К сожалению, по понятным причинам, очень мало известно о подпольной работе Амаду. Но можно догадаться, что это было не только изучение классиков марксизма. После первого тюремного заключения в 1936 году он говорил: «Мы боролись за свободу с оружием в руках». Легальная часть политической деятельности известна больше: в 1934 году он руководит Первым конгрессом трудящейся и студенческой молодёжи Бразилии, а в 1935-м принимает самое активное участие в работе Национально-освободительного альянса, созданного компартией для объединения противников профашистского режима Жетулиу Варгаса[4]. Программа Альянса включала ликвидацию латифундий, национализацию крупных промышленных предприятий, демократизацию общественной жизни, запрещение фашистской организации, создание народного революционного правительства. Эта программа получила поддержку народа и напугала правительство Варгаса. В июле 1935 года Альянс был запрещён, активисты Альянса перешли на нелегальное положение, но не сдались. В ответ на террор в нескольких городах Бразилии в ноябре 1935 года начались вооружённые восстания, самым серьёзным из которых было восстание в Натале, столице штата Риу-Гранди-ду-Норти. Восставшие захватили власть в городе и создали Народно-революционное правительство. Были национализированы банки, почта и телеграф, сформированы отряды народной милиции, освобождены политические заключённые. Восстание было подавлено через четыре дня, после чего в стране начались жесточайшие репрессии, в первую очередь против коммунистов. Генеральный секретарь коммунистической партии Луис Карлос Престес был приговорён к тридцати годам тюрьмы. Тогда же в первый раз был арестован и Жоржи Амаду, а после тюремного заключения вынужден эмигрировать в Мексику.
Жоржи Амаду никогда не был «диванным революционером», он на собственном опыте знал, что такое подполье, тюрьма, эмиграция, и отражал этот опыт в своих новых произведениях. Для Амаду революция и творчество были неразрывны, поэтому в разгар политической борьбы в 1935 и 1936 годах он издаёт два новых романа, «Жубиаба» и «Мёртвое море», которые являются подлинным художественным открытием двадцатого века. Невероятно, но факт: двадцатилетний романист стал основоположником нового направления в литературе – магического реализма. Магический реализм – это не сказки и не фэнтези, это отражение особого, мифологического сознания, когда сверхъестественное воспринимается как часть реальности. Необходимо отметить, что этот термин применим только к латиноамериканской литературе. Много лет спустя Гарсиа Маркес так объяснил данный феномен: «В Латинской Америке всё возможно. В ней всё реально. Здесь изо дня в день случаются самые невероятные вещи, поэтому латиноамериканская реальность может дать мировой литературе нечто новое»[5]. Самый яркий пример такой невероятной реальности – история Кинкаса Сгинь Вода, описанная Амаду в новелле «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода». Этот Кинкас на самом деле существовал, хотя и носил другое имя.
Уже в «Жубиабе» и «Мёртвом море» Жоржи Амаду выступает подлинным новатором, когда смело соединяет миф и реальность, эпос и лирику. Так он создаёт «чудесную реальность» Бразилии. Латиноамериканский миф, в отличие от европейского, направлен не в прошлое, а в будущее; через миф герои «Жубиабы» и «Мёртвого моря» ищут свой путь, а юный автор – способ выразить национальную самобытность бразильского народа.
Как известно, «лицом к лицу лица не увидать», поэтому значение этих произведений не было понято современниками. К сожалению, некоторые до сих пор думают, что основоположником магического реализма является Габриэль Гарсиа Маркес, но когда Амаду написал «Мёртвое море», Маркесу было только девять лет. Позднее магический реализм был освоен многими латиноамериканскими писателями, но Жоржи Амаду был первым.
Во время эмиграции в Мексике в мае-июне 1937 года Жоржи Амаду пишет новую книгу – «Капитаны песка». Рукопись переправляется в Рио, и уже в сентябре того же года книга появляется на прилавках книжных магазинов. Писатель вернулся на родину в ноябре 1937 года и прямо у трапа корабля снова был арестован. И в том же ноябре в его родной Баии, на одной из городских площадей, в течение девятнадцати дней публично жгли его книги, все, что изъяли из библиотек и книжных магазинов: 808 экземпляров «Капитанов песка», 267 экземпляров «Жубиабы», 223 экземпляра «Мёртвого моря», а также «Какао», «Пот», «Страну карнавала» – всего 1694 тома.
Когда критики говорят о «Капитанах песка», они всегда отмечают влияние на их создателя классиков советской литературы Горького и Макаренко. Однако есть одна книга, которая повлияла на Амаду гораздо сильнее. И здесь я хочу рассказать о своём маленьком филологическом открытии. В одной статье, посвящённой 75-летию Амаду, говорилось, что писатель в юности зачитывался «Республикой Шкид» и даже перевёл книгу на португальский[6]. Эта информация меня заинтриговала: если перевёл, то с какого языка (русского Амаду не знал), и какова судьба перевода? Доказательств существования этого перевода не было никаких, ни в одной библиографии Амаду книга не значилась. Найти нужную информацию удалось во время моей поездки в Бразилию в 2010 году. Очень помогла в этом моя подруга Зоя Престес, дочь легендарного Луиса Карлоса Престеса. Она предложила поискать следы в Национальной библиотеке Бразилии. И тут же возник вопрос: как искать – названия перевода мы не знали, решили искать по фамилии авторов. И, действительно, нашли: Belyk e L. Panteleev «A República dos Vagabundos»[7], перевод Жоржи Амаду. С какого языка был сделан перевод, нигде не указывалось, но я предположила: если Жоржи перевёл с испанского в 1934 году «Донью Барбару» Ромуло Гальегоса, то и «Республику Шкид» он тоже мог перевести с испанского. Оставалось только узнать, существовал ли испанский перевод этой книги в 30-е годы. К счастью, интернет дал ответ на этот вопрос: мадридское издательство «Cenit» в 1930 году издало книгу Белых и Пантелеева под названием «Schkid: La república de los vagabundos».
Всё сошлось: Жоржи действительно прочёл эту книгу в юности и перевёл её на португальский. И так вдохновился, что решил написать о беспризорниках Баии, своего родного города. Бразильские читатели сразу полюбили эту книгу, и до сих пор, когда речь идёт о самых популярных книгах Амаду, чаще всего называют «Капитанов». Интересная получилась история с «Капитанами» в Советском Союзе. Сначала вся страна увидела и полюбила экранизацию книги – «Генералов песчаных карьеров» американского режиссёра Холла Бартлетта[8] и бросилась в библиотеки за первоисточником, а его не было. И, если бы не этот фильм, неизвестно, когда бы книгу перевели на русский язык. В само́й Бразилии фильм был запрещён цензурой во времена военной диктатуры, там его никто не видел.
В 1941 году Жоржи вынужден снова эмигрировать. Сначала он живёт в Аргентине, потом в Уругвае, где пишет книгу «Рыцарь надежды» о Луисе Карлосе Престесе, чьё имя к тому времени стало легендой. В 1951 году она была издана в Советском Союзе. Надо сказать, что «Рыцарь надежды» – одна из самых недооценённых книг Амаду. Для советских критиков той эпохи это одна из художественно-документальных биографий коммунистических лидеров, таких как «Сталин» Анри Барбюса, а постсталинское литературоведение вообще не воспринимает книгу как художественное произведение. А ведь именно эта книга впервые познакомила русского советского читателя с «мифологическим сознанием», о котором так много будут говорить в семидесятые, после перевода на русский язык «Ста лет одиночества» Гарсиа Маркеса. А говорить нужно было на двадцать лет раньше. Всякого непредвзятого читателя не может не поразить контраст между формой и содержанием, темой и её реализацией в этой книге. Биография реального человека, коммунистического лидера и современника Амаду читается как документ, миф, лирическое стихотворение и народный эпос одновременно. Как в одном произведении возможно такое смешение? Дело в том, что сама бразильская реальность ломает границы жанра. Амаду с хронологической точностью прослеживает путь колонны Престеса – даты сражений, пройденные километры. Но величие этого похода и личность его руководителя не вмещаются в рамки документа. То, что совершил Луис Карлос Престес, кажется невероятным: 26-летний капитан инженерных войск, максимальная численность отряда которого не превышала полторы тысячи человек, выиграл 53 сражения с правительственными войсками, когда силы регулярной армии достигали до 150 тысяч, победил 18 генералов. Но даже не в этом величие похода Престеса: куда бы ни приходил «Рыцарь надежды», он «начинал творить правосудие для народа»: уничтожал долговые реестры, отменял налоги, пересматривал судебные дела, освобождал невинно осуждённых. Неудивительно, что в сознании бразильского народа Престес становится личностью сверхъестественной, простые бразильцы стали слагать о нём легенды, в которых его превращали в божество, неуязвимое для пуль, способное ходить по водам и угадывать мысли людей. Даже спустя много лет после завершения великого похода, когда Луис Карлос Престес был в тюрьме, люди верили, что колонна движется в сертане, под небом Бразилии. Однажды колонна вернётся и принесёт людям свободу. Жоржи Амаду не придумывает миф о народном герое, он использует готовый фольклорный образ и развивает его: борьба в подполье, девятилетнее тюремное заключение в одиночной камере, пытки, суд, на котором Престес превращается из подсудимого в обвинителя, все это элементы мифа и одновременно история страны. «Бразильский народ, как и этот человек, – в тюрьме; его преследуют, над ним издеваются, он весь изранен. Но, как и этот человек, народ поднимется – один, два, тысячи раз, и придёт день, когда народ сбросит сковывающие его цепи, и тогда ярко засияет солнце свободы». Естественно, такая книга была запрещена в Бразилии, она издаётся в Аргентине и нелегально переправляется в Бразилию.
В сентябре 1942 года Жоржи Амаду возвращается на родину. Его сразу арестовывают и отправляют в ссылку в Баию. Но в конце 1942 года во внешней политике Бразилии происходят важные изменения: Сталинградская битва положила конец «роману» Варгаса с Германией, и Бразилия присоединяется к антигитлеровской коалиции. Амаду получает возможность издаваться легально. В байянской газете «Импарсиал» он ведёт колонку «Час войны». Ежедневно вся Бразилия читает его статьи о победах Советской армии. Под влиянием этих статей в 1944 году в Европу отправляют экспедиционный корпус, принимавший участие в освобождении Италии. В 2008 году эти статьи были изданы в Бразилии отдельной книгой, которая так и называется «Час войны».
В этот период Амаду пишет два новых произведения: «Бескрайние земли» (1943) и «Город Ильеус» (1944).
В январе 1945 года, несмотря на запрет покидать Салвадор, Жоржи Амаду приезжает в Сан-Паулу для участия в Первом конгрессе бразильских писателей. Съезд заканчивается демонстрацией против Нового Государства, и Амаду в очередной раз оказывается в тюрьме. После освобождения он остаётся в Сан-Паулу и становится главным редактором партийной газеты «Оже».
После победы Советского Союза в войне политика Варгаса меняется на 180 градусов: он устанавливает дипломатические отношения с нашей страной, объявляет амнистию и назначает выборы в новый парламент. Впервые БКП легально участвует в выборах. В партийном списке Жоржи Амаду, избранный в Национальный комитет компартии, значится 2-м номером, после Луиса Карлоса Престеса. Также вместе с Монтёру Лобату он возглавляет Институт культурных связей Бразилия – СССР.
В 1945 году столицей страны был Рио-де-Жанейро. Именно туда для работы в парламенте переезжает писатель. Он добивается принятия ряда законов, первый из которых – о свободе религиозных культов, что означало легализацию кандомблэ, которые ранее были под запретом. Но писатель не забывает о своём главном оружии – литературе: в 1946 году он публикует новый роман «Красные всходы».
За два года легальной деятельности авторитет компартии значительно вырос, как и число её членов, и заслуга Амаду в процессе демократизации страны очень велика, однако в 1948 году компартию снова запрещают, мандаты депутатов-коммунистов аннулируют. Книги Амаду объявлены подрывными, и сам он подвергается преследованиям. По решению компартии он уезжает в эмиграцию в Париж, но и там занимается политической деятельностью, в частности, возглавляет бразильскую делегацию на конгрессе деятелей науки и культуры и становится организатором и постоянным членом Всемирного Совета Мира.
Этот год знаменателен ещё и тем, что любовь Амаду к Советскому Союзу наконец-то становится взаимной: его книги стали издавать на русском языке. Теперь Жоржи Амаду уже не начинающий, а всемирно известный писатель, видный деятель международного коммунистического движения. Советское правительство видит в нём активного проводника политики СССР и коммунистической идеологии. Его приглашают в Советский Союз и активно печатают его политические статьи. В период с 1948 по 1967 год Амаду приезжал к нам 12 раз, поездки длились по несколько месяцев. В советской печати с 1948 по 1955 год были опубликованы 32 статьи Амаду, названия которых говорят сами за себя: «Борьба за независимость», «Надежда человечества», «Вместе с народом», «Оплот мира и прогресса», «Народы завоюют себе счастье». И, наконец, в «Издательстве иностранной литературы» выходит перевод романа «Город Ильеус», озаглавленный «Земля золотых плодов». Теперь, по мнению советских идеологов, Амаду заслужил честь печататься в Советском Союзе, поскольку «одновременно с идейным ростом писателя крепло и его художественное мастерство. Ж. Амаду удалось преодолеть многие недостатки, свойственные его прежним произведениям»[9].
На первый взгляд выбор именно этого романа для перевода на русский язык кажется нелогичным и случайным. Книга вырвана из контекста творчества Амаду: «Земля золотых плодов» – вторая часть трилогии, которая к 1948 году уже была закончена. Однако первой перевели именно вторую часть трилогии, а не более ранние романы байянского цикла, не первую часть трилогии и даже не книгу о генеральном секретаре Бразильской компартии Луисе Карлосе Престесе, и причина такого выбора вполне объяснима, поскольку главное в этой книге – её антиимпериалистический пафос. В недавно начавшейся «холодной войне» врагом номер один Советского Союза становится американский империализм. Поэтому произведение, раскрывающее механизм «захватнического натиска американского капитала, осуществляемого при угодливой поддержке трусливой и жадной правящей клики и несущего с собой ещё более бесчеловечную эксплуатацию», полностью отвечало идеологическим задачам советского руководства. Судя по рецензиям тех лет, «Земля золотых плодов» – не художественное произведение, а учебник политэкономии. На самом деле книга обладает огромной художественной силой. Золотые плоды – это плоды какао, но получили они это название не только из-за жёлтого цвета, но в первую очередь потому, что приносили баснословные барыши владельцам плантаций. Достигалось это богатство за счёт нечеловеческой эксплуатации батраков. В дождливый период какао-бобы сушат в специальной печи. Чтобы бобы не сгорели и фазендейро не понесли убытки, в печь посылают работника, а потом он выходит под дождь и падает замертво. Первый раз я прочла эту книгу сорок лет назад и до сих пор не могу проглотить ни глотка какао, такое впечатление она на меня произвела. И пусть первый перевод был несовершенен, а текст сокращён почти на треть, книга не осталась незамеченной. Мощь литературного дара писателя, его творческий темперамент прорвались к советскому читателю даже сквозь посредственный перевод и редакторские купюры. Много лет спустя в статье, посвящённой семидесятилетию Амаду, известный литературовед Вера Кутейщикова так описала свои впечатления от прочитанной книги: «…Подобно тропическому шквалу, обрушилась на нас тогда неведомая жизнь далёкой страны Нового Света, от бурь и страстей которой буквально захватывало дух»[10].
В следующем, 1949 году на русском языке выходит вторая книга Амаду, «Красные всходы», которую читатели принимают с ещё большим воодушевлением. В то время в Советском Союзе отсутствовало само понятие «рейтинга продаж», однако о популярности книги свидетельствует тот факт, что томик «Красных всходов» имелся в любой сельской библиотеке. Истрёпанная, часто без обложки книжка – лучшее доказательство того, что Амаду был принят советскими читателями. И главная причина такого «принятия» – несомненный талант её автора. Как живые, встают перед читателем герои этого произведения: крестьянин Жеронимо, старая Жукундина, сумасшедшая Зефа, семилетняя Нока, так трогательно привязанная к своей кошке. Даже ослик Жеремиас – реальный, живой. Никого не могут оставить равнодушными страдания этих людей. Изгнанные из своих домов владельцем поместья, бредут они через пустынную каатингу[11] в поисках лучшей жизни и умирают один за другим: сначала дети, потом взрослые – от голода, укусов ядовитых змей, лихорадки, истощения. Тысячи гибнут на «дорогах голода», и тысячи каждый год пускаются в путь. Люди, согнанные с земли владельцами латифундий и засухой. Отовсюду с северо-востока они отправляются в это страшное путешествие. Тысячи и тысячи беспрерывно бредут друг за другом. Этот поход начался уже давно, и никто не знает, когда он кончится.
Без натяжки можно предположить, что советским читателям той поры, большая часть которых – недавние выходцы из деревни, описываемые события и судьбы героев не просто понятны и близки. Люди, пережившие коллективизацию и голод 30-х годов, военное лихолетье и послевоенную разруху, воспринимали «Красные всходы» как книгу о своей собственной жизни, о своей судьбе, находили в ней то, чего не было и не могло быть в современной советской литературе.
В том же 1948 году Жоржи Амаду впервые приезжает в Советский Союз. Впечатления от этой поездки, которые иначе, как восторженными, назвать нельзя, отражены в поэме «Песнь о советской земле» и книге очерков «В мире мира». Выход этих книг упрочил репутацию Амаду как верного друга СССР и неутомимого борца за мир.
Надо признать, что даже сегодня, несмотря на явную тенденциозность и невысокое качество перевода, стихи удивляют небанальной трактовкой темы, искренностью и не вызывают внутреннего неприятия. Даже если в 1949 году подобное произведение раздражало немногочисленных убеждённых диссидентов, оно не могло не польстить чувству патриотизма миллионов простых читателей:
Советская земля!.. О да, мы знаем:
Бессмертна ты в веках, непобедима!
Живёшь ты в сердце каждого из нас!
Твои пределы шире рубежей
Земель твоих, обильных и счастливых.
Народы мира – вот твои пределы
Безбрежные. Им нет конца и края.
И если мы живём ещё, то жизнью
Обязаны тебе. И даже хлеб,
Что мы едим, – он твой. Ты за него
Тяжёлою ценою заплатила
Миллионов жизней. И вода, что пьём мы,—
Она твоя… Её живой родник
Своим штыком открыла ты для нас.
Ты, сыновья твои, твои солдаты
Нам подарили жизнь и то «сегодня»,
Которым мы живём, и утро новой,
Прекрасной жизни, о которой грезим.
Советская земля! Ты – наша мать,
Сестра, любовь, спасительница мира!
Советский Союз и – мать, сестра, любовь – какое поэтичное видение мира, какой яркий живой образ, какое оригинальное раскрытие столь затёртой темы. Так официальные власти, исходя из посылок идеологических и политических, открыли многомиллионной советской читающей аудитории незаурядный и самобытный талант бразильского писателя.
В 1951 году Жоржи Амаду за «выдающиеся заслуги в деле борьбы за укрепление и сохранение мира» была присуждена международная Сталинская премия. Подобное событие не могло остаться не замеченным советской прессой. Практически все центральные издания опубликовали статьи о жизни и творчестве лауреата. Все они написаны в откровенно комплиментарном, восторженном тоне. Теперь для всех литературоведов и критиков на всех этапах и всех поворотах советской истории Жоржи Амаду останется самым знаменитым представителем современной латиноамериканской литературы, который сочетает крупный талант художника с неутомимой энергией выдающегося политического деятеля, посвятившего все свои силы великому делу мира, свободы и социальной справедливости, он певец бразильского народа, своими произведениями борющийся за лучшее завтра своей родины и всей Латинской Америки, за дружбу между народами всего мира.
В 1951 и 1952 годах на русском языке в журналах «Огонёк» и «Смена» публикуются отрывки нового романа Амаду «Подполье свободы». На первый взгляд событие кажется вполне заурядным, на самом же деле оно со всей очевидностью позволяет понять, какую роль отводила Жоржи Амаду советская идеологическая машина. Не так уж часто в Советском Союзе переводились произведения, ещё не изданные на родине автора, а уж незаконченные – и того реже.
Вероятно, причина такой оперативности в том, что это произведение в Советском Союзе давно ждали. Советским идеологам нужна была книга латиноамериканского писателя, овладевшего методом социалистического реализма. О необходимости такой книги Амаду намекали и говорили прямо, к созданию такой книги его подталкивали. Присуждение Сталинской премии было одним из стимулов для создания такого произведения. Все творчество Ж. Амаду, предваряющее «Подполье свободы», рассматривалось советскими литературоведами как этапы овладения методом соцреализма, как некие подступы к созданию «правильного» романа. Наконец этот роман вышел и был встречен с единодушным восторгом, поскольку свидетельствовал о победе коммунистической идеологии во всемирном масштабе. Овладение методом социалистического реализма всеми прогрессивными писателями мира, по мнению советских идеологов, – такая же историческая закономерность, как и переход от капитализма к социализму. При этом национальные и культурные особенности конкретных стран не учитываются; скроенные по одной мерке, соцреалистические произведения заведомо лишаются любых национальных черт. Сам Амаду, однако, выступал против унификации и обеднения литературы, против её отрыва от национальных корней. Об этом он говорил на Втором съезде советских писателей: «Писателям-коммунистам Бразилии надо всегда помнить, что литература социалистического реализма является социалистической по содержанию и национальной по форме… Для того, чтобы наши книги – романы или поэзия – могли служить делу революции, они должны быть прежде всего бразильскими: в этом заключается их способность быть интернациональными»[12]. Как мы видим, о проблеме национальной самобытности Жоржи Амаду задумывается даже в период наибольшей политической ангажированности; такое понимание сущности литературы дало Амаду возможность создать через несколько лет подлинные шедевры бразильской и мировой литературы.
В середине 50-х от Амаду ждут новых книг. Уже анонсировано продолжение трилогии: «Подполье свободы» оканчивается 1940 годом, в следующей части – «Народ на площади» – писатель должен рассказать о борьбе бразильского народа в годы Второй мировой войны. А в третьей части – «Агония ночи» – о борьбе в послевоенный период. Но в 1956 году состоялся знаменитый ХХ съезд, и трилогия так и не была закончена. Жоржи Амаду пережил глубокий кризис и в течение трёх лет ничего не писал. В 1990 году он так вспоминал об этом периоде: «Для меня этот процесс был чрезвычайно болезненным и таким ужасным, что я не хочу даже вспоминать. Потерять веру в то, во что верил раньше, за что боролся всю свою жизнь, боролся со всем благородством, пылом, страстью и отвагой. И всё это рухнуло. А тот, на кого мы смотрели, как на бога, не был богом, он был всего лишь диктатором… восточным деспотом»[13].
Мне было 18, когда я узнала об этом периоде в жизни писателя, и тогда Жоржи Амаду казался мне юным Артуром из «Овода», разбившим распятие: «Я верил в вас, как в бога, а вы обманывали меня всю жизнь». Однако теперь я понимаю, что обмануть сорокалетнего человека можно, только если он сам хочет быть обманутым. Во всей этой истории Амаду скорее соучастник, чем жертва, – в создании международного имиджа «отца народов» есть и его вклад. В конце концов, вряд ли кто-то заставлял его писать вот это:
Я скоро уезжаю из Москвы.
Мне не придётся больше
Ходить по Красной площади,
Смотреть на Мавзолей,
Что светит, как маяк,
Народам мира…
Средь кремлёвских окон
Я не могу искать влюблённым взором
Окно той комнаты, где строит Сталин
Грядущее для сына моего,
Для всех детей земли, для всей планеты…[14]
На то была его добрая воля
(но я всё равно его люблю).
Да, Амаду пережил серьёзный кризис, но вопреки сложившемуся мнению он никогда не отказывался от идеалов юности, не пересматривал своё прошлое, никогда не выходил из компартии и не был из неё исключён. Жоржи Амаду отошёл от активной политической деятельности в качестве партийного функционера, но связей с компартией не прерывал. Никаких демаршей против Советского Союза Амаду не предпринимал, поддерживал отношения с советскими друзьями, и в 1957 году приезжал в Москву на фестиваль молодёжи и студентов. Об этом писатель неоднократно заявлял в статьях и интервью. Вот, например, что он говорил в 1987 году: «В течение многих лет я был членом партии, а свыше десяти – её активным борцом. Я счастлив и горжусь этим… Я перестал принимать активное участие в деятельности компартии, когда увидел, что не могу одновременно быть её высоким представителем и действующим в её же интересах писателем. Именно поэтому я решил сменить оружие борьбы, выбрав наиболее для меня подходящее, но я никогда не был ренегатом»[15].
Нельзя не отметить мудрость советской власти по отношению к Жоржи Амаду: в его адрес не было высказано ни одного упрёка; о переживаемом писателем кризисе не упоминается вообще, так что советский читатель и понятия не имел о каком-то охлаждении Амаду к Советскому Союзу. В течение трёх лет в советской печати не появляется ни одной статьи об Амаду, вероятно, чтобы не касаться больной темы. А после 1960 года, когда Амаду с энтузиазмом приветствовал кубинскую революцию и наши успехи в космосе, о нём опять стали писать с тем же восторгом и восхищением, что и до 1956 года. Более того, если ранее в адрес Амаду иногда высказывались отдельные критические замечания, касающиеся в основном идеологической зрелости автора, то после 1956 года всякая критика, даже относительно художественных достоинств произведений Амаду, прекратилась. Создаётся впечатление, что советская власть, потеряв после разоблачений ХХ съезда значительную часть своих друзей за рубежом, боится оттолкнуть оставшихся критическими замечаниями в их адрес. Советские почитатели творчества Амаду не имели представления о том, какой разнузданной, злобной и несправедливой критике подвергался Амаду у себя на родине: правые клеймили его как «агента Кремля», левые – как ренегата, и одни и те же люди обвиняли его сначала в ангажированности, а затем в псевдонародности (в Бразилии это называется «макумба для туристов») и примитивном популизме. С другой стороны, критические замечания Амаду о нашей стране (например, протест против введения советских войск в Чехословакию) также не пропускались на страницы советской печати. Таким образом, у советского читателя складывается образ идеальных, ничем не замутнённых отношений Амаду с Советским Союзом. Доказательством развития этих отношений стала публикация «Издательством иностранной литературы» нового романа Жоржи Амаду «Габриэла, гвоздика и корица».
В Бразилии «Габриэла» вышла из печати в 1958 году и произвела эффект разорвавшейся бомбы: за две недели было продано двадцать тысяч экземпляров и сто двадцать тысяч за год – цифры для Бразилии невиданные. Книга получила двенадцать литературных премий и вызвала жесточайшие споры, восторг одних и полное неприятие других. При этом его хвалили и ругали за одно и то же: за то, что порвал с реализмом, осознал прежние заблуждения, обрёл своё место в лагере чистой поэзии, выскочил на ходу из трамвая, оставив определённый метод художественного творчества. В Советском Союзе об этих баталиях знала только кучка латиноамериканистов, а миллионы читателей ни о чём подобном не подозревали, а просто с нетерпением ждали новую книгу любимого автора. После того, как в 7-м номере «Иностранной литературы» за 1959 год была напечатана заметка о выходе книги в Бразилии, редакция была завалена письмами из всех уголков Советского Союза, индивидуальными и коллективными, с требованием публикации «Габриэлы»[16].
На русском языке роман вышел в 1961 году и был с восторгом встречен читателями. По словам друга Амаду Ильи Эренбурга, «Габриэлу» читают у нас, не отрываясь от книги. Мы любим Жоржи Амаду и верим в него»[17]. Надо сказать, что советские критики и литературоведы проявили в оценке романа гораздо больше прозорливости, чем их бразильские коллеги. Они с самого начала доказывали, что «Габриэла» – не результат кризиса, вызванного разоблачением «культа личности», и не демарш против СССР, а естественное развитие творческого пути писателя.
Сам Жоржи Амаду называл «полной глупостью» теорию о том, что его творчество делится на два этапа: до «Габриэлы» и после. «Нет, моё творчество едино, с первого до последнего момента…» «“Габриэла” появилась как определённый этап, но этот этап никак не соотносится с отходом от политической линии»[18].
Что же касается «чистого искусства», то Амаду его не просто отрицал, он его ненавидел. Вот что он сказал в интервью западногерманской газете «Дойче фольксцайтунг»: «Меня возмущает безответственная болтовня тех, кто не видел слёз ребёнка, на глазах которого убили его мать. Меня возмущает, когда подобные знатоки жизни призывают: “Ах, не пачкайте литературу описанием таких кошмарных подробностей, литература – святое дело! Ах, эти подробности не имеют никакого значения перед лицом вечности”. Для меня такая болтовня – проявление подлости, ибо я как писатель вижу перед собой в первую очередь человека, его страдания. Не существует никакой вечности, которая была бы важнее человека, важнее его судьбы. Мне наплевать на такую вечность… Настоящая литература – это оружие народа. Я был и остаюсь писателем, который чувствует себя обязанным своему народу и его борьбе сегодня и до конца своих дней»[19]. Вот так: здесь и про чистое искусство, и про этапы, и про отказ от метода. Лучше не скажешь.
Как явствует из выступления на II съезде советских писателей, Амаду размышлял о национальной форме художественного произведения даже в пору «овладения методом социалистического реализма». И если выстроить в ряд все его произведения от «Страны карнавала» до «Открытия Америки турками», то видно, что из этого ряда выбивается как раз не «Габриэла», а «Подполье свободы». Но даже в этом романе, сознательно подогнанном под определённую схему, на страницы выплёскивается живая душа народа, разрушая искусственные ограничения. Например, негритянка Инасия как будто попала на страницы «Подполья свободы» из ранних романов Жоржи Амаду. Но с такой же долей вероятности эта героиня могла оказаться на страницах «Габриэлы»: Инасия даже пахнет как Габриэла – гвоздикой и корицей. Эта деталь, безусловно, доказывает, что образ «дочери народа» жил в творческом сознании писателя ещё в пору работы над «Подпольем свободы».
С другой стороны, можно ли считать «Подполье свободы» отрицательным опытом? Думаю, нет. Может быть, благодаря этому опыту он понял, что миссия писателя – раскрыть миру душу своего народа. В новом романе выразителем черт национального характера стала главная героиня – Габриэла. Она искренна, простодушна, бескорыстна, она любит жизнь во всех её проявлениях. Габриэла, как солнце, дарит тепло своего сердца окружающим, для простых людей она – песня, радость и праздник. За эти душевные качества героиню романа полюбили не только в Бразилии, но и в других странах. Нарисовав на страницах романа образ жизнерадостной и свободолюбивой мулатки Габриэлы, Амаду раскрыл душу бразильского народа для всего мира. Благодаря его таланту особое бразильское восприятие жизни стало такой же принадлежностью мировой литературы, как и «загадочная русская душа». В этом вклад Жоржи Амаду в мировую культуру.
В связи с «Габриэлой» нужно отметить ещё один факт. В этой книге со всей полнотой раскрылся неповторимый «амадовский» стиль, изящный и ироничный. Написанное сочным языком, повествование вьётся, словно изысканное кружево, и проникает в душу.
Что касается нашей страны, то Жоржи Амаду со своим новым романом органично вписался в контекст советской литературы. Атмосфера книги соответствовала ощущению свободы, которое витало в тот период в воздухе: книга вышла в 1961 году, на пике «оттепели», когда на XXII съезде был сделан ещё один шаг в разоблачении сталинизма. Но притягательность «Габриэлы» для русского читателя в другом, она глубже, фундаментальнее. Неправда, что мы с бразильцами похожи. Мы отличаемся главным – восприятием мира. Для бразильцев мир полон радости – мы воспринимаем жизнь трагически и устаём от самих себя, от этой ежедневной трагедии. Это и понятно, попробуйте оставаться оптимистом на бескрайних заснеженных просторах, где по полгода не бывает ни одного солнечного дня. Не случайно во все века на Руси больше всего любили скоморохов, юмористов и КВН: они, как и водка, помогают нам забыть о безысходности существования. А бразильцев не нужно веселить: радость живёт в них от рождения. В чём похожи наши народы, так это в равнодушном отношении к деньгам. Но причины этого равнодушия прямо противоположные. Мы не стремимся зарабатывать, потому что понимаем, что никакие деньги не сделают нас счастливыми; а бразильцы – потому, что и без денег счастливы.
Расскажу одну быль. В начале 90-х новорусский бизнесмен приехал в Бразилию, чтобы закупить большую (ну очень большую) партию обуви. И угодил как раз к карнавалу. А поскольку время для него – деньги, он хотел, чтобы обувь отгрузили как можно скорее. Но тогда бразильцам пришлось бы работать во время карнавала. Наш бизнесмен предлагал любые суммы, лишь бы заказ был выполнен. Так вот, ни один человек не согласился. Возможность потанцевать для них оказалась важнее толстой пачки долларов. И это в цивилизованном, затронутом глобализацией Рио-де-Жанейро. Чему же удивляться, что Габриэла отказалась от обеспеченного брака ради удовольствия плясать босиком на улице.
Выход «Габриэлы» на русском языке свидетельствовал, что краткая размолвка Амаду с Советским Союзом забыта. Писатель снова любим читателями и властями, и его книги на русском языке выходят одна за другой: «Старые моряки», «Кастру Алвес», «Пастыри ночи», «Дона Флор и два её мужа», «Лавка чудес», «Тереза Батиста, уставшая воевать». Все книги «нового» Жоржи Амаду с энтузиазмом приняты советскими читателями и критиками. На фоне общих восторгов незамеченным остался тот факт, что Амаду неодобрительно отзывался о вводе советских войск в Чехословакию. По всей видимости, сам Жоржи очень серьёзно относился к своему поступку и двадцать лет, с 1968 по 1987 год, не приезжал в нашу страну. Советская сторона, однако, этого демарша вовсе не заметила, продолжая печатать книги Амаду и восторженные статьи о нём. Как говорится, «мужик на барина сердился, а барин и не знал». Похоже, советская власть, как мудрая мать, не обращала внимания на шалости ребёнка. Пошалит – и успокоится.
В отличие от советских товарищей, бразильские однопартийцы Амаду яростно нападали на него, обвиняя в отступничестве и прочих смертных грехах. Удивляюсь я БКП. За весь период своего активного существования Бразильская коммунистическая партия только два года, с 1945 по 1947-й, работала легально. Всё остальное время она подвергалась жесточайшим репрессиям. Казалось бы, у руководства должны быть проблемы поважнее, чем следить, о чём пишут да что рисуют рядовые коммунисты. Однако члены ЦК находили время контролировать даже дипломные работы бразильских студентов, посланных компартией на учёбу в творческие вузы СССР!
В 1970 году в издательстве «Прогресс» выходит наконец роман «Дона Флор и два её мужа», о котором советская аудитория давно знала из статей в разных изданиях. Читатель ошеломлён и покорён. Покорён настолько, что «Дона Флор» стала в России самой читаемой посткризисной книгой Амаду. Об этом свидетельствуют как читательские формуляры в библиотеках, так и тот факт, что книга многократно переиздавалась и при советской власти, и после неё. В чём причина этой популярности? Ещё в 1954 году, принимая участие в работе II съезда советских писателей, Амаду говорил, что основной недостаток советской литературы – невнимание к человеческим чувствам. Однако пренебрежение определёнными чувствами характерно не только для советской, но и вообще русской литературы. Ставшая крылатой фраза о том, что «все счастливые семьи счастливы одинаково», говорит о многом. А именно о том, что счастливая взаимная любовь никогда не была интересна русским писателям. Писателям, но не читателям. Последние хотели читать не только о любви трагической, неразделённой, несостоявшейся, но и о любви торжествующей, всепобеждающей и, что весьма немаловажно, чувственной. А в романе Амаду «на всём его протяжении» звучат «светлые колокола страстной и чистой любви, приносящей людям неистощимые радости и ликование духа»[20].
В этой связи интересно сравнить восприятие творчества Амаду в Бразилии и у нас. Самые любимые в Бразилии книги – «Капитаны песка» и «Габриэла». У нас – «Красные всходы» и «Дона Флор и два её мужа». В «Капитанах песка» бразильцы находят то, чего им не хватает в жизни и искусстве: чистой, романтической любви. В «Габриэле», первой книге, которая с такой полнотой выразила национальный бразильский характер, они видят себя. Мы увидели себя в «Красных всходах» и нашли то, чего нам не хватает, в «Доне Флор». Потому и были приняты у нас книги Амаду с такой теплотой, что русский человек нашёл там то, что свойственно и дорого ему: любовь к свободе, великодушие, бескорыстие – но ещё он нашёл в них то, чего ему так недостаёт: радостное восприятие жизни. Этим, кстати, отличаются коммунисты Амаду от русских революционеров. Наш революционер всегда аскет. В его сердце нет иной любви, кроме любви к революции. Ради неё он отказывается от всех земных радостей и сердечных привязанностей (Рахметов, Нагульнов), и даже такого естественного чувства, как любовь к родителям (Базаров). В общем, в России так: либо ты любишь Лушку, либо мировую революцию. По-другому у нас не бывает. А в Бразилии бывает. Вот, например, Жоаким, сын Раймунды и Антонио Витора, один из героев «Города Ильеуса»: «Радостное волнение наполняет грудь Жоакима каждый раз, как он думает о своей партии. Жоаким многое любит на свете: любит Раймунду, похожую на старое дерево, день и ночь сгибающуюся над землёй, сажая и собирая какао; любит он, несмотря ни на что, и мулата Антонио Витора, который выгнал его из дома и вообще ничего не понимает. Любит Жандиру, судомойку в доме гринго Асфоры, любит гулять с ней по берегу в лунные ночи. Любит море в Ильеусе, вечера на пристани, беседы с докерами на палубах кораблей. Он любит моторы автобусов и грузовиков, любит деревья какао – видение его детства. Но свою партию он любит по-особому. Партия – его отчий дом, его школа, смысл его жизни»[21]. Для героев Жоржи Амаду любовь к партии – это неотъемлемая часть любви к жизни, и в этом их притягательность для русского читателя.
В 1972 году отмечается 60-летие писателя, и поклонники Амаду получают великолепный подарок – «Иностранная литература» печатает роман «Лавка чудес», который даже с позиций сегодняшнего дня можно назвать творческой вершиной Жоржи Амаду. В этом произведении писатель поднялся на новую, поистине шекспировскую высоту обобщения. Главный герой «Лавки чудес» Педро Арканжо не просто бразилец, он квинтэссенция Человека с большой буквы, человека будущего, который стоит над национальными границами. Трепетно вылеплен автором цельный и страстный – в науке, дружбе, любви – образ этого человека. Сила, неистребимость и талант народа, гонимого, лишённого доступа к элементарному образованию и культуре, воплотились в этом пьянице и смутьяне, опустившемся старике, доживающем свои дни в доме терпимости, – великом учёном, писателе, философе, постигшем глубины человеческой мудрости, достигшем вершин человеческого познания.
Можно сказать, что «Лавка чудес» – программное произведение Жоржи Амаду, а Педро Арканжо – его alter ego. Его устами Амаду выражает свою жизненную позицию: творец национальной культуры Бразилии – её народ, простые труженики, а не «элита»; именно в быту бедняков складываются и проявляются лучшие качества национального характера. Негры, индейцы и белые привнесли в общий тигель бразильской нации свои традиции, которые, переплавившись в этом тигле, дали начало новой, яркой и необычной культуре. Жоржи Амаду, как и Педро Арканжо, бесконечно любит своих земляков и хочет заразить этой любовью читателей. Он уверен, что самобытность бразильского народа – важный вклад в духовную жизнь человечества. В Советском Союзе, по крайней мере, в этом никто не сомневается, и его новый роман «Тереза Батиста, уставшая воевать» встречают с огромным интересом. Перевод был напечатан в одиннадцатом и двенадцатом номерах «Иностранной литературы» за 1975 год, а уже в следующем году переиздан в «Роман-газете», что, безусловно, свидетельствовало о большом успехе книги. Притягательность этого произведения определяется в первую очередь образом его главной героини. Тереза Батиста – истинная дочь бразильского народа, воплотившая его жизненную силу и стойкость. Её не смогли сломить, подавить самые страшные испытания. Простодушная, научившаяся «немногому по букварю, многому – в жизни», она не отчаялась, выдержала всё то, на что обрекли её волчьи законы окружающей действительности. Не только выдержала, она отстаивала свои права, своё достоинство, сражалась за справедливость, за лучшее будущее, за счастье – своё и других, таких же обездоленных. Сила и красота Терезы Батисты в том, что она учит верить в жизнь и победу даже в то время, когда, кажется, исчерпаны последние силы для сопротивления.
Верный жизненной правде, автор не использует розовые тона для изображения действительности, не боится показать страдание и боль. Страшные испытания выпали на долю Терезы Батисты; в сточной канаве закончилась жизнь Педро Арканжо, великого учёного, отвергнутого современниками, не понятого потомками (чего сто́ит хотя бы фарс, устроенный в честь его столетия: «В 1868 году в Бразилии родились два гиганта: Педро Арканжо и страховая компания Аршоти!» – достойное признание заслуг и таланта!), а борьба за холм Мата Гато в «Пастырях ночи» закончилась победой ловких политиканов, но всё же книги Амаду – оптимистические произведения. Потому что, как говорил Максим Горький, жизнеутверждающих чувств много: это преодоление горя, преодоление страдания, преодоление трагедии, преодоление смерти. В руках писателя много сил, которыми он утверждает жизнь.
В чём источник оптимизма Амаду? И он сам, и советские литературоведы неоднократно писали, что этот источник – вера писателя в народ. Однако тут перепутаны причина и следствие. Не потому Амаду оптимист, что он верит в народ. Он оптимист по своей природе, таким уж он уродился, поэтому он верит и в народ, и в человечество, и в его светлое будущее.
«Всё моё творчество служит борьбе за народ против врагов народа, за свободу против угнетения, за будущее против прошлого, за социализм против капитализма… Жизнь в Бразилии нелегка: нищета огромна, огромно и угнетение. Мы живём под властью военной диктатуры, под властью цензуры, судебных процессов, тюрем, пыток – этой чёрной клики попутчиков военных диктатур на латиноамериканском континенте. Верю, однако, что народ сильнее нищеты и гнёта. Несмотря на ужасные условия жизни, он идёт вперёд, смеётся, поёт, борется, живёт, – и я верю, что завтрашний день станет лучше»[22].
Хотя сам писатель категорически отметал всякую периодизацию его творчества, нельзя не заметить, что посткризисные произведения раскрыли новые грани его таланта: глубину и многогранность в изображении действительности, филигранность стиля, несравненную «амадовскую» иронию, иногда мягкую, иногда убийственную, и, самое главное, мудрость. Ту мудрость, что позволила ему взглянуть на жизнь без флёра юности, увидеть в ней хорошее и плохое, грязь и красоту, горе и радость, отличить правду от лжи, непреходящее от случайного и верить, верить… в любовь, в справедливость, в жизнь.
А как изменился сам Амаду? На этот вопрос Жоржи мог бы ответить словами своего героя, Педро Арканжо: «Если я в чём-то изменился – это наверняка случилось, – если во мне разрушились ценности и оказались заменены другими, если умерла часть моего прежнего существа, то я не отказываюсь и не отрекаюсь нисколько от того, кем я был… Я хочу только одного: жить, понимать жизнь, любить людей, весь народ»[23].
В восьмидесятые годы Амаду приобретает в нашей стране статус живого классика. Его книги издаются одна за другой и огромными тиражами (трилогия «Бескрайние земли», «Земля золотых плодов» и «Красные всходы» выходит в киевском издательстве «Урожай» общим тиражом 530 тысяч экземпляров, «Дона Флор» в издательстве «Правда» – 500 тысяч экземпляров) и буквально сметаются с полок книжных магазинов. Чтобы подписаться на его трёхтомник, изданный в 1987 году «Художественной литературой» тиражом 100 тысяч, люди стояли ночами. По числу изданий романов Жоржи Амаду и их тиражам Советский Союз занимал одно из первых мест в мире.
Надо сказать, однако, что такой интерес вызывают уже известные читателям произведения, а вот новым переводам везёт меньше. Так, в 1980 году «Иностранная литература» печатает роман «Возвращение блудной дочери». Действие книги разворачивается в маленьком городке Сантана-ди-Агрести на севере Баии в тот период, когда размеренная жизнь этого провинциального городка неожиданно прерывается тревожной вестью: влиятельная химическая компания решила построить там завод по производству диоксида титана, отходы которого должны привести к сильному загрязнению окружающей среды. Протесты местных жителей возглавляет Тиета, вернувшаяся на родину после долгого отсутствия.
Перевод, к сожалению, не производит такого сильного впечатления, как предыдущие книги Амаду. В оригинале роман насчитывает почти шестьсот страниц, это многоплановое, панорамное произведение, с множеством героев, сюжетов, лирических отступлений. Журнальный вариант был сокращён почти в три раза, в нём осталась только главная сюжетная линия, и эта линия кажется вырванной из живой плоти романа; изображение становится плоским, схематичным.
Следующий, двадцать четвёртый по счёту роман, «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка», был закончен Амаду в 1979 году, а у нас напечатан в восьмом и девятом номерах «Иностранной литературы» за 1982 год. Сам Жоржи так охарактеризовал его: «Действие происходит в Рио с июня 1940-го по январь 1941 года, во время великой битвы, в её худший период, когда фашистские войска оккупировали Восточную Европу, а в Бразилии была диктатура Нового Государства. Книга чрезвычайно политическая, антифашистская и антивоенная».
В Бразилии книга была встречена с большим интересом, а у нас – с разочарованием. К сожалению, русский читатель не мог по достоинству оценить произведение, в которое автор вложил столько души и сил: забывал о себе, своём здоровье, обо всём на свете – жил жизнью своих героев, их радостями и страданиями. «Я очень устал, эта книга пожирает мои силы: работа над ней очень сложна и требует полной отдачи; я не сплю по ночам, думаю о ней, вспоминаю, делаю пометки. Я буквально нахожусь на грани истощения».
Последняя публикация Жоржи Амаду советского периода – роман «Исчезновение святой», напечатанный в первом и втором номерах «Иностранной литературы» за 1990 год. Она осталась практически незамеченной. Не было ни одной рецензии или критической статьи, не было даже предисловия или послесловия, которыми обычно сопровождались публикации в «Иностранке».
Из-за невысокого качества перечисленных выше переводов у русского читателя могла даже возникнуть мысль, что Амаду исписался. Но это совсем не так. Те, кто читал его рассказ «Чудо в Пираньясе», могли в этом убедиться. Этот маленький шедевр, написанный в 1979 году, доказывает, что Жоржи Амаду сохранил свой блистательный писательский талант, не утратив ни его силы, ни глубины, ни гуманизма, ни жизнелюбия, ни изящества стиля, ни красоты и образности языка.
Невозможно понять эволюцию стиля писателя, не коснувшись ещё одного произведения, сказки «Полосатый Кот и Ласточка Синья». Сказка – совершенно не характерный для Амаду жанр. Она была написана в 1948 году, в период работы над «Подпольем свободы», но не предназначалась для печати, и Жоржи Амаду не считал нужным загонять её в какие-то рамки, подгонять под схему. Потом рукопись затерялась и была обнаружена почти через тридцать лет. Жоржи решил опубликовать её без всяких изменений, в противном случае «текст потерял бы своё единственное достоинство: он был написан просто ради удовольствия, без каких бы то ни было обязательств перед публикой или издателем». И мы видим, что это произведение «докризисного» периода не уступает в художественном мастерстве его поздним работам. Уже в этой сказке мы найдём полностью сложившимся несравненный амадовский стиль, изящный и ироничный. Что тут скажешь? Спасибо XX съезду. Не будь его, Амаду продолжал бы ломать себя, чтобы соответствовать жёстким партийным установкам, и не читать бы нам ни «Габриэлу», ни «Дону Флор», ни «Лавку чудес».
Совсем по-другому повлиял на Амаду распад Советского Союза. Об этом можно судить по книге его воспоминаний «Каботажное плаванье». В Бразилии книга вышла в 1992 году. У нас отрывки из неё публиковались с 1994 года в «Латинской Америке», «Огоньке» и «Иностранной литературе». Отдельным изданием, хотя и в сокращённом виде, «Каботажное плаванье» вышло в издательстве «Вагриус» в 1999 году. Вот эта книга действительно может поставить в тупик поклонников таланта великого бразильца. Раньше мы знали другого Амаду – романтика и мудреца, автора изящной и ироничной прозы. В «Каботажном плаванье» перед нами предстал циник и пошляк. Когда Амаду был настоящим: в «Каботажном плаванье» или во всех своих предыдущих книгах? Возможно, этот вопрос так бы и остался без ответа, если бы двумя годами ранее не была издана книга Алис Райяр «Беседы с Жоржи Амаду»[24], где мы видим родного нам, прежнего Амаду. Что же произошло за эти два года, разделяющих «Беседы» и «Каботажное плаванье»? Что заставило Жоржи играть (без особого успеха) несвойственную ему роль? Объяснение одно – крах Советского Союза. Жоржи Амаду, как и все бразильцы, не отличался патологическим постоянством. Но с нашей страной его связывали действительно неразрывные узы. Он был совсем юным, пылким и впечатлительным, когда любовь к СССР запала в его душу. И как бы позднее ни пытался Амаду выглядеть независимым, как бы ни сердился на нас, связь эта не прерывалась. И вдруг в 1991 году оказывается, что его любимая страна не просто пересела (если использовать метафору одного бразильского критика) в другой трамвай, но и едет в обратную сторону! И вот он лихорадочно пытается догнать новую Россию, прерывает работу над очередным романом и пишет «Каботажное плаванье», хотя всего лишь два года назад, в беседе с французской журналисткой, уверял, что не собирается писать воспоминания, чтобы не переоценивать свою жизнь.
Но поезд, или в данном случае трамвай, уже ушёл. Если бы книга была напечатана в 1974 году, она произвела бы фурор. Но к 1994 году, когда впервые были опубликованы отрывки из книги воспоминаний, Россия уже устала от разоблачений сталинизма, а в 1999-м, когда книга вышла отдельным изданием, пожалуй, была бы не против «реставрации». В общем, тираж в 5 тысяч экземпляров долго стоял на полках книжных магазинов.
Распад Советского Союза трагически повлиял на творчество самого Амаду и на его популярность в России. В начале нового века резко падает тираж его книг. Если раньше тираж двести – пятьсот тысяч экземпляров был нормальным явлением, то теперь он уменьшился ровно в сто раз.
Верю, однако, что время всё расставит по своим местам, отделит вечное от преходящего. Истинно талантливые оригинальные произведения искусства бессмертны, они не имеют срока давности и не выходят из моды, как туфли или юбки. Настоящая литература заставляет читателя размышлять о мире и о себе, лишает его душевного покоя, порождая вечные вопросы. Таково творчество Жоржи Амаду: мы любим или ненавидим его героев, восхищаемся или удивляемся им. Потом размышляем… о них, о себе. Задумываемся, как жить дальше. Герои Амаду не оставляют нас равнодушными, потому что они не схемы, не бледные тени, не ходульные персонажи. Это люди из плоти и крови. У каждого своя внешность, свой характер, своя жизнь и своя судьба. Никто никогда не спутает дону Флор с Габриэлой или Терезой Батистой, а Капрала Мартина с Педро Пулей. Амаду видел их вокруг себя, на улицах родной Баии, в гуще народной жизни, частью которой он был сам. Как живые предстают они перед читателем, и миллионы людей во всём мире плачут и смеются вместе с ними. И так будет, пока существует человечество.
Земной путь Жоржи Амаду закончился 6 августа 2001 года. Он умер в родной Баии, в своём доме на улице Алагоиньяс. Через четыре дня ему исполнилось бы 89 лет. Практически все российские средства массовой информации сообщили об этом трагическом событии. Большинство статей были информационно-нейтральными, очень немногие выражали искреннюю скорбь и любовь к ушедшему писателю (например, статья Л. Шульца в «Советской России»[25], но были и такие, что ранили даже сильнее, чем сама трагедия. Некоторые издания словно вознамерились взять реванш за все годы более чем лояльного отношения советской прессы к бразильскому автору. Ёрнический тон, тенденциозная трактовка фактов – всё, вплоть до откровенной лжи и клеветы. За все предыдущие годы в советской прессе об Амаду не было сказано ни одного резкого слова. И вот теперь – потоки гадостей и глупостей. И когда? В такой скорбный момент. Ладно бы это делали какие-нибудь бульварные газеты. Но вот что было опубликовано в 33-м номере такого серьёзного, казалось бы, издания, как «Книжное обозрение»:
«Жизнь самого Амаду – сюжет для латиноамериканского романа. На родине некоторые называли его доктором Фаустом и говорили, что он продал душу за литературную славу. Амаду был членом просоветской коммунистической партии и работал в годы войны в профашистской газете; был белым, но воспевал быт и нравы афробразильцев; пропагандировал социалистический реализм в духе товарища Жданова и стал классиком «магического реализма». Он не был добрым католиком, но склонялся к местной разновидности культа вуду…»[26].
Поскольку в этом утверждении не было ни слова правды, я послала в газету возмущённое письмо, однако редакция не торопилась печатать опровержение или извиняться за диффамацию. Пришлось мне в телефонном разговоре пригрозить редактору судом. После этого, месяц спустя, было напечатано моё письмо. Вот отрывок из него: «Никогда Жоржи Амаду не работал и даже под угрозой голодной смерти не стал бы работать в профашистской газете. С юных лет он связал свою жизнь с коммунистическим движением и никогда не торговал своими убеждениями. Газета «Импарсиал», с которой Амаду сотрудничал после выхода из тюрьмы, куда его посадили за коммунистические взгляды, была антифашистским изданием. Эта байянская газета первой в Бразилии открыто выступила против фашистской Германии, требовала от бразильского правительства установить дипломатические отношения с СССР и вступить в войну на стороне антигитлеровской коалиции. Утверждать обратное – значит подло и нагло лгать. И Жоржи Амаду не был «белым», он был бразильцем, байянцем и всегда гордился тем, что в его жилах текла кровь индейских и негритянских предков. А культ кандомблэ, к которому Жоржи Амаду имел отношение, является частью народной бразильской культуры, а не разновидностью культа вуду»[27]. К чести редакции «Книжного обозрения», они извинились перед читателями и признали, что автор заметки Игорь Дымов «допустил существенные неточности», поскольку опирался на статью Жанера Кристалдо «Доктор Фауст из Баии». Теперь, по крайней мере, понятно, почему инсинуации в адрес Амаду, появившиеся в наших средствах массовой информации, столь однообразны: статью этого Кристалдо, переведённую на английский, можно найти в интернете. Португальским наши журналисты не владеют, в противном случае репертуар измышлений был бы намного богаче. В бразильской прессе столько всего писали о Жоржи, даже в траурных номерах. Но в Бразилии подобные публикации вызвали резко негативные отклики простых бразильцев, читателей и поклонников творчества Амаду. Большинство статей подобного рода в нашей прессе остались без комментариев, хотя абсолютно клеветнические обвинения появились в нескольких российских изданиях. На фоне обвинений в сотрудничестве с фашистами утверждение, что Амаду был жрецом культа кандомблэ, бразильского варианта вуду, медиумом Эшу – бога смерти, кажется такой глупостью, что и внимания можно не обращать. Но поскольку эта информация повторяется постоянно, то необходимо внести ясность.
Кандомблэ – вовсе не разновидность вуду. Это совершенно разные религии, общим является только их африканское происхождение.
Действительно, Жоржи Амаду был оба́ на террейро Аше Опо Афонжа. Оба – светский титул, что-то вроде старейшины, и к магии отношения не имеет, поэтому медиумом не может быть по определению.
В современной Бразилии многие деятели культуры связаны с кондомблэ. Это стало модой. Но для Жоржи Амаду кондомблэ, или макумба – прежде всего неотъемлемая составляющая байянской жизни, часть национальной самобытности бразильского народа. «Байянские негры и их потомки – а это все мы, слава Богу! – сохранили в жестокой и трудной борьбе верность своим африканским богам. Это был способ, и один из самых действенных, борьбы против рабства, за сохранение элементов своей культуры. Они донесли до наших дней богатство песни и танца, прекрасные ритуалы, поэзию и тайну»[28].
Этот культ был запрещён не одну сотню лет, его адепты преследовались жесточайшим образом. Именно Жоржи Амаду в бытность свою депутатом бразильского парламента от Бразильской компартии внёс законопроект о легализации кандомблэ, и закон был принят. Поэтому титул оба – знак благодарности и уважения бразильского народа к мэстре. Так его и понимал Жоржи Амаду. И последнее, террейро Опо Афонжа – дом Шангу, бога грома и молнии, а вовсе не Эшу. И Эшу не имеет отношения к смерти, он «посланник богов, их почтальон, он проказник. Это всего лишь божество движения, любитель подраться, пошуметь, но в душе отличный парень»[29].
Пора положить конец подобным инсинуациям. Бразильских ниспровергателей Жоржи Амаду ещё понять можно (принять нельзя), ими движет элементарная зависть, пресловутый Кристалдо просто разрывается от злобы, когда говорит об Амаду. Не может этот деятель пережить, что не он, такой умный, с докторской степенью, полученной в Сорбонне, а Амаду известен во всём мире. И в партии-то Кристалдо не состоял, и домов на американские деньги не покупал, а читают не его, а Жоржи. А его самого знают только благодаря подмётной статье всё про того же Амаду.
Не только такие одиозные личности, но и вполне серьёзные бразильские литературоведы недооценивают творчество Амаду. Меня неприятно поразило, что многие бразильские критики ставят Жоржи Амаду на третье место после Машаду ди Ассиза и Гимараенса Розы, потому что Амаду пишет проще. Боже ж мой! Да разве люди читают книги для того, чтобы разбираться в сложностях синтаксиса?! Покажите мне хотя бы одного человека, который полюбил бы Бразилию, прочитав Машаду или Розу. Конечно, Машаду ди Ассиз – великолепный стилист, но его произведения отличаются от творений европейских писателей разве что большей снисходительностью к героям. А жёсткость Гимараенса Розы скорее может оттолкнуть.
Это Жоржи Амаду, а не Машаду ди Ассиз и Гимараенс Роза, и даже не Алвариш Кабрал открыл миру Бразилию. Это он связал наши сердца со своей родиной крепкой нитью любви и солидарности, он раскрыл нам надежды и чаяния своего народа. Поэтому книги Амаду читают и будут читать во всём мире, ведь в них есть то, что неподвластно политической конъюнктуре, то, что составляет реальную жизнь литературы, а именно: живая душа народа. И его книги читают те, кто хочет постичь эту душу, хочет пережить то, что переживают его герои, плакать и смеяться вместе с ними.
В Бразилии есть город, где Жоржи Амаду любят безусловно: это его родина, Ильеус. Мне посчастливилось побывать там в 2012 году на праздновании столетия писателя. В этом городе имя писателя на каждом шагу: есть улица Жоржи Амаду, школа имени Жоржи Амаду, аэропорт Жоржи Амаду. На улице его имени стоит дом, в котором писатель провёл своё детство и где он написал первый роман «Страна карнавала». Сейчас там находится музей и Фонд культуры имени Жоржи Амаду. Напротив музея – театр, где идут спектакли по его произведениям. Ты идёшь по центру города и как будто переносишься на страницы «Габриэлы». В квартале от дома писателя – бар «Везувий», где можно попробовать знаменитые киби Насиба. Перед баром – скульптура того, кто этот бар обессмертил. Вокруг всегда стайки туристов, все хотят сфотографироваться с великим ильеусцем. Чуть дальше – знаменитый «Батаклан», там и сегодня можно посмотреть выступления артистов. На площади у собора показывают своё мастерство капоэйристы. Имена Габриэлы и Насиба носят рестораны, магазины, аптеки. А вот многие улицы поменяли своё название. Нет больше улицы Жабы, теперь она называется Виконта Оуру Прету, а Змеиный остров – площадью Каиру. Зато сохранился дом Тонику Бастоса.
Программа празднования столетия писателя была буквально перенасыщена событиями: выставки фотографий и иллюстраций к произведениям Амаду, презентации книг, выступления поэтов, литературоведов, фольклорных ансамблей, работало поэтическое кабаре. В рамках фестиваля проходила литературная ярмарка «Читать Амаду», в работе которой я принимала непосредственное участие как автор книги «Русский Амаду». Я рассказала о любви русских читателей к произведениям Амаду, о необыкновенной популярности «Генералов песчаных карьеров» в нашей стране. Скажу честно, бразильцы были поражены. Наверное, на самом деле «Лицом к лицу / Лица не увидать»: надеюсь, что моё выступление помогло осознать бразильцам значимость творчества их земляка.
Самые главные события планировались, конечно, на десятое августа, но погода внесла коррективы в эти планы. Я всегда думала, что зимы в Бразилии не бывает. Оказывается, бывает. Правда, это совсем другая зима: с цветущими деревьями и порхающими колибри, когда светит солнце, температура поднимается до двадцати семи градусов, но… вечером падает до четырнадцати, а если учесть почти стопроцентную влажность, то ощущения не очень приятные. А 10 августа с самого утра лил дождь. На мессу в собор пришло буквально несколько человек, карнавальное шествие героев Амаду по улицам города пришлось отменить, выступления фольклорных ансамблей на центральной площади тоже были скомканы. Главным событием стало выступление сына писателя, Жоау Жоржи Амаду, с воспоминаниями об отце. Жоану Жоржи говорил не о великом писателе, а о человеке, очень хорошем человеке, добром, сердечном, с великолепным чувством юмора.
Программа заканчивалась поздно вечером. Самые известные бразильские певцы давали концерты под открытым небом на центральной площади Ильеуса. В последний день торжеств выступала семья Каимми – дети великого Доривала Каимми, автора песни о жангаде, ставшей лейтмотивом фильма «Генералы песчаных карьеров». В тот день также лил дождь, а с заходом солнца температура резко упала. В общем, холодина, дождь, ветер, но зазвучала эта песня: «Моя жангада уплывает вдаль…», и вся площадь запела вместе с артистами. Это было незабываемо. Только ради этого стоило четырнадцать часов лететь на другой конец земли.
В такие минуты с особой остротой ощущаешь уникальность великого байянца. Его талант – как комета, которая появляется на небосклоне раз в миллион лет. …В Баии существует легенда, что после смерти отважный человек становится звездой. И я верю, что где-то там, в просторах Вселенной, горит звезда по имени Жоржи Амаду.
Елена Белякова
2
За рубежом № 46, 1984.
3
Из архива Давида Выгодского // Латинская Америка. 1983. № 2. С. 128.
4
Эпоха правления Варгаса носит название «Новое государство».
5
Маркес Г.Г., Варгас Льоса М. Диалог о романе в Латинской Америке // Писатели Латинской Америки о литературе. М., 1982. С. 129.
6
Амаду Жоржи: Я просто пишу жизнь… // Известия, 18 августа, 1987 г.
7
Республика бродяг (порт.).
8
В СССР фильм был показан в конкурсной программе Международного Московского кинофестиваля 1 июля 1971 года. В широкий прокат в СССР фильм вышел в 1974 г.
9
Шор В. Что зреет на земле золотых плодов? // Звезда. 1949. № 2. С. 190.
10
Кутейщикова В. Н. Фантазия земли и духа // Литературная газета. 1982. 11 августа.
11
Каатинга – полупустыня с колючими кустарниками.
12
Амаду Ж. Выступление на Втором съезде советских писателей // Литературная газета. 1954. 26 декабря.
13
Raillard A. Conversando com Jorge Amado. RJ, 1990. С. 141.
14
Письмо Луису Карлосу Престесу из Москвы. // Литературная газета. 1952. 25 января.
15
Амаду Жоржи: Я просто пишу жизнь. // Известия, 1987, 18 августа.
16
Дармарос М. Жоржи Амаду и СССР. Заметки к теме. // Литература двух Америк. 2018. № 5. С. 275.
17
Эренбург И. Наш друг Жоржи // Литературная газета. 1962. 11 августа.
18
Raillard A. Conversando com Jorge Amado. RJ, 1990. С. 266–267.
19
«Амаду» значит «любимый» // За рубежом, 1970, № 27.
20
Волков О. Весёлый и жуткий мир //Амаду Ж. Дона Флор и два её мужа. М., 1970. С. 14.
21
Амаду Ж. Город Ильеус. М., 1963. С. 165.
22
Из частного письма Ж. Амаду, написанного в 1976 году.
23
Цитируется по переводу Ю. Калугина. «Иностранная литература». 1972. № 2–4.
24
Raillard A. Conversando com Jorge Amado. RJ, 1990.
25
Шульц Л. Жоржи Амаду: Россия вернётся на путь социализма // Советская Россия. 2001. 31 августа.
26
Дымов И. Умер Жоржи Амаду // Книжное обозрение. 2001. № 33. С. 2.
27
Белякова Е. Амаду был коммунистом, а не фашистом // Книжное обозрение. 2001. № 37. С. 22.
28
Амаду Ж. Бухта Всех Святых.
29
Амаду Ж. Бухта Всех Святых.