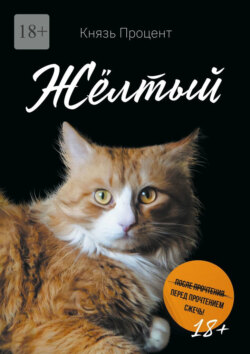Читать книгу Жёлтый - Князь Процент - Страница 19
Канцлер о книге,
озаглавленной «69 ± 1 = Ad hoc»
ОглавлениеСледующую сессию я начинаю с вопросов о творчестве моего клиента. В первых же главах повести, отмечаю я, рассказывается, как ребенком он изобретает шифры. Очевидно, что это неумелое детское изобретательство – следствие отношений с матерью. Последняя не проявляет сочувствия к влюбленности сына и грубо нарушает личное пространство ребенка, читая его дневник. Поэтому уже в детстве Канцлер стремится делать свои тексты непонятными.
Незадолго до этого он рассказывает мне о реакции Марины на «69 ± 1 = Ad hoc» еще кое-что, помимо описания ее обиды и неприятия. Она делится с мужем ощущением, будто роман рассказывает не о том, что описывает.
– Осознаете ли вы, что словно оберегаете смысл вашего текста от читателей? – спрашиваю я.
Даже через экран ноутбука я замечаю в глазах собеседника интерес и понимание.
– Мы осознаем, что книга допускает варианты толкования, – говорит мой клиент. – Да, она содержит шифры. Это сознательный ход. Может быть, на это повлияло детство, хорошо. Однако мы попросту любим загадки.
Делюсь с Канцлером впечатлениями от его романа. Это одна из самых холодных и бесчувственных книг, что я знаю. Моменты, когда главный герой этого пятисотстраничного фолианта проявляет к кому-либо малейшую симпатию, можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам одной руки. На фоне романа первые главы повести удивляют теплотой, с которой автор описывает жизнь и переживания мальчика. Я спрашиваю, что Канцлер чувствует при мысли о своем романе.
– Холодная книга или теплая, мы не разбираемся, – отвечает Канцлер. – Мы не умеем измерять книгам температуру. Книга – это текст. Текст, а не живое существо. Книга не может быть холодной или теплой. Она может быть хорошо или плохо написанной. Так вот, роман Канцлера написан хорошо. По нашему, разумеется, мнению.
Я спрашиваю, испытывает ли Канцлер удовольствие, описывая сцены унижения и сексуальной эксплуатации женщин Акемгонимом Горгоноем. Мой клиент заявляет, что не упомнит особенных унижений женщин в книге. Да и эксплуатация там будто бы обоюдная: секс героя с очередной девушкой всегда происходит по взаимному согласию.
Прошу собеседника рассказать, что для него самое интересное в «69 ± 1 = Ad hoc».
– Разговоры о литературе, пасхалки, аллюзии, – произносит Канцлер.
Выходит, говорю я, он осознает, что роман труден для понимания. В ответ мой клиент утверждает, что читатели смотрят в его книгу и видят фигу. Именно так он выражается. Ему нравится этот эффект. Пасхалки отражают читательский и зрительский багаж автора, рассуждает Канцлер. Не самый внушительный багаж, уточняет он. Мой интеллектуальный багаж скромнее, замечаю я, поскольку мне непонятно, что Канцлер показывает в «69 ± 1 = Ad hoc», помимо сексуальных сцен различной степени откровенности.
Подобного выпада, пусть и вежливого, достаточно, чтобы любой писатель захотел объясниться, полагаю я. Из-под пера моего стародавнего клиента Вениамина Громомужа тоже выходят не самые понятные тексты, хотя роман Канцлера, отдаю ему должное, страннее. В свое время мы с Вениамином тратим не одну сессию на прояснение смысла его книг, ведь практика свидетельствует, что проявление интереса к творчеству человека – это верный путь к установлению доверительных отношений с ним. Наши с Громомужем многочасовые откровенные беседы начинаются именно с моего аккуратно высказываемого сомнения насчет наличия смысла в его текстах.
Канцлер оказывается более толстокожим или ленивым, чем Вениамин, и реагирует на мою провокацию без энтузиазма. Вероятно, дело в том, что он пишет позднее Громомужа и благодаря тематическим литературным сайтам имеет возможность прочитать множество закаляющих негативных отзывов о своем творчестве.
– Может быть, нам лучше перейти к конкретным примерам? – спрашиваю я.
Вопрос восприятия писателем читательской реакции как никакой другой близок к теме мотивации творчества, а недостаточность этой мотивации и является первоначальным запросом Канцлера. Я ожидаю, что он поддержит почин. Все мои клиенты из когорты творческих людей готовы бесконечно говорить о нюансах своих произведений.
– Мы не любим обсуждать роман Канцлера, – произносит мой собеседник. – Особенно конкретные примеры.
– Почему? – интересуюсь я.
– Речь про эмоцию, – отвечает Канцлер. – Или, если точнее, про отсутствие эмоции. Кто знает, чем обусловлены такие вещи? А обсуждать подробности своего творчества – это моветон.
– Скажите хотя бы, о чём для вас эта книга? – спрашиваю я.
– О литературе как форме искусства, – говорит мой клиент. – О том, какой, по нашему мнению, должна быть литература.
(В приведенной части диалога достигла апогея любовь рассказчика к указаниям на то, кому из двух собеседников принадлежит очередная реплика. Это именно реплики – фразы настолько короткие, что читатель вряд ли может успеть забыть, чей теперь черед высказаться. Справедливости ради отмечу, что здесь не повторяются глаголы, а еще всё хорошо с атрибуцией диалога. «Произносит» – «интересуюсь» – «отвечает» – «спрашиваю» – «говорит»: как видите, все пять глаголов разные, нет ни скрипов, ни чихов.
Если убрать подсказки-костыли, текст получится динамичнее.)
– Мы не любим обсуждать роман Канцлера. Особенно конкретные примеры.
– Почему?
– Речь про эмоцию. Или, если точнее, про отсутствие эмоции. Кто знает, чем обусловлены такие вещи? А обсуждать подробности своего творчества – это моветон.
– Скажите хотя бы, о чём для вас эта книга?
– О литературе как форме искусства. О том, какой, по нашему мнению, должна быть литература.
Это кое-что значит: Канцлер несколько лет пишет книгу о форме. Не о чувствах, а о форме. Я так понимаю, для него «69 ± 1 = Ad hoc» – своеобразный манифест. Возможно, роман получается настолько холодным именно поэтому.
– А новая повесть – это книга о вашем детстве?
(К счастью, тут обошлось без уточнения, кто задает вопрос.)
– Юношей Канцлер увлекся историей живописи, – ни к селу, ни к городу произносит мой клиент. – Он тогда жил на ферме. В сельскую библиотеку начали привозить еженедельный журнал «Художественная галерея». Это был чудесный журнал, уж поверьте. Вам не доводилось читать такой? Мы думаем, сейчас он не произведет большого впечатления. Да еще и на взрослого человека. А тогда Канцлер даже не знал о существовании Интернета. Альбомов с репродукциями картин дома не было. Этот журнал стал для Канцлера окном в мир.
(Можно было бы справиться без слов «произносит мой клиент», но они в совокупности с дополнением «ни к селу, ни к городу» передают впечатление рассказчика от речи собеседника.)
Каждый выпуск был посвящен одному художнику, – продолжает Канцлер. – Там содержались биографические факты, описание нескольких шедевров, а еще рассказывалось про музеи. Канцлер старался запомнить побольше. В библиотеку, знаете ли, поступал единственный номер каждого журнала. Его нельзя было взять домой. Канцлеру разрешали посещать библиотеку дважды в месяц. Причем задерживаться там было себе дороже, ведь на ферме ждала работа. И вот он успевал минут десять полистать новые журналы. Это были лучшие минуты за две недели.
(Признаюсь, моим первым желанием после прочтения этого абзаца было убрать слова «продолжает Канцлер». Затем я понял, что благодаря им можно дифференцировать прямую речь и речь рассказчика: он часто передавал высказывания собеседника своими словами, а не приводил точь-в-точь, но в данном случае сделал именно последнее.)
Лицо моего клиента становится мягче, складки возле рта будто разглаживаются. Он говорит живее обычного, и сам голос его делается звонким, словно мальчишеским.
Канцлер вспоминает, что в библиотеке, располагающейся на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, стоит полумрак. Там всегда лучше, чем на улице: в жару прохладно, а в стужу тепло. В читальном зале приятно пахнет старыми книгами. С тех пор Канцлер любит старые книги с загнутыми, надорванными, а иногда даже отсутствующими уголками рыжих или масляного цвета страниц, выпадающих из разваливающихся корешков; с длинными предисловиями и странными ценами на последних страницах обложек.
Заходя в библиотеку, Канцлер здоровается с пожилой заведующей, сдает книги и называет те, что хочет взять. Библиотекарша идет в хранилище. Юноша, которому как постоянному и аккуратному посетителю дозволяется вести себя немного по-хозяйски, берет два новых номера «Художественной галереи» и усаживается в читальном зале. Несколько старичков за соседними столами листают газеты и поглядывают на Канцлера. Пока библиотекарша ищет книги, тот успевает запомнить даты жизни двух художников, а также выучить названия, годы создания и места хранения нескольких картин каждого. Образы этих картин на годы остаются в памяти моего будущего клиента. Он и сейчас помнит их детали, которые выхватывает скорым взглядом во время мимолетных посещений библиотеки.
По пути на ферму Канцлер повторяет про себя годы жизни всех мастеров, с творчеством которых знаком, и в воображении воссоздает их произведения. Заготавливая сено, наливая воду и насыпая корм кроликам, убирая их воняющие едкой мочой и облепленным мухами калом клетки, пропалывая и поливая огород, подвязывая цветочные кусты, собирая кишащую отвратительными мокрицами смородину, покрытую паутиной и тлей вишню, всю в гусеницах и клопах малину, усеянные муравьями сливы, червивые яблоки и занимаясь другими делами по хозяйству, юноша сопоставляет биографии художников, пытается находить различия и черты сходства в их манере письма, а еще мечтает увидеть воочию каждую картину, которую хранит в памяти: не репродукцию в журнале, а настоящее полотно, оригинал.
Однажды Канцлер решает поделиться своим увлечением художественным искусством с отцом. Плотно пообедав, тот заворачивается в два пледа: стоят крещенские морозы, а дом-развалюха плохо отапливается. Отцу нечем заняться. Он пьет чай и минуту слушает восторженный рассказ о картинах Клода Моне, а затем велит сыну подать телефон. Родитель моего будущего клиента звонит двоюродной сестре жены, той самой, чья приятельница работает директором школы-экстерната, и поет ей «Очи черные». Он любит петь, как и тетушка Канцлера. Пару раз в неделю отец по телефону исполняет ей русские романсы, а в перерывах между звонками задается вопросом, не грешны ли песни о страсти.
Тем морозным январским днем Канцлер в едва отапливаемом домишке в сотый раз слушает отцовское исполнение старого романса. Отец поет только первый куплет: он не знает целиком ни одну песню. Голос у родителя дурной, блеющий, поет он всегда одинаково, с повторяющимися из раза в раз ужимками. Это пение раздражает моего будущего клиента: оно мешает сосредоточиться на занятиях учебой или попытках литературного творчества.
Слушая блеяние отца, Канцлер представляет, как перерезает тому горло острым ножом. Кровь фонтаном льется на черную бороду родителя и на оба пледа. Пока отец кривляется, блея в трубку, плед яркого цыплячьего цвета съеживается на другом, раскраской напоминающем сочную луговую траву. Это сочетание цветов рождает в воображении юноши образ огромного лютика, растущего посреди свежей зелени и заливаемого кровью. Лютик пульсирует в глазах Канцлера, становится то бурым, то абрикосовым, а затем, упиваясь кровью и омываясь от нее, приобретает исконный цвет. Внезапно луг, на котором растет гигантский цветок, сотрясается: отец встает с дивана. Верхний плед разворачивается, и лютик словно распадается на множество маленьких цветочков куриной слепоты, устилающих траву.
Отец продолжает блеять, но Канцлер уже не обращает на него внимания. Новое ощущение заполняет моего будущего клиента с головы до ног. Он чувствует, что самый красивый в мире цвет это вовсе не цвет маков и пожарных машин, как сызмальства втолковывает ему мать. Красивейший цвет – цвет лютиков, цвет заливаемого солнечным светом поля, на окраине которого всё пируют и пируют счастливые и свободные ровесники Канцлера; цвет фонарей поезда, подъезжающего по устилаемым снегом рельсам к унылой подмосковной станции; цвет страниц записной книжки Степана и страниц старых библиотечных книг.
– Мы думаем, – заключает мой собеседник, – что новая книга будет об этом самом цвете в искусстве европейских художников.
Будущая кардинальная смена жанра творчества Канцлера меня не касается. Я считаю важным обсудить кое-какие эпизоды его повести.
– Что вы чувствуете, когда мать не верит вам в детстве? Ее мнительность – один из основных мотивов вашего текста, как мне кажется.
– Канцлера раздражало и обижало недоверие мамаши. Эти ощущения усугублялись тем, что мамаша абсолютно не понимала своего ребенка. Его детское вранье часто оставалось нераскрытым. Если же Канцлер говорил правду, мамаша была уверена во лжи сына. Она считала, что видела ребенка насквозь. Притом не чувствовала его вообще. Удивительно, какое это было полное непонимание.
Мы недавно хотели посмотреть фильм «Смерть и девушка», – продолжает Канцлер. – Это было фиаско: мы умудрились скачать итальянский перевод. Напоминает взаимоотношения мамаши с Канцлером.
– А сейчас как вы относитесь к ее недоверию?
– Мы привыкли. Мамаша неадекватно воспринимала реальность. Ее восприятие такое и поныне. Она глупа или психически нездорова, мы затрудняемся сказать точно.
Я пытаюсь уловить в тоне собеседника раздражение, обиду, но он по-прежнему маскирует эти чувства, когда речь идет о родителях.
– Вы любите свою маму?
– Нет.
– А проблему вы в этом видите?
– Дети не обязаны любить родителей. Любовь есть или нет. Есть – хорошо, нет – и ладно.
– У вас нет чувства вины за такое отношение к родителям?
(Не сомневайтесь, предыдущую часть диалога я нашел в обрамлении назойливых «спрашиваю», «отвечает», «интересуюсь» и «говорит», после чего спросил у себя, буду ли готов отвечать перед читателем, который поинтересуется, что говорила мне совесть, когда я оставлял в тексте перечисленные подсказки. Задав себе этот колченогий вопрос, я вышиб из диалога костыли.)
Мой клиент молчит и смотрит в одну точку, затем произносит:
– Некогда Канцлер чувствовал вину. Родители всю его жизнь давили на обязанность уважать их, любить. Однако нельзя принудительно уважать и любить. Принудительно можно лишь выражать эти чувства.
– Когда вы впервые понимаете, что не любите родителей? Что вы при этом чувствуете?
– Канцлер разлюбил папашу лет в тринадцать, мамашу – года через два. Осознав это, почувствовал разочарование. И ужас от мысли, что его жизнь так долго направляли столь глупые люди.
– Как вы справляетесь с этими чувствами?
– Мы осознали, что детство нужно было пережить. Что детство было неупорядоченной цепью случайностей. Что мы выросли такими случайно. Пережив детство, нужно брать жизнь в свои руки. Мы так и сделали, насколько это возможно.
– У вас нет желания отомстить родителям? Сделать им больно?
– Надо бы, да лень. Канцлер так и не собрался. Есть множество более интересных вещей. Литература, кино, живопись – искусство в целом. А еще путешествия, хорошая одежда, женщины… Вы удивитесь, однако нас, правда, любят женщины. Женщины любили Канцлера всегда. То есть лет с шестнадцати и поныне.
Мы порой вспоминаем эпизод из юности. Мамаша отвела тринадцатилетнего Канцлера в детскую поликлинику. Ухоженная пожилая врачиха расшифровывала его анализы. Между делом она трепалась с родительницей Канцлера. «Красавец растет, – говорила докторша. – Набегаются за вашим парнем девчонки». Канцлер тогда еще не целовался. «Когда же эти дуры побегут?» – размышлял он.
Мой собеседник самодовольно улыбается.
– Года четыре спустя Канцлер услышал топот, – продолжает он. – Обернулся, а за ним бежали женщины. Они до сих пор бегут. Так что да, женщины всегда любили Канцлера. Даже когда он был нищим студентом и зарабатывал разносом листовок. И когда работал юристом три года без отпуска.
Тогда он изобретательно подходил к любой женщине. Первые любовницы Канцлера были разномастными. Студентки, обычно из других ВУЗов. Взрослые дамы. Была абхазка за тридцать пять. Канцлер заменил ее башкиркой лет тридцати семи. Эта была руководителем юридического департамента крупной фирмы. Канцлер соблазнил ее маникюршу, а потом и домработницу. Обе были молдаванками.
Даже теперь мы открываем электронный ящик и находим женские послания. Там и любовные признания есть. Это что касается женщин. Большинство же мужчин созданы, чтобы пить дешевый алкоголь и завидовать нам.
Я возвращаю разговор в прежнее русло:
– Вы допускаете, что родители любят вас?
– Эмоции испытывает конкретный человек. Только этот человек может сказать, любит он или нет. Но самодостаточность любви как чувства – миф. Мы убеждены в этом. Важно, как любовь проявляется. Вот папаша ревновал жену к сыну. Он так и не понял, что женщины любят детей сильнее мужчин. Успехи Канцлера бесили папашу, а неудачи вызывали его злорадство.
– Вы всерьез полагаете, что женщины любят детей больше, чем мужчин?
– Другого мы не видели.
– Адекватная взрослая женщина будет любить мужчину больше, чем ребенка. Ну, может, кроме первых двух лет жизни ребенка.
– Мы тоже полагаем, что любить ребенка больше его отца ненормально. Впрочем, статистика знакомств Канцлера говорит о ненормальности большинства женщин.