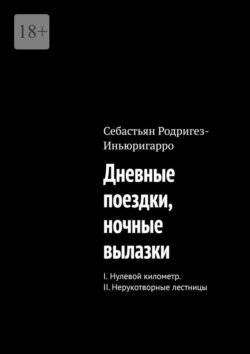Читать книгу Дневные поездки, ночные вылазки. I. Нулевой километр. II. Нерукотворные лестницы - - Страница 6
I. Нулевой километр
5. Радиус перемещений
ОглавлениеЗимой ездили в Капу. Город был в сущности такой же, как осенний Жемс, только мокрый, заледеневший, серо-коричневый и местами непроходимый. Синие лампы в пыльных витринах приглашали самую долгую ночь в году и еле виднелись в бесцветности дня. Запах пережаренных зёрен и миндального молока сообщал блужданиям то, с чем не справлялась иллюминация.
Стемнело в начале четвёртого. Лампы не вспыхнули, но растворились в плашках фасадов и выемках подворотен. Капа превратилась в городок без малого призрачный, лимбически томный.
– Мы будто приезжаем в одно и то же место, – сказал Ил, – но каждый раз не туда.
– И дело вовсе не в смене сезонов, – согласился Андерсен. – И не в выборе между населёнными пунктами.
– Почему нам нельзя отдаляться от интерната более чем на сорок четыре мили, – Ил свёл на нет вопросительную интонацию.
Он подозревал, что есть некое общее знание, в характерной манере от него ускользнувшее.
– Будь я преподаватель словесности, – тонко улыбнулся Андерсен, – я бы сейчас трагически заломил руки: ну вот, началось, они ищут ответов – что, что мы должны им сказать? Но вряд ли кого-то из учеников шокирует правда – они её знают. Ты заметил? Запреты на перемещения демонстрируют оцепенелое постоянство, на первый взгляд контрастирующее с метаморфозами исторических параграфов. Юридическое обоснование эдиктов – ежегодно прирастающий слоями хлам искусственных слов. Меж тем, причина проста. Как ты думаешь, люди за стенами домов, мимо которых мы идём, могут без запинки назвать имена своих родителей?
Ил помедлил.
– Полагаю, как ни странно, могут.
– Верно, даже если таковые давно умерли или сдали детей на руки друзьям, родственникам, соседям и прочим. А в Фогре могут?
– Я не знаю, чем столица отличается от провинции.
– Ничем, кроме размера. Слепи четыре городка, открытые для дневных поездок, присыпь дополнительной горстью латунной мелочи – получишь раздрай центральный.
– Серьёзно? – Ил поднял бровь, скорей индифферентный, чем удручённый.
– Серьёзно, – уверенно кивнул Андерсен и продолжил, минуя паузу: – Вопрос второй, факультативный. Место своего рождения ты тоже назвать не можешь?
Ил посмотрел вперёд, улыбаясь налево. Вспомнил, как Нелли объявила, что половина стран, фигурирующих в историях Андерсена, придуманные. Даже прибегла к библиотечному понятию «фэнтези». Тогда Ил показал ей на карте чужую столицу. Сказал: «Когда-то я жил в городе с этим названием, но Соляное Полукружие, Фогра и Жемс считались бы там плодами воображения». «За границей сейчас все необразованные! – с восторгом вступила Нелли. – Это нарочно… Но и у вас уровень знаний ниже плинтуса, потому что некоторым до фени…". Разумеется, Нелли не поняла, что он имел в виду, как не понимала, откуда берутся незнакомые её слуху топонимы Андерсена, а слов «Когда-то я жил…» просто не услышала, потому что ей, в сущности, было до фени.
Ил улыбался налево, риторический вопрос придавал синей иллюминации смешливую дрожь.
– Сотня вариантов в некотором смысле равносильна отсутствию ответа, – тихо сказал историк. – А люди за стенами точно знают, что живут там, где появились на свет. При необходимости они укажут адрес госпиталя, год, дату, час, но фамилия, обозначающая принадлежность к роду – это всё-таки главное. Директор говорит, вы совсем одичаете, если не вывозить вас во внешний мир. Он запутался, бедняга: вы давно одичали. Вы обитаете в интернате, потому что успели одичать – хорошо, что немногие знают, насколько. Даже в качестве обыкновенных сирот, брошенных без опознавательных знаков, вы считаетесь группой риска, ведь Фограва держится на всеобщем родстве: на беспочвенной уверенности – «наши пра-пра-пра жили на этой земле с момента зажжения солнца в небе». Формула меняется, посыл остаётся: на отношения с государством наложена схема неоплатного долга отпрысков перед отцом и матерью. А вы не в курсе, кому задолжали. Учебники, конечно, призваны объяснить, но дидактический трёп не встроит в организм то, чего не вбивает повседневность. На данный момент треть Фогрийской Дюжины считает, что дневные поездки – безрассудное попустительство, практика устаревшая или как минимум бесполезная, и, вставая на их позиции, трудно не согласиться, но мы-то взираем на положение дел со своей колокольни. С той самой, на починку которой бюджета издревле не хватает. Пока в силе те, кто снисходительно принимает радиус перемещения в сорок четыре мили, можно не поддаваться панике. Не поддаваться.
– Где-то я уже слышал такие песни… – протянул Ил и добавил якобы невзначай: – Логично предположить, что никто из нас не помнит места и обстоятельств рождения, но при необходимости и то, и другое можно восстановить.
– Логично предположить, – отозвался Андерсен ироничным эхо.
Ил чувствовал себя избалованным, зная, что произнесёт через минуту. Учитель истории привил ему привычку выдавать мутные истины законченными предложениями – цельно, чётко, на выдохе. Вслух.
Поворот послужил сигналом – пора:
– Я вовсе не поручусь за то, что у меня были какие-то родители и натальная палата. Я не попал в интернат, я туда проснулся. Нет, если к стенке прижать, я, конечно, изобрету связку легенд разной степени фантастичности, и, прислушиваясь к тому, что несу, обнаружу, что в противоречащих друг другу версиях есть уловимая или неуловимая общность, которая лично мне покажется до неловкости похожей на правду. Но я в интернат проснулся.
– То есть эти маленькие города, дневные поездки, наша жизнь как на острове – явь? – уточнил Андерсен.
Ил оценил наводящий вопрос и ответил:
– Искренне сомневаюсь.
Историк прикрыл глаза, будто услышал то, на что рассчитывал. Подвёл черту:
– Люди за стенами совершенно уверенны в том, что бодрствуют. Может быть, именно поэтому они выживают. А мы – ни шатко, ни валко – живём. Ещё одна веская причина для сокращения радиуса.
– Где-то я уже слышал эти песни… – повторил Ил.
– Полагаю, найти песню, которую ты ещё не слышал и не насвистывал, довольно трудно, – заметил Андерсен. – Но разве это повод замолчать, заткнуть уши, не писать поперёк линеек, мимо клеток, поверх печатного текста?
Ил пружинисто оттолкнулся от рыхлого тротуара, и три гипотетических шага свелись к одному.