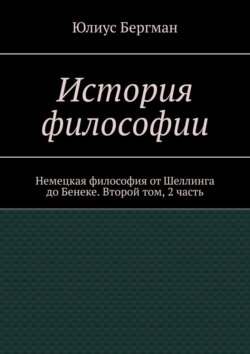Читать книгу История философии. Немецкая философия от Шеллинга до Бенеке. Второй том, 2 часть - - Страница 10
I. ШЕЛЛИНГ, БААДЕР, ШЛЕЙЕРМАХЕР, КРАУЗЕ, ГЕГЕЛЬ, ШОПЕНГАУЭР
ШЛЕЙЕРМАХЕР
1. ДИАЛЕКТИКА
ОглавлениеШлейермахер согласен с Фихте в том, что в основе системы наук должна лежать наука, предметом которой является само знание. В задаче этой науки, характеризуемой им как всесторонний анализ идеи знания, он находит две объединенные задачи. Чтобы мысль была знанием, она должна, во-первых, соответствовать отвечающему ей бытию, а во-вторых, в своем" связующем» отношении с первым она должна стать знанием в соответствии с правилами связи; поэтому наука о знании должна, во-первых, сделать нас уверенными в отношении мысли к бытию, а во-вторых, предоставить нам определенные и непогрешимые правила связи мысли, чтобы она объединила в себе предыдущую метафизику и предыдущую логику. Эти две задачи, добавляет он, неразделимы; логика без метафизики – не наука, а метафизика без логики не может иметь никакой формы, разве что произвольную и призрачную. Краткие замечания, которыми он обосновывает это утверждение, непонятны. Далее, продолжает он, оправдано дать науке о знании название диалектики, ибо, согласно тому, что встречается под тем же именем у древних, диалектика есть действительная теория мысли, согласно которой каждая мысль должна быть так организована, чтоб она отвечала своему предмету и занимала определенное место в системе всей мысли, и таким образом и сама по себе представляла правила связи мыслей. Многочисленные отрывочные и по большей части лишь приблизительно понятные рассуждения о понятии диалектики, которые были опубликованы из собрания сочинений Шлейермахера, не могут быть рассмотрены здесь далее. Из вводных замечаний о диалектике необходимо упомянуть лишь о высшем подразделении этой науки. Оно вытекает из указанного разделения ее задачи на две части. Таким образом, она делится на трансцендентальную и техническую, или формальную, часть. Первая, соответствующая прежней метафизике, имеет дело с отношением мысли к бытию; вторая, соответствующая прежней логике, имеет дело с производством знания в связи с мыслью. —
Диалектика исходит из определения знания, которое отличается от того, которое употребляется для более близкого определения ее задачи, постольку, поскольку она требует от мысли, чтобы она была знанием, кроме ее согласия с бытием, в ней задуманным, – не того, чтобы она мыслилась по правилам связи, но чтобы она производилась одинаково всеми мыслителями и сопровождалась сознанием этой необходимости, чтобы она была основана, следовательно, не на большинстве и различии мыслящих субъектов, а на их тождестве. В той мере, в какой мышление согласуется с бытием, оно обладает истиной; но это не знание, а только верное мнение, если не осознается, что все люди должны мыслить одинаково.
Согласно диалектике, в мышлении в целом объединяются два вида деятельности. Одна из них основана на организации или органической функции, то есть на чувственном восприятии, другая – на разуме или интеллектуальной функции. Шлейермахер определяет их различие в основном так же, как и Кант. Органическая деятельность, говорит он, является источником разнообразия; через одни только органы чувств мы получаем лишь хаотическую множественность впечатлений. Деятельность разума – источник единства и множественности, или (как она называется в другом месте) объединения и одновременно противопоставления; таким образом, она привносит в хаотическую множественность чувственных впечатлений то единство, благодаря которому мы представляем себе разделенное и определенное бытие. Далее: «Через открытость психической жизни вовне = организацию, мышление приходит к предмету или к его субстанции; через деятельность, которая всегда одна и та же, независимо от всех различий предмета = разум, оно приходит к его форме, в силу которой оно всегда остается мышлением». Получается, что, вопреки Канту, он причисляет пространство и время к тем вещам, которые проистекают из интеллектуальной функции, но по этой самой причине у Канта они относятся к форме предметов; по крайней мере, он время от времени называет их формами. Из различия между органической и интеллектуальной деятельностью он выводит три вида мышления: собственно мышление, с преобладающей рациональной деятельностью и присущей ей органической деятельностью, формами которой являются понятие и суждение; восприятие, с преобладающей органической деятельностью и присущей ей рациональной деятельностью; и созерцание, с равновесием между ними. Созерцание, однако, возникает только как становление в колебании двух других форм, и каждое созерцание должно быть подведено под одну из них. Не существует мышления, в котором полностью отсутствовала бы одна из этих двух деятельностей, и то, что вносит каждая из них, не может быть выделено без анализа подлинного мышления, без получения, таким образом, чего-то, что не может быть доказано само по себе. Деятельность органической функции без всякой деятельности разума еще не есть мышление, ибо она не есть даже фиксация предмета; точно так же и деятельность разума, если бы она была поставлена без всякой активности организации, уже не была бы мышлением. Общие понятия также содержат органическую деятельность, поскольку в своем первоначальном происхождении они напоминают индивидуальные разумные идеи предметов, подпадающих под них: например, понятие вещи вообще содержит органические элементы, поскольку вещь означает то, что может воздействовать на организацию, и это как существующая вещь во множестве впечатлений. Даже пропозиция a = a, если она должна быть чем-то большим, чем пустая форма, имеет органическую сторону.
Второе фундаментальное различие в учении Канта о познании – внутреннее и внешнее мышление или, точнее, восприятие – лишь затрагивается в диалектике, хотя, как будет показано, оно составляет необходимую предпосылку собственно метафизических рассуждений диалектики. Об отношении содержания внутреннего восприятия или самосознания к мысли автор замечает: «Мысль может быть в нас и вне нас, но состояние и действие в нас все же отличны от мысли, ибо и то и другое может быть без мышления о них, так что предмет, даже если он внутренний, все же вне мысли, а в нас он только и есть, не в той мере, в какой мы мыслим, а в той мере, в какой мы являемся». Вскоре, однако, в числе того, что может быть предметом мышления, становится доступно и само мышление. «Мы сами, – говорит он, – есть нечто иное, чем просто мышление, и все, чем мы являемся, даже само мышление, может стать для нас предметом мышления». Для восприятия самого мышления нам также необходима «внутренняя организация, а именно внутреннее ухо и память».
Диалектика также по существу согласна с различием Канта между аналитическими и синтетическими суждениями. Она считает, что не существует ни тождественных суждений, ни таких, в которых предикат в субъекте не является даже возможностью, поскольку они были бы совершенно бессодержательными, в них отсутствовала бы форма, отношение между предикатом и субъектом, т. е. связь мысли с бытием. Поэтому предикат помещается в субъект либо в соответствии с его актуальностью и определенностью, так что он составляет его часть, «либо только в соответствии с возможностью, в этом случае он не составляет его части, и поэтому существует два вида суждений: аналитические, в которых предикат стоит в первом, и синтетические, в которых он стоит во втором из этих двух отношений к субъекту. Если мы рассмотрим с точки зрения этого различия общие суждения, т.е. те, которые говорят о предмете то, что ему причитается в соответствии с его понятием (которые не являются «высказываниями о простом факте, где фактическое суждение является простым определением времени и не имеет ничего общего со знанием»), то они, если бы их субъектные понятия были все совершенными (полными) понятиями, все были бы аналитическими, поскольку в совершенном понятии все, что может быть сказано по отношению к нему, должно было бы позиционироваться как его часть. «По отношению же к неполным понятиям существуют суждения одного и другого рода; чем неполнее понятия, тем больше предикаты являются лишь возможностями субъекта, чем полнее, тем больше все суждения имеют ту форму, когда предикаты уже позиционированы в субъекте. Например, если мы скажем: человек смертен, то все сейчас же признают, что термин смертный является частью термина человек. Но если вернуться еще дальше назад, то было время, когда понятие человека «было еще настолько несовершенным, что понятие смертности еще не было включено в него, но когда смерть была воспринята, смертность была просто включена как возможность в понятие человека». (См. комментарий выше на с. 27.)
Сведения, которые можно почерпнуть из диалектики о ее позиции в отношении четвертого кантовского различия – знания a priori и» postoriori – весьма неудовлетворительны. Из его учения о соотношении органической и интеллектуальной функции прямо следует, что ко всякой истине принадлежит нечто, что разум добавляет от себя к тому, что дано чувственностью, к внутренне запутанной множественности воспринимаемого, нечто, что поэтому является a priori, а именно, говоря словами Канта, нечто, в чем ощущения могут организоваться в моем представлении и быть облечены в определенную форму. Но Шлейермахер отрицает, как кажется, что можно отделить это чисто психическое содержание от эмпирического, рассмотреть его само по себе и таким образом прийти к дедуцированным понятиям a priori. Ведь не должно быть понятия, которое не содержало бы в себе никакой органической деятельности. Если допустить, таким образом, что пространство и время принадлежат к тому, что интеллектуальная функция не несет в себе готового, но что вызывается чувственными впечатлениями, то, согласно его взгляду, эти формы действительно составляли бы априорную составную часть того, что воспринимается, но мы не только не смогли бы представить их самих по себе, очищенными от всего, что в них воспринимается, но и не смогли бы абстрагироваться от эмпирического в них и таким образом сформировать чистые понятия пространства и времени. Например, причинность, которую Шлейермахер объявляет тем, что соответствует в бытии форме суждения, действительно была бы «априорной», поскольку мы не находим ее в том, что дано через органы чувств, но добавляем к ней, делая ее предметом суждения, но о нашем понятии причинности следовало бы сказать, что оно не имеет в качестве своего содержания простую причинность, отделенную от всего остального, и поэтому не является «априорным». То, что диалектика отвергает предположение о существовании понятий a priori», явствует также из того факта, что она возлагает происхождение всех понятий в равной степени на разум. Если существует знание, утверждает она <диалектика>, то система всех понятий, составляющих знание, должна быть дана вневременным образом в Едином Разуме, который «обитает во всех». Нельзя сказать, что понятия дремлют в разуме до тех пор, пока их не пробудит органическая причина, но разум является живой силой для производства всех истинных понятий, не только этических, но и физических, не только высших, но и низших, например, понятий определенных родов и видов природных вещей, как учил Платон, тогда как Лейбниц ошибочно проводил противопоставление между врожденными и приобретенными понятиями. «Это вневременное бытие всех понятий в разуме есть истина в учении о врожденных понятиях, поскольку оно противостоит учению, рассматривающему все понятия лишь как вторичные продукты органических привязанностей. Но это выражение ложно, поскольку оно подразумевает, что сами понятия заложены в разуме до всех органических функций, а становятся понятиями только тогда, когда эти две функции соединяются». Что касается вопроса о том, существуют ли суждения a priori и, более конкретно, синтетические суждения a priori, то из неясных рассуждений диалектики о суждениях, их отношении к понятиям и их отношении к бытию можно извлечь не более того, что Шлейермахер проводит различие между спекулятивным и эмпирическим знанием в целом. Из введения к «Теории нравственности» все же следует, что и спекулятивное, и эмпирическое знание – это соединение мысли, которая идет к общему, и представления, которое идет к частному, но что в первом случае преобладает мысль, во втором – представление, и что в первом случае общее рассматривается как порождение частного или как идея, во втором – частное рассматривается как реализация общего или как явление. —
По мнению Шлейермахера, нет и не может быть такого способа мышления, который бы полностью соответствовал определению знания, поставленному во главу диалектики (см. выше, с. 311). Даваемая этим определением характеристика, что знание есть мышление, которое обязательно производится одинаковым образом всеми способными мыслить, или что оно основано не на большинстве и различии мыслящих субъектов, а на их тождестве, одним словом, всеобщности, не может быть в полной мере отнесена ни к одному мышлению. Различное и тождественное в мышлении, индивидуальное мышление и общее, по его мнению, не могут быть полностью разделены, поэтому мышление во всей своей полноте также должно быть окрашено «различным». «Следовательно, в действительности не существует чистого знания, а есть лишь различные концентрические (эксцентрические?) сферы общности опыта и принципов». «Относительность знания… установлена сознанием самого знания и существенна для него». Мы можем только настаивать на том, чтобы в каждой мысли мы осознавали индивидуальный коэффициент, отношение индивидуального к общезначимому, чтобы в конечном результате индивидуальное отступило как минимум. Препятствием к полному устранению индивидуальной идиосинкразии является прежде всего то обстоятельство, что для мышления нам нужен язык. Ведь существует несколько языков, и в каждом языке опять-таки есть несколько эксцентрических кругов; но насколько своеобразен язык человека, настолько же своеобразно и его мышление.
«Ни одно знание на двух языках не может считаться полностью одинаковым, даже вещь и a = a». Это справедливо и для диалектики. «Диалектика не может проявлять себя в одной и той же форме вообще, но должна быть прежде всего выставлена только для определенной группы языков; и следует заранее признать, что для каждого из них она должна быть поставлена по-разному в разной степени». Только к математическому знанию не применима причина, вытекающая из языка, поскольку оно не требует языка. «Но оно существует только в личных комбинациях и таким образом становится относительным», и «результаты действительно одинаковы, но знание заключается не в результате, а в реализации мысли».
Шлейермахер, несомненно, считал, что вторая характеристика, содержащаяся в понятии знания, – соответствие мысли бытию – не может быть отнесена к любому мышлению в совершенстве и что это соответствие не может быть найдено иначе, чем в связи с определенным различием в мышлении. Об этом можно судить уже по тому, что, по его словам, нет мышления, которое не содержало бы в себе ничего, происходящего из органической аффектации, и что он объясняет далее, из двух сторон, которые имеет органическая аффектация, – обращенную внутрь, по отношению к своему ощущению, и обращенную наружу, а именно к поражающему, внешнему существу, по отношению к которому она называется восприятием, первая есть то, что она есть, благодаря своей принадлежности к отдельному человеку, и поэтому является основанием и местом особенности (по общему признанию, также подчиненной тождеству в роде), а не общности. Однако в его дошедших до нас заметках о диалектике этот недостаток, присущий всякому мышлению, не рассматривается сколько-нибудь подробно. Они позволяют еще сильнее укрепиться убеждению, что между мышлением в его первой форме, восприятием, и бытием существует существенное соответствие и что поэтому нам не нужно, как учил Кант, отказываться от всякого познания бытия.
Окончательное основание уверенности в том, что соответствие мысли бытию не является пустой мыслью, Шлейермахер находит в факте самосознания, ибо здесь это соответствие нам дано. Это утверждение, которое, кстати, кажется несовместимым с другим утверждением, что мы также воспринимаем себя только посредством организации, а именно внутреннего (inner sense) (см. выше с. 313), можно истолковать в смысле учения о познании, а именно, что в самосознании мы постигаем тождество Я, которое является его предметом, с Я, которое является его субъектом, и что именно в этом тождестве состоит бытие Я. Но он тут же добавляет, что подлинное бытие не только нашего «я», поскольку оно мыслит, но и его самого, поскольку оно есть нечто иное, чем мышление, особенно в той мере, в какой оно телесно, дано нам в самосознании. Согласно диалектике, уверенность в нашем собственном бытии связана с уверенностью в бытии мира, который мы представляем себе вне себя. Пространство и время, поясняет Диалектика, – это способ бытия самих вещей, а не только наших представлений…. Обе формы находятся как в представлении, так и в вещах». Доказывать это утверждение автор не пытается. Она ограничивается тем, что опровергает сомнение в том, что мы действительно верим в большинство мыслящих субъектов и что нет никаких оснований относить бытие вне нас, которое мы таким образом предполагаем, только к большинству мыслящих субъектов; более того, что наше телесное бытие, которое дано нам в самосознании, связано с бытием, помещенным вне нас. – Диалектика перемежается с рассуждениями о познании рассуждениями о бытии как таковом, которым, однако, очень не хватает связности, а в отдельных своих компонентах они также весьма незавершенны и неясны.
Различение органической и интеллектуальной деятельности в познании, по ее мнению, приводит к предположению о соответствующей оппозиции в бытии – идеальном и реальном. Идеальное – это то, что в бытии является принципом всей рациональной деятельности, в той мере, в какой последняя ни в коей мере не вытекает из органической; реальное – это то, в силу чего бытие является принципом органической деятельности, в той мере, в какой последняя ни в коей мере не вытекает из рациональной деятельности. Или, как сказано в другом отрывке, реальное отделено от мышления, идеальное – это само мышление. Или реальное – это совокупность бытия, которое может быть связано с мышлением, идеальное – совокупность мышления, которое может быть связано с бытием; образ реального – это осуществление пространства, идеального – осуществление времени. Или (такое объяснение дается во введении к учению о нравственности) реальное – это материальное, то есть познаваемое, идеальное – духовное, то есть познающее бытие. Тем не менее, реальное не должно совпадать с материей, если понимать ее как неопределенную основу всех органических аффектов. Скорее, материя должна частично принадлежать идеальному; должна существовать не только реальная, но и идеальная материя, а именно материя сознания, которая (согласно введению в моральное учение) состоит в том, чем была бы душа без сознания, или в том, чем душа также является вещью. «Обычно, говорится в диалектике, под материей понимают только то, что исключительно заполняет пространство. Но пространство и время соотносятся, и есть также нечто, что исключительно заполняет время, а именно реальное сознание, и эта непосредственно и исключительно заполняющая время вещь, помимо всякой конструкции, также входит в понятие материи, как таковой. Иными словами, если мы спросим, что остается, если отбросить всякую конструкцию, в случае того, что выполняет пространство? тогда мы должны будем сказать, с какой интенсивностью, а затем в какой степени выполняется пространство. То же самое относится и к сфере исполнения времени. Если отбросить всякое определенное формирование, то остаются две вещи, а именно: степень интенсивности, с которой заполняется время, то есть сила сознания, в которой мы можем полностью абстрагироваться от определенного формирования, и затем продолжительность, которая соответствует расширению со стороны пространства. Поэтому мы должны подвести оба эти понятия под понятие хаотической материи». Есть еще один момент, в котором противопоставление реального и идеального не должно быть таким же, как противопоставление материального и духовного. Ведь духовное действительно полностью идеально, но, хотя оно не является также материальным в той мере, в какой оно больше, чем идеальная материя, оно в то же время полностью реально, поскольку в самосознании духовное или мыслящее существо не просто знает, но и сознает, и таким образом принадлежит к той совокупности бытия, которая может быть связана с мышлением, т. е. к реальному.
Согласно диалектике, допущение высшей оппозиции, описанное здесь, основано на том, что ни деятельность разума не рассматривается как происходящая от органической, ни последняя как происходящая от первой, но что обе они рассматриваются как независимые. Но это, добавляет автор, в конечном счете вопрос отношения. «Тот, кто хочет найти и удержать себя, должен принять эту двойственность. Ведь если рациональная деятельность проистекает из органической, то мы – лишь проходные точки для игры разделенного бытия. Тот, кто хочет удержать мир в оппозиции к своему „Я“, должен захотеть принять эту двойственность. Ведь если органическая деятельность вытекает из рациональной, то мы сами производим органические впечатления и не имеем оснований предполагать вне себя существо, которое помогло бы их произвести». Однако Шлейермахер не согласен с дуализмом, предполагающим два вида вещей, реальное и идеальное, материальное и духовное, так же, как он не согласен с материализмом, предполагающим, что умственная деятельность происходит от органической, а идеальное – от действительного, или со спиритуализмом (идеализмом), который, наоборот, предполагает, что органическая деятельность происходит от умственной, а реальное – от идеального. Скорее, по его мнению, реальное и идеальное, познаваемое бытие и мысль или сознание, являются формами или модусами Единого Существа; одно и то же Единое Существо, говорит он, представлено как в идеальном, так и в реальном виде, и идеальное и реальное идут параллельно друг другу как модусы бытия. Противоположность, утверждает он без дальнейших объяснений, была бы пустой загадкой, если бы, вместо того чтобы прослеживать ее до Единого Существа, которое развивает ее и вместе с ней все составные противоположности из себя, остановились бы на ней; единство противоположности, как она дана в самосознании, есть условие реальности знания вообще. «Единство идеального и реального в противоположности их природы и образа есть предпосылка всякого знания». «Обе формы вместе образуют наше самосознание, в котором нам дано единство обеих. И именно это единство бытия, существующее только в обоих модусах, есть трансцендентное, то есть то, на что мы никогда не смотрим непосредственно, но о чем мы можем узнать только как о чем-то неизбежно предполагаемом, так что общее единство бытия здесь остается полностью за занавесом. Мы это констатировали, но не объяснили, и если бы мы захотели это объяснить, то сбились бы с пути и занялись бы либо поэзией, либо риторикой. Ведь мы не можем ни мыслить, ни воспринимать их, ни тем более смотреть на них. Поэтому мы не можем сказать, что знаем тождество этого высшего различия, но лишь предполагаем его ради знания. Если же сказать, что мы только верим в это, то мы можем принять это в том смысле слова, в котором оно встречается и в религиозной сфере, где оно обозначает уверенность, являющуюся конечным основанием всякой деятельности, ибо предположение является здесь основанием всякого знания».
Шлейермахер считает, что не только возможность познания, но и возможность воли, реализующейся в действии, обусловлена единством бытия в противопоставлении реального и идеального (тождество реального и идеального или бытия и мышления). По его мнению, воля – это вид мышления. «Это мышление, на котором основывается действие, понятие цели, образцовое мышление, которому должна соответствовать модификация бытия, осуществляемая нами… Мышление, которое хочет стать знанием, относится к предполагаемому бытию: то, что лежит в основе наших действий, относится к бытию, которое должно стать только через нас… В мышлении, направленном на познание, отношение таково, что мышление в нас должно соответствовать бытию: в рассматриваемом сейчас мышлении отношение таково, что бытие должно соответствовать мышлению… В обоих случаях существует отношение между мышлением и бытием: в познании бытие – активная сторона, в желании – пассивная; в познании мышление – пассивная сторона, в желании – активная». Теперь он вместе с Шеллингом (см. выше p. 271) считает, что возможность соответствия бытия и образцового мышления в воле, которая приходит к исполнению, требует объяснения не меньшего, чем соответствие образцового мышления и бытия в знании. Для этого, говорит он, как и для уверенности в знании, нам необходима уверенность в воле, а именно, что наше делание действительно выходит за пределы нас, и что внешнее бытие, восприимчивое к разуму, также получает идеальный характер нашей воли, трансцендентальное основание. И это основание, уверяет он нас, не может быть иным, оно может заключаться только в тождестве идеального и реального.
Если реальное и идеальное, материальное или телесное и духовное бытие являются модусами единого бытия, то они должны быть найдены в каждой части бытия. Везде, как утверждал Шеллинг, реальное должно быть также идеалом, идеальное – реальным. Каждое конкретное существо должно, как говорил Спиноза, быть одновременно телесным и духовным. Такова же и доктрина Шлейермахера. Противопоставление, говорит он во «Введении в теорию морали», которое изначально взято из нашего существа и рассчитано на него, проходит через все, что для нас реально. Отношение тела и души в человеке – это лишь его наивысшее напряжение. В животном и растительном мире это напряжение уменьшается, но нигде не исчезает. Из того, что мышление и воля принадлежат друг другу, он далее делает вывод, что эта оппозиция относится и к бытию в целом. Согласно диалектике, о каждом существе, в той мере, в какой оно рассматривается как сила, можно сказать, что оно есть волевое существо. «Но мы не должны заблуждаться относительно градаций. Человек – высшее волевое существо; более низкая степень воления – у животных; в растительном существе воление уже полностью скрыто, а если мы перейдем к неорганическому, то оно живет только в прошлом, и найти в нем воление можно, лишь вернувшись к целому. Таким образом, всю природу можно рассматривать как уменьшенную этику». «Ниже человеческого существа..… нет ни определенного мышления, ни определенного воления. Отрицать наличие того и другого у животных – это, по сути, наше самосознание как вида. Но поскольку аналогичные отношения имеют место между животными и растениями, можно, конечно, предположить ряд восхождений в развитии идеала и поставить человека с его целостным существом в качестве последнего звена». В «ряде восхождений развития» Шлейермахер вместе с Шеллингом различает две части – природу и разум, или область физического и область этического. Там, в единстве реального и идеального, преобладает реальное, здесь – идеальное. Поворотным пунктом в данном нам земном существовании является человек, который представляет собой цветок идеала. В качестве основных стадий развития Шлейермах иногда упоминает (в первом трактате о концепции высшего блага) тяготение, процесс смешения и разделения, растительность, анимализацию, гуманизацию. —
От идеи мира, тотальности бытия, разделенного на два модуса – реальный и идеальный, или, что то же самое, тотальности бытия как множественности, Шлейермахер хочет отличить идею бытия в его единстве, бытия в той мере, в какой оно является общим корнем реального и идеального бытия, то есть идею Абсолюта или Бога. «Обе идеи, мир и Бог, – говорит он, – являются коррелятами. Они не тождественны. Ибо в мысли Божество всегда представляется как единство без множественности, а мир – как множественность без единства; мир – это пространство и время, Божество – беспространственно и вневременно; мир – это совокупность противоположностей, Божество – реальное отрицание всех противоположностей». Отношения между Богом и миром – это отношения совместного бытия. С одной стороны, мир не существует без Бога, Бог не существует без мира; с другой стороны, Бог и мир не являются, как утверждает пантеизм, одним и тем же. «Если мы мыслим мир без Бога, мы приходим к судьбе и материи как основанию бытия; если Бог без мира, Бог становится принципом небытия, мир – случайностью. Если мы говорим в соответствии со старой рациональной теологией, что творение – это свободный акт Бога, то нужно признать антитезу в том, что Бог мыслится в оппозиции к необходимому и свободному. Если вместе с более древними и более новыми системами сказать, что бытие как реальное есть отпадение от абсолюта, его умаление (в системе эманации это происходит постепенно и через градации приводит к простой материи), то это означает… что Бог не может быть мыслим без отпадения, следовательно, обусловлен своим небытием».
Мы обязательно должны предполагать бытие Бога, если верим в возможность знания, а также если верим в возможность воления, производящего действие. Ибо соответствие между мышлением и бытием, которое является условием возможности знания и действенного воления, может быть выведено только из изначального тождества того и другого в Абсолюте (см. выше). Но мы имеем не только опосредованную, но и непосредственную уверенность в существовании Бога, а именно через чувство, то есть непосредственное самосознание, которое постоянно сопровождает каждый момент нашего бытия, будь то преимущественно мышление или желание, и образует переход между мышлением и желанием, так что оно попеременно является последним концом мышления и первым – желания. Ибо прекращение мышления и начало хотения должны быть тождественны, и поэтому в ощущении мы являемся единством хотения и мыслящего бытия, а значит, тождеством реального и идеального; Бог, таким образом, дан нам как составная часть нашего самосознания, бытие Бога дано нам не само по себе, а лишь постольку, поскольку мы являемся Богом, т. е. имеем его в себе. «В чувстве абсолютное единство идеального и реального, которое лишь предполагается в мышлении и желании, действительно осуществляется; там оно есть непосредственное сознание, подлинное, тогда как мысль о нем, в той мере, в какой мы его имеем, есть лишь опосредование чувством, лишь представление о нем».
В высших состояниях самосознания мы имеем, согласно диалектике, сознание Бога более близкое, так что мы находим себя и вместе с нами все обусловленным и определенным им как трансцендентным основанием, в котором только хотение и мышление могут быть едины в своем отношении ко всему остальному. Эта трансцендентная детерминация самосознания есть религиозная сторона его, или религиозное чувство. Религиозное чувство есть, как более подробно определяет учение о вере, чувство абсолютной зависимости, которое, однако, было бы невозможно без всякого чувства свободы. Абсолютная зависимость – это основное отношение, в которое мы ставим себя к Богу в религиозном сознании; оно включает в себя все остальные отношения. Абсолютное чувство зависимости составляет ту самую сущность благочестия, которая лежит в основе всех церковных общин. Различные степени возбудимости этого чувства в человеке и обозначаются термином религиозность. Благочестие относится к знанию и действию таким образом, что оно не является ни тем, ни другим, но что оно имеет право возбуждать и то, и другое, и что оба принадлежат ему лишь постольку, поскольку возбужденное чувство затем приходит в покой в мышлении, которое его фиксирует, и затем выливается в действие, которое его выражает.
Созерцание, основанное на возможности познания и знания, приводит нас только к уверенности в бытии Бога. Мы не можем таким образом прийти к позитивному осознанию его сущности. Мы можем умозаключить о единстве сущего в двух модусах – реальном и идеальном – и осознать его как необходимую предпосылку, но оно остается полностью за занавесом (см. выше, p. 319.). «Идея Бога, правильно понятая, есть по эту сторону то, что уже не может быть познано, но всегда должно быть предпослано как тождество мысли и бытия». Но даже чувство и вытекающее из него религиозное сознание не могут помочь нам в позитивном осознании сущности Бога. «Религиозное чувство действительно является истинно реализованным чувством, но оно никогда не бывает чистым, ибо сознание Бога всегда находится в чем-то другом». «Абсолют действительно находится в нем, но не в себе и для себя, как мы искали его в спекуляциях, а всегда только в другом, в сознании человека о себе, об определенных человеческих отношениях и т. д. Если мы хотим изолировать сознание Бога, мы впадаем в бессознательную задумчивость, и мы всегда должны говорить, что чем более живо сознание Бога, тем более живо другое вместе с ним. …. В религиозном сознании, если оно остается в своей природе и с ним не экспериментируют, стремления выделить сознание Бога нет вовсе; религиозный человек не скрывает, что имеет сознание Бога только в свежем и живом сознании земного существа». Что касается догм догматического богословия, то в правильном понимании они не претендуют на метафизические истины. Они являются лишь продуктами размышлений над религиозным чувством, над непосредственными высказываниями спотыкающегося самосознания, представлениями о том, как сознание Бога присутствует в нашем самосознании. Они всегда подвергаются нападкам со стороны спекуляции, и это справедливо, поскольку всегда можно показать, что они неадекватны, если их изолировать.
Шлейермахер отрицает, что вера в бессмертие души в смысле непрерывности личности после смерти связана с сознанием Бога. Эта вера, говорит он в «Догматике» (в «Диалектике» этот вопрос не затрагивается), может быть, однако, такой, что соответствует духу благочестия в целом, но и такой, что противоречит ему. В первом случае речь идет о том, что наличие богосознания в человеческой душе рассматривается как причина, по которой она не может разделить общую участь преходящего; во втором – о том, что она исходит лишь из интереса к чувственным вратам жизни, хотя и утонченного до определенной степени, как это происходит, например, когда постулируется бессмертие, исходя из того, что благочестие и мораль являются лишь средствами к счастью ради воздаяния. Точно так же существует не просто безыскусное отрицание бессмертия, связанное с отрицанием Бога, поскольку и то и другое принадлежит к материалистическому или атомистическому образу мышления, но и отказ от личного вечного существования, которое, рассматривая дух как живое, не является средством счастья, что, рассматривая дух как силу, производящую и формирующую живую субстанцию, а индивидуальную душу лишь как временное действие этой производительности, совместимо с господством богосознания, которое также требует чистейшей нравственности и высочайшей духовности жизни. В рассуждениях о религии Шлейермахер даже представляет если не отрицание бессмертия, то, по крайней мере, желание, чтобы его не было, чтобы смерть помогла нам подняться над личностью, потерять себя в бесконечном и стать единым со вселенной, как необходимый продукт духа благочестия (чего, конечно, не хотят признать пояснения, приложенные к позднейшим изданиям).
Религиозная жизнь, говорит он здесь, это та, в которой мы уже пожертвовали и отвергли все смертное и действительно наслаждаемся бессмертием. Цель и характер религиозной жизни – это не то бессмертие, которое вне времени и позади времени, или, скорее, только после этого времени, но все еще во времени, а то бессмертие, которое мы можем иметь уже непосредственно в этой временной жизни, и которое является задачей, к решению которой мы все время «стремимся». Стать единым с бесконечным посреди конечности и быть вечным в каждом мгновении – вот бессмертие религии». В догматике он, как уже отмечалось, оспаривает, что вера в личную непрерывность связана с «общим» осознанием Бога, но все же принимает решение в ее пользу. Он также не придает никакого значения так называемым доказательствам разума. Любой, кто присмотрится к ним повнимательнее, говорит он, вряд ли сможет поверить, что сама идея бессмертия является продуктом этой области; скорее, говорит он, она была каким-то образом дана в другом месте, а наука лишь попыталась связать ее с другими своими результатами – процедура, которая по природе своей всегда должна оставаться открытой для нападок. Но он считает, что может показать, что вера в непрерывное существование человеческой личности содержится в вере в неизменность союза божественной сущности с человеческой природой в лице Христа.
Учение Шлейермахера о Боге и бессмертии можно использовать для краткого изложения его ответа на вопрос о свободе человека. Он полностью детерминистский. Хотя он утверждает реальность свободы, он понимает свободу не как способность действовать, для которой закон причинности не действует, а как «саморазвитие». «Свобода, следовательно, согласно диалектике, идет до самой жизни… Даже растение имеет свою свободу». «Все в царстве бытия настолько свободно, насколько оно необходимо. Все свободно в той мере, в какой оно есть самополагающееся тождество единства силы и множественности явлений. Оно необходимо в той мере, в какой оно предстает как последовательность состояний, вплетенных в систему совместного бытия.» —
Наконец, из диалектики Шлейермахера следует упомянуть его деление науки на категории. Во-первых, она вытекает из сочетания различия между двумя областями знания – природой, то есть тождества идеального и реального с перевесом реального, и разумом или духом, то есть тождества с перевесом идеального со спекулятивным знанием, в котором реальным является знание, получаемое от интеллекта. Тождество с преобладанием идеального в спекулятивном знании, в котором преобладает интеллектуальная функция, и в эмпирическом знании, в котором преобладает процесс восприятия, различение четырех основных наук: 1. спекулятивной науки о природе или физики в узком смысле слова (в более широком смысле слова физика является синонимом естественных наук), 2. эмпирическая наука о природе или естественная история, которая (как отмечается во введении к учению о морали) должна включать в себя не только то, что обычно называют естественной историей или естественным описанием, но и то, что обычно называют естественной наукой, 3. спекулятивная наука о разуме или этика или моральная наука, и 4. эмпирическую науку о разуме, или историографию, вместе с (как кажется) психологией, о которой во введении к учению о морали сказано, что она останавливается на отдельных действиях разума, тогда как история представляет всю совокупность рациональной деятельности как становление. К этим четырем наукам он непонятным образом добавляет диалектику и математику, которые объединяет то, что они имеют дело с идеей знания или отношениями мысли и бытия как такового. Диалектика, говорит он, представляет себе это отношение в общем виде, в то время как математика, имеющая дело с количественным или с величиной, поскольку она тождественно задана в мышлении и бытии, под формой конкретного. Поэтому математика более близка к эмпирической, а диалектика – к спекулятивной форме. Реальное знание заключено и критикуется обеими формами, так что в каждом реальном мышлении есть столько же науки, сколько диалектики и математики. Что касается философии, то она, согласно введению к учению о нравственности (диалектика говорит об этом понятии более определенно), есть высшее единство знания как совершенное взаимопроникновение этического и физического знания и совершенное совпадение умозрительного и опытного знания, а ее объект – полное единство конечного бытия, мир, переплетение природы и естества в организме, который включает все в себя. Оно, добавляется, никогда не может быть полным, пока этика и философия существуют как отдельные науки, но именно стремление к взаимопроникновению в обеих делает их настоящими науками в первую очередь. «Истинно философским является лишь всякое этическое знание в той мере, в какой оно одновременно является физическим, и всякое физическое знание в той мере, в какой оно одновременно является этическим. Точно так же все эмпирическое является «философским, если оно дремуче, и все спекулятивное, если оно в то же время не эмпирично».