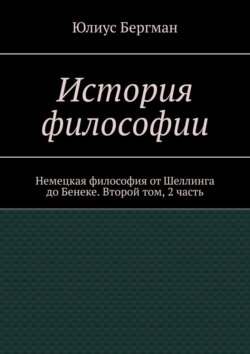Читать книгу История философии. Немецкая философия от Шеллинга до Бенеке. Второй том, 2 часть - - Страница 11
I. ШЕЛЛИНГ, БААДЕР, ШЛЕЙЕРМАХЕР, КРАУЗЕ, ГЕГЕЛЬ, ШОПЕНГАУЭР
ШЛЕЙЕРМАХЕР
2. ЭТИКА
ОглавлениеЭтика, поясняет Шлейермахер, – это умозрительное знание об общей эффективности воздействия разума на природу. Ее положения не должны быть заповедями, но в той мере, в какой они являются законами, они должны выражать действительное действие разума на природу. Поэтому она является настоящей наукой того же рода, что и физика. Она противопоставляется физике только по содержанию выраженного в ней бытия, а не по его форме. Контраст между этими двумя науками может быть резюмирован Кантом в том, что одна из них имеет своим предметом бытие, а другая – долженствование. Обе имеют отношение к бытию, и в том смысле, в каком этическое знание является выражением долженствования, таким же является и физическое знание. Нравственный закон и естественный закон – это законы в одинаковом смысле, а именно, с одной стороны, определения того, что в действительности есть и происходит, с другой – требования того, что должно быть или происходить; вся разница заключается в том, что первый – это закон для действительного воления, воления разума, который нашел себя, а второй – закон для деятельности сил, стоящих под действительным волением. Поэтому моральный закон можно рассматривать как высший закон природы, естественный закон – как низший моральный закон, а этику – как физику одушевленного, физику – как этику неодушевленного.
Шлейермахер обосновывает и объясняет последнюю идею в трактате «О различиях между естеством и нравственностью» (Ueber den Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittengesetz) следующим образом. Моральный закон обычно понимается как утверждение о том, что должно происходить в сфере разума и через него. В этом контексте должное понимается как выражение, с помощью которого кто-то вызывает волю у другого, не предполагая у того, к кому обращен призыв, иной воли, кроме общей воли к повиновению. Этот «Sollen» происходит из области повседневной и гражданской жизни. Он вошел в моральное учение через иудейское законодательство, в котором, согласно теократической конституции, моральный закон рассматривался как гражданский закон, данный божественной волей как высшей волей. Впоследствии он перешел в христианское учение, и таким образом возникла привычка ассоциировать моральный закон с нравственным знанием. Нравственный закон как таковой, утверждающий, что должно происходить в царстве разума и через него, противопоставляется естественному закону как таковому, который утверждает, что действительно происходит в природе и через нее. Но это мнение неверно как в отношении морального, так и в отношении естественного закона. Первый не предполагает, подобно «thou shalt» гражданского права, лишь общую волю к повиновению ему, но второй также предполагает, что определенная воля к тому, что он содержит, уже каким-то образом присутствует в духе, по крайней мере, как некая потенция к нравственности. По этой причине она не является выражением простого долженствования, которое остается, даже если ничто никогда не исполняет его, но ее существование, как и существование закона природы, связано с тем, что она действительно определяет бытие. Конечно, это не зависит от полноты его исполнения, но, как даже гражданский закон не был бы законом, если бы он был произнесен, но никто не сделал бы ни малейшего усилия, чтобы ему подчиниться, так и моральный закон был бы не законом, а некой теоретической идеей, если бы никто даже не был готов ему подчиниться. С другой стороны, для законов природы также характерно наличие презумпции, оставляющей сомнение в том, что они будут исполнены или нет. Конечно, это не проявляется в тех законах, которые касаются движения мировых тел и отношений между элементарными силами природы и первичными веществами, но это тоже не настоящие законы природы, а лишь абстрактные формулы.
С действительными законами природы мы сталкиваемся только в организмах. Они заключены в родовых понятиях, которые должны быть полным выражением всего того, что составляет данную форму жизни в ней самой и в ее отличии от других. И этими действительно естественными законами, с одной стороны, определяется существо, ибо все особи вида возникают по закону этого вида и по нему же происходит их постепенное развитие, их кульминация и ослабление; с другой стороны, эти законы имеют и обязательную силу, которая, как показывают уродства и болезни, не всегда полностью выполняется. Ведь уродства и болезни – это отклонения, которые относятся к закону природы так же, как безнравственность и зло относятся к закону морали. Как уродства и болезни основаны на недостатке власти принципа вегетации или одушевления над химическим процессом и механическим образованием, или анимализации или одушевления над растительным процессом, так и безнравственность и зло имеют свое основание в том, что еще более высокий принцип, интеллектуальный процесс или вдохновение, оказывается в человеке недостаточным по сравнению с подчиненными ему функциями одушевления. Согласно этой точке зрения, нравственный закон – это закон, который полностью характеризует всю деятельность человеческого разума.
Шлейермахер понимает разум, общее воздействие которого на природу составляет предмет морального учения, как волю в более узком смысле слова, в котором она впервые появляется у человека среди земных существ, волю нашедшего себя интеллекта.
Разумом, говорит он, является как бы особым принципом духовной жизни, приходящим к одушевлению как к высшей ступени, будучи свойственным человеку, движущимся и действующим в нем и от него на земле; воля же, по его словам, ничем не отличается от этого принципа; она является этим принципом постольку, поскольку производит действия (ср. выше с. 320). Шлейермахер вместе с Фихте считает, что вся деятельность воли состоит в постановке целей и в производстве действий для их осуществления, и что поэтому нравственный закон не может иметь иного содержания, кроме целей, ради которых действует воля, если она здорова и прекрасно развита, если она утверждает себя против подчиненных функций одушевления, что свойственно и животным. Если, таким образом, закон, который делает цель определяющей волю, называется, вместе с Кантом, материальным законом, то, с точки зрения Шлейермахера, а также Фихте, моральный закон является таким законом. Что касается формального категорического императива Канта, он замечает в «Sittenlehre», повторяя мысль Фихте, а именно, то, что данный императив предполагает, что цели действий возникают где-то еще, а не в законополагающем разуме, и поэтому является правильным, но ничего не конструирует, это не конституирующий, а лишь критический принцип. В «Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre» он критикует Канта за то, что тот, не замечая этого, помещает происхождение морального закона в конец: Ибо, уча, что поступок имеет моральную ценность только тогда, когда чистый разум своим законом определяет волю к нему, он предполагает, что каждое существо, обладающее способностью разума, также хочет быть таким существом, которое действительно движимо разумом, и таким образом желает совершенства: но почему этот позыв должен быть также назван стремлением, делом воли, неясно. «Я никогда не мог найти себя, – говорит он в первом из двух своих трактатов о понятии высшего блага, – во всех чудесных восхвалениях, как бы слабо они ни звучали, ни регулярности действий, когда не задумываются о том, что из этого получится, ни добродетели, где совершенно не заботятся о том, удастся ли то, что она задумала, и получится ли хорошо, или нет, но приписывают это, как все думают, случаю или божественному провидению. Если действие исходит из понятия цели, то о нем можно судить лишь по тому, насколько сильно или слабо это понятие получает через него свой предмет. Но если я ничего не хочу достичь, зачем мне действовать?» Шлейермахер не отрицает, что моральная ценность поступка зависит не от его успеха, а лишь от решимости воли, из которой он исходит. По его мнению, доброта воли относится к самой цели воли, осуществления которой требует от нас нравственный закон. Но, по его убеждению, благость воли не составляет всей цели разума; часть цели разума лежит вне воли, и именно в этом состоит благость воли, что она позволяет себе определяться интересом к этой части цели разума, лежащей вне ее, желанием осуществить ее. С этой точкой зрения Шлейермахер отходит от Канта дальше, чем Фихте.
Ведь по крайней мере до создания своей системы морального учения Фихте (смотрите выше, страница 235) приписывал благой воле и морали лишь значение актуальной цели, той цели, в наилучшей реализации которой ради нее самой заинтересован правотворческий разум) или же, напротив, только благой воле, морали, приписывается значение актуальной конечной цели, той цели, в которой ради нее самой заинтересован наилучший правотворческий разум. О цели, лежащей вне воли и устанавливаемой разумом, которую он также признавал, он имел в виду, придерживаясь взгляда Канта о связи между установлением целей и законотворчеством чистого разума, что разум устанавливает ее для нас не по этой причине, но потому, что воля может иметь ту форму, в которой существует мораль, форму свободы и независимости, только если она посвящает себя ей, так что моральный закон не вытекает из нее, но, наоборот, она вытекает из морального закона. С другой стороны, согласно Шлейермахеру, помимо морали существует столь же самобытная настоящая конечная цель разума, цель, которую разум ставит перед собой таким образом, что заинтересован в ней так же, как и в самой морали, и которая предшествует морали в той мере, в какой последняя состоит в подчинении ей воли; и из соединения этих двух конечных целей вытекает моральный закон, который не требует ничего иного, как делать то, что им соответствует. Следует, однако, добавить, что Шлейермахер не представляет себе внешнюю конечную цель (назовем ее так для краткости) как нечто существующее само по себе, независимо от внутренней, моральной конституции воли. Не только внутреннее предполагает внешнее, поскольку мораль состоит в том, что воля может быть определена последним, но и, наоборот, внешнее предполагает внутреннее. Ибо только тогда, как он говорит, нечто, что разум производит вне себя, соответствует своей цели, так что оно является благом, если в нем заложено послушное действие, которым оно производится, и добродетель, энергичная жизнь разума в индивиде, если, другими словами, оно включает в себя и насаждает в себе моральную деятельность. То, что не проистекает из жизни разума в человеческом роде, а также не распространяет и не обновляет ее, не приносит пользы разуму. Любое дело, которое порождается моральной деятельностью, но для которого не существенно, чтобы в нем порождались моральные действия и состояния, было бы, как сказано в первом трактате о понятии высшего блага, не более благом, чем выкопанный карьер или поле, которое полностью осушено и потому заброшено. Например, «если мы считаем произведение изобразительного искусства благом, то, конечно, только в той мере, в какой деятельность, из которой оно возникло, является для нас нравственной; но, конечно, только в той мере и только для тех, в ком оно своим существованием по существу пробуждает нравственные действия и состояния».
С понятием высшего блага (взятого в смысле органической связи всех благ) Шлейермахер связывает второе определение, а именно: оно не должно мыслиться как нечто существующее независимо от нравственной деятельности, а только как такое, что включает в себя и распространяет нравственную деятельность во всех ее составных частях. Соглашаясь с Фихте, он настаивает на том, что мы должны остерегаться ошибки, которую совершили старые школы в своем отношении к этому понятию, а именно: связывать его только с индивидом. Никто не имеет высшего блага для себя, но высшее благо – это общее благо всех людей. Даже добродетель отдельного человека, вместе с его взаимосвязанным счастьем, является благом в этическом смысле, составной частью высшего блага, только в той мере, в какой она не является благом данного человека в отдельности, но общим благом, произведенным и в моральном кругу, к которому он принадлежит. Концепция высшего блага даже не позволяет человеку требовать, чтобы то или иное, будь то научная работа, произведение искусства, политический эффект или что-то еще, считалось его собственным, в то время как он хотел бы отказаться от всякой доли в том, что другой человек желает присвоить таким же образом.
В качестве высшего блага, или полной цели разума, из которой вытекает моральный закон, Шлейермахер называет совершенное единство природы и разума, или совершенное переплетение природы и разума, или совершенное становление природы разума, – формула, которая, однако, дает так же мало сведений, как и формула Фихте «Herrschaft der Vernunft über die gesammte Sinnenwelt, lvergleiche oben p. 232), ибо под единством разума и природы нельзя понимать ничего иного, кроме того отношения природы к разуму, которое соответствует цели, которую преследует разум в своем воздействии на природу, так что заново возникает вопрос о том, какова эта цель.
Шлейермахер указывает на то, что разуму дано начало его желанного единения с природой. Такое начало он находит в человеческом организме. Поэтому нравственная деятельность – это действие разума на природу, которое уже давно началось, или их объединение, прогрессирующее в силе и расширяющееся в масштабах, становление мира из природы, которое начинается с человеческого организма как части общей природы, в которой уже дано объединение с разумом; этический процесс – это продление и увеличение изначального единства, возникающего из деятельности разума. «Поскольку первоначальное становление разума в человеческой природе можно рассматривать как часть эволюционного процесса природы, а именно как высшее развитие идеального в реальном через реальное, моральный процесс опирается на физический и является его обратным продолжением». Этический процесс является обратным физическому в той мере, в какой сознательный разум там является тем, что производит, а здесь – тем, что производит. – Далее Шлейермахер отмечает, опять же в согласии с Фихте, что объединение природы и разума – это работа, за которую отвечает не отдельный человек или поколение, а человечество в преемственности поколений. «Этический процесс, – говорит он, – уже предполагает разум в человеческой природе и все нравственно реальное как следствие этого процесса, который никогда не может быть завершен во времени. Мораль. Моральный процесс, таким образом, сопровождает все существование человеческого рода на земле и формирует его историю, никогда не достигая полного единения разума с земной природой.» —
От общих рассуждений о понятии высшего блага Шлейермахер переходит к специальному учению о благе через установление и соединение двух различий, касающихся действия разума и вытекающей из него взаимосвязи природы и разума.
Действие разума является, с одной стороны, организующим или формирующим, с другой – символизирующим или означающим, и соответственно взаимодействие разума и природы является, с одной стороны, организующим, с другой – символизирующим природу для разума. Разум организует природу постольку, поскольку делает ее своим инструментом, посредством которого он действует, как сначала только в каждом индивиде посредством его тела, на еще не объединенную с ним природу. Она символизирует постольку, поскольку делает себя узнаваемой в своей работе. Так, например, вся деятельность в жизни народа и все государственное управление являются организующими, ибо и то и другое имеет дело только с наиболее совершенным развитием природы как орудия человека; к символизации принадлежит, например, все то, что мы называем в наибольшей степени чувственным, а также высшее развитие мысли в науке, ибо последняя работает над таким оживлением природы, посредством которого разум наиболее совершенно распознается в своей особой природе, а это и есть высшее проявление разума в языке. Кроме этих двух видов рациональной деятельности, с помощью которых можно было бы обеспечить элементы высшего блага, не существует других; Если мы подумаем, что еще можно было бы осуществить или чего еще мог бы желать тот, кто живет исключительно в интересах разума, если бы были осуществлены обе эти задачи, чтобы весь разум проявился во всей природе, чтобы весь разум был признан и вся природа вошла в это проявление, и чтобы все, достижимое разумом, могло бы также служить ему в качестве органа, то ничего нельзя было бы найти. Каждая из этих двух деятельностей обусловлена другой, – организующая символизирующей, ибо если бы разум не давал о себе знать, то никакая общность действия на природу была бы невозможна, – символизирующая организующей, ибо разум не только должен сначала проявить себя активно в исходной организации, то есть активно присвоить ее, прежде чем он будет хоть в малейшей степени признан в ней, но он также организует только для того, чтобы полностью признать себя во всем присутствующем ему бытии. Они также не образуют различных областей с точки зрения своих объектов, но каждая из них охватывает все в себе, и каждый результат одной может быть также отнесен к другой. Поэтому они не могут быть абсолютно раздельными в реальности жизни, но каждый из них также опосредованно является другим. И точно так же каждый символ разума является также его органом, а каждый орган разума – его символом. Всякое переплетение разума и природы есть символ, поскольку оно предполагает действие на природу; всякий орган есть орган, поскольку он предполагает действие с природой. Но если мы считаем этический процесс завершенным, то все является символом разума, и ничто не может быть органом разума.
Этим различием Шлейермахер, очевидно, вводит более строгое определение конечной цели всей деятельности разума, высшего блага. Согласно ему, конечная цель состоит в полной органичности и символизации природы, или, скорее, в просто полной символизации природы, ибо разум организуется только для того, чтобы полностью проявиться, и этический процесс должен быть понят как таковой, после завершения которого все будет символом и не будет больше органом. Это определение не может быть выведено из первого, согласно которому высшее благо состоит в абсолютном сплетении разума и природы. О том, каков его источник, можно судить по той причине, которую Шлейермахер приводит, как уже говорилось выше, для утверждения, что нет никакой деятельности, способствующей производству высшего блага, кроме организации и символизации; ее можно найти, спросив себя, чего человек желает в той мере, в какой он живет в интересах разума, то есть путем интроспекции. Однако это определение не дает никакой реальной информации о содержании конечной цели расчудесной деятельности разума. Поскольку предполагается, что разум проявляет себя только в тех средствах, которые он сформировал для реализации своей конечной цели, утверждение, что конечная цель разума – это его полное проявление в природе, равносильно утверждению, что это форма, которую разум должен придать природе, чтобы достичь своей конечной цели с помощью природы, и таким образом движется по кругу.
С различием между организующей и символизирующей деятельностью Шлейермахер связывает, как я уже говорил, второе, – различие между тем, что в моральных действиях вытекает из деятельности разума в той мере, в какой оно одинаково у всех людей, и тем, что вытекает из его деятельности в той мере, в какой оно само стало индивидуальной особенностью благодаря своей связи с индивидуальной особенностью агента. К совершенству человеческого рода относится, говорит он, то, что каждый индивид отличается от всех других не только своим положением в пространстве и времени, но и чисто духовным образом, как своеобразная модификация интеллекта, который один и тот же у всех. Разум уже объединен с этой особенностью в каждом перед всякой нравственной деятельностью; поэтому, с одной стороны, последующая деятельность должна также иметь характер этой особенности, а с другой стороны, независимость разума должна проявляться во всякой деятельности. «Эти два начала, конечно, противоположны; но они могут быть противоположны только соответственно, не исключая одно из другого, а сочетаясь друг с другом. Здесь, конечно, сохраняется величайшее разнообразие отношений, так что одно может находиться в равновесии с другим, или даже то, что свойственно тождественному, как минимум, и наоборот. Соответственно, организующая и символизирующая деятельность также будут различны во всех своих разнообразных отношениях, если они преимущественно несут в себе тот или иной характер».