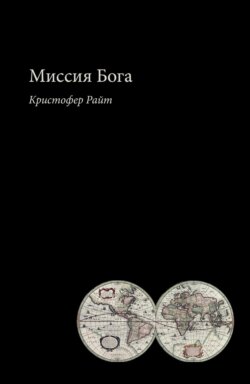Читать книгу Миссия Бога - - Страница 20
Часть 2. Бог и его миссия
3. Живой Бог являет себя Израилю
Познание Бога через суд
ОглавлениеИтак, мы убедились, что главным источником познания Яхве, как единственного живого и истинного Бога, стала для Израиля его благодать, явленная в исторических актах спасения. Но освобождение Израиля неизбежно означало суд над его угнетателями. Врагам Израиля тоже предстояло познать Бога, но им он явился защитником справедливости, которому нельзя противостоять безнаказанно. Когда Израиль своим упорным неповиновением перешел в стан врагов Яхве, он тоже увидел в нем грозного судию. Итак, мы вновь обращаемся к теме исхода, но на этот раз с точки зрения египтян и Израиля – подсудимых в Божьем суде, которым предстояло извлечь из случившегося непростые уроки. После этого мы вместе с Иезекиилем заглянем в будущее, когда состоится окончательный суд над врагами Бога и его народа, и попытаемся обобщить: что же тогда сможем узнать о Боге.
Египет
В рассказе об исходе повествуется об избавлении Израиля от гнета фараона. Но есть и дополнительная сюжетная линия – великое противостояние между Яхве, Богом Израилевым, и фараоном, царем (и богом) Египта, а с ним и всеми прочими египетскими богами. Толчком к этому конфликту послужил роковой отказ фараона признать власть Яхве над своей страной. На требование Моисея отпустить Израиль для поклонения их Богу, Яхве, фараон отвечает: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу» (Исх. 5, 2).[69]
Эти слова стали вступлением к волнующему рассказу о египетских казнях, лейтмотивом которого звучит пророческое «Дабы ты узнал…». В каждой строчке Исх. 7 – 14 Яхве, Бог, которого израильтяне познали благодаря своему освобождению, одновременно является фараону, свергая его гнет.
Что же узнал о Яхве фараон? Даже краткий обзор соответствующих отрывков Книги Исход дает исчерпывающее представление о его «образовательной программе», схематично изложенной в таблице 3.2. Фараону пришлось пройти нелегкую школу, окончившуюся его полным поражением и гибелью. К счастью, хотя в исходе Яхве сказал свое последнее слово об этом конкретном правителе, он не забыл о Египте. По мере того как разворачивается история Израиля, великая империя на Ниле еще предстанет на Божий суд,[70] но Ис. 19, 19–25 в одном из удивительных ветхозаветных пророческих видений преподает Египту тот же урок, что и Израилю.
Пророк предвидит день, когда и Египет познает Яхве как своего Спасителя, защитника и целителя.[71]
Таблица 3.2. Уроки фараона
* Если предположить, что kōl hā ʾāreṣ в данном случае означает «вся земля», а не только «вся страна» (Египет).
** Здесь мы наблюдаем ту же иронию, что и в случае с Киром. Господь возвысил Кира и даже призвал его по имени (Ис. 45, 4), но прославлено по всей земле будет имя Яхве. В контексте исхода ирония еще более заметна, поскольку невозможно с точностью установить даже имя фараона, о котором идет речь (слово «фараон», разумеется, обозначает титул человека, а не имя). К каким бы заключениям ни приходили историки относительно дат жизни и личности фараона времен исхода, Библия намеренно умалчивает о его имени. Зато имя Яхве прославится по всему миру, имя Бога, которого отказался признать этот неизвестный фараон. Тот, чьего имени никто не знает, навсегда связан с Богом, чье имя хорошо известно всем – с Господом, всемогущим Богом Израиля.
Совершенно ясно одно: в том, что узнал Израиль из опыта Божьей благодати, а Египет – из Божьего суда, очевидна одна и та же динамика монотеизма. Более всего, это великое повествование о Яхве, Боге, действующем незамедлительно, свидетельствует о его уникальности и вселенском характере. Таково и было главное предназначение рассказа. В описании об исходе неоднократно и четко говорится о Божьем замысле: «и тогда вы узнаете…», «дабы вы узнали…». Главным мотивом Яхве было не только освобождение его угнетенного народа, но и глубокое желание явить всем народам истину о себе. Движущая сила всего повествования – миссия Бога, цель которой – наше познание его.
Израиль в изгнании
Изгнание заставило Израиль и пророков того времени задуматься над ответами на сложнейшие вопросы, связанные с Богом. Израиль потерпел поражение, Божий град разрушен, а народу пришлось покинуть свою землю. Означало ли это, что вавилонские боги сумели противостать Яхве? Потерпел ли поражение и он сам? В макрокультурном мировоззрении древнего Ближнего Востока (в том числе и Израиля) считалось, что
земные события отражали происходящее на небесах. Победы и поражения человеческих армий воспринимались, как отражение битв между богами. Ранее израильтяне верили, что у Яхве не было достойных соперников. Даже если боги других народов существовали (а в определенном смысле так и было, в той мере, в которой судьбы народов были связаны с их богами), им ни разу не удавалось бросить вызов Яхве, поставив под вопрос его могущество и верность завету, заключенному с Израилем.
Как же тогда истолковывать сокрушительное поражение Израиля и разрушение Иерусалима Навуходоносором? Сбылись ли столь ужасным образом надменные предсказания ассирийского военачальника, который при осаде Иерусалима Сеннахиримом во времена Иезекии и Исаии хвалился, будто Яхве окажется столь же бессилен, как и мелкие божки народов, сметенных с лица земли могущественной Ассирией?
Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: «Господь спасет нас». Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? (4 Цар. 18, 32–35).
Несмотря на бахвальство ассирийского генерала, Господь отвел угрозу от Иерусалима. Но спустя столетие вавилоняне сравняли город с землей, предали огню храм и увели в плен всех оставшихся жителей во главе с царем. Неужели враги Яхве, наконец, одержали победу?
Как это ни парадоксально, пророки (до, во время и после обсуждаемых событий) дали народу ответ, который им меньше всего хотелось слышать: Яхве не потерпел поражение. Напротив, он, как и всегда, полностью контролировал ситуацию. Яхве продолжает сражаться со своими врагами. Вопрос теперь заключается в том, кто же его настоящий враг? Или еще точнее, кто настоящий враг Израиля? Своим упорным неповиновением Господу, заключившему с ним завет, Израиль превратил Яхве в своего врага. «Вот и Я против тебя!» Эта угроза, так часто звучавшая из уст многих пророков в адрес других народов, теперь обращена против самого избранного народа (Иез. 5, 8). Таким образом, победа Навуходоносора была одержана не над Яхве (хотя царь, несомненно, истолковывал ее именно так), а самим Яхве. Навуходоносор был всего лишь орудием в противостоянии Бога своему собственному народу. Пока Господь защищал Иерусалим, город нельзя было разрушить. Но когда Господь отвернулся от него, никто не смог бы уже его отстоять. Удивительная власть Яхве над событиями человеческой истории нашла свое полное подтверждение.
Итак, Израиль отправился в изгнание, испытав на себе, подобно египтянам, хананеям и еще не так давно ассирийцам, всю силу Божьего гнева. Продолжая тему этой главы, зададимся вопросом: как все переживания помогли ему лучше познать Бога? Какие уроки извлек для себя Израиль, пока Господь оставался их врагом? И главное – что ему удалось узнать об уникальности и вселенском характере Яхве-Бога? Сопоставив несколько отрывков, можно сделать следующие выводы.
Яхве – нелицеприятен. Израиль убедился: заключить завет с Яхве вовсе не означает подчинить его себе, сделав Яхве их племенным божком, на чью поддержку всегда можно было рассчитывать, независимо от обстоятельств. Зная Яхве как Бога земли и неба, повелителя народов, они должны были понимать, что избрание Израиля в качестве одной из сторон завета, означало не лицеприятие, а огромную ответственность. Еще за столетие до изгнания пророк Амос писал, что положение избранного народа не только не гарантировало Израилю защиту в Божьем суде, но, напротив, подвергало его еще более серьезному наказанию, когда он отказывался жить в соответствии с этической подоплекой этого положения.
Только вас признал Я
из всех племен земли,
потому и взыщу с вас
за все беззакония ваши (Ам. 3, 2).
Далее Амос отвергает идею о том, что исход, рассматриваемый как историческое деяние Бога, выведшего Израиль из Египта в Ханаан, давал ему преимущество перед остальными народами. В качестве аргумента Амос использовал власть Яхве над судьбами других народов.
Не таковы ли, как сыны Ефиоплян,
и вы для Меня, сыны Израилевы? говорит Господь.
Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской
и Филистимлян – из Кафтора,
и Арамлян – из Кира? (Ам. 9, 7).[72]
Как и многие другие аспекты израильского вероучения, эта мысль встречается уже во Второзаконии (Втор. 2, 10–12.20-23), где небольшие отрывки описывают участие Яхве в судьбе народов еще до появления на свет Израиля. Несущественные для основного повествования, они, тем не менее, подводят нас к той же богословской истине: Яхве, избравший и искупивший Израиля и заключивший с ним завет, одновременно Бог всей вселенной, уже действующий в жизни и истории других народов.[73]Неудивительно поэтому, что даже в отрывке, где подчеркивается факт избрания Израиля, в то же время содержится (как будто именно с целью избежать подозрения в лицеприятии) решительное подтверждение вселенского характера Яхве и, следовательно, его беспристрастности: «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица» (Втор. 10, 17).
О беспристрастности Бога в его отношениях с народами земли, в том числе и с Израилем, напоминают пророки, жившие во время и незадолго до изгнания. Иеремия, используя образ горшечника, утверждает, что в основе отношений Бога с любыми народами лежит их отклик на обращенное к ним слово Божье (Иер. 18, 1-10). У Иезекииля сказано, что Господь «поставил Израиль среди народов», но не для того, чтобы возвысить его, избавив от наказания. Его цель – подчеркнуть страшную извращенность того факта, что он вел себя еще хуже народов, не познавших Яхве. Бог обратился против Израиля, как раньше обращался против его врагов (Иез. 5, 5-17). Итак, познавая Бога на этом этапе своей истории, израильтяне убедились: его вселенский характер неизмеримо выше мелочного лицеприятия.
Любой народ может стать орудием гнева Яхве. В этой идее не было ничего нового, когда речь шла об Израиле. Ведь именно в этом контексте изображалось завоевание Ханаана. Когда Господь изгнал жившие там народы перед лицом Израиля, последний выступил в качестве орудия Божьего суда над погрязшими в пороке хананеями (ср. Лев. 18, 24–28; 20, 23; Втор. 9, 1–6). Никого не удивляло и истолкование страданий Израиля под вражеским гнетом, как свидетельство Божьего суда за отступничество, – это четко прослеживается в Книге Судей. Но у пророков эта мысль нашла особенно яркое и настойчивое выражение. Исаия называл Ассирию жезлом в руке Яхве, которым он наказывает Израиля (Ис. 10, 5–6). Иеремия пошел еще дальше, вмешавшись в международную дипломатическую конференцию в Иерусалиме, дабы уведомить собравшихся послов, что Яхве, Бог Израилев, предал их страны в руки «раба Моего Навуходоносора». В основе столь неожиданной интерпретации международной политики того времени лежит в равной степени бескомпромиссное заявление о том, что Яхве, Бог Израилев, имеет право и власть так поступать, ибо он Творец и владыка земли и всего, что ее населяет.
Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: так скажите государям вашим: Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом Моим и простертою мышцею Моею, и отдал ее, кому Мне благоугодно было. И ныне Я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его и сыну сына его, доколе не придет время и его земле и ему самому; и будут служить ему народы многие и цари великие (Иер. 27, 4–7).
Итак, уникальность и вселенский характер Яхве – Творца земли и Господина человеческой истории – сочетается с его полной свободой использовать любой народ в осуществлении своего замысла.[74]
Суд Яхве праведен и справедлив. Одно дело произнести эти слова, и совсем другое – отстаивать их перед потрясенным, измученным народом, для которого падение Иерусалима свидетельствовало лишь о бессилии или несправедливости Яхве. Иезекииль проповедовал первому поколению изгнанников, непосредственным участникам трагических событий. Это они с горечью сетовали, что, если постигшее их бедствие дело рук Яхве, значит «неправ путь Господа» (Иез. 18, 25). Бог поступил с ними несправедливо. Напротив, возражает Иезекииль, сочетая в своей проповеди благовестие с пастырским назиданием: содеянное Яхве полностью оправдано упорным и неисправимым неповиновением дома Израилева. Не только Израиль должен понять, что Яхве отверг Иерусалим «не напрасно» (Иез. 14, 23), но и вся земля узнает об этом, дабы справедливость Божьего суда явилась «пред глазами многих народов» (Иез. 38, 23). Это один из главных аспектов провозглашения вселенского правления Яхве – единственного истинного Бога: справедливость составляет самую суть его владычества применительно к Израилю и ко всем народам земли.
Божий народ, даже неся наказание, продолжает выполнять Божью миссию. В своем послании пленным израильтянам Иеремия предлагает свежий пророческий взгляд на произошедшие с ними события (Иер. 29, 1-14). Обратите внимание на серьезное расхождение в том, как повествование вполне справедливо называет изгнанников народом, который «Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон» (ст. 1), а в послании говорится о пленниках, «которых Я (Яхве) переселил из Иерусалима в Вавилон» (ст. 4. 7). На уровне человеческой истории пленные иудеи действительно стали жертвами имперских завоеваний Навуходоносора. Однако, с точки зрения божественного владычества, они по-прежнему принадлежали своему Богу. Мечом Навуходоносора управлял Бог Израиля.
В этом контексте Иеремия убеждает израильтян смириться со своим положением, признав реальность сложившейся ситуации. В вавилонском изгнании они оказались по воле Бога, и на какое-то время Вавилон стал их домом (ст. 5–6). Они не вернутся на родину через два года (как уверяли лжепророки), а останутся в плену на протяжении жизни двух поколений. Однажды они снова увидят родную землю, но до этого еще далеко.
Однако Иеремия далек от отчаяния. Он продолжает: «…размножайтесь там, а не умаляйтесь» (Иер. 29, 6). Отголоски Авраамова завета отнюдь не случайны. Больше всего народ, поредевший в результате долгой осады, голода, болезней, меча и плена, боялся своего полного исчезновения с лица земли. Что же станется тогда с данным Аврааму обещанием потомства, многочисленного, как звезды и песок, лежавшим в основе существования Израиля как нации (Быт. 15, 5; 22, 17)? Им нечего было страшиться, Бог не забыл о своем обещании. Израиль ожидает не гибель и забвение, а процветание, о чем свидетельствовали и другие пророки (Ис. 44, 1–5; 49, 19–21; Иез. 36, 8-12).
Но если призыв к умножению перекликается с Авраамовым заветом, то же самое можно сказать и о следующем наставлении пророка, весьма нежеланном для жертв вавилонской агрессии: «…и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир (шалом)» (Иер. 29, 8-12).
Перед изгнанниками стояла задача – настоящая миссия прямо во вражеской столице. Они должны были искать благосостояния этого города и молить Яхве о его процветании. Итак, им предстояло не только воспользоваться благословениями Божьих обетований Аврааму (благодаря которым, они не умрут, а умножатся), но и стать проводниками обещания того, что в потомках Авраама благословятся все народы земли. В обетовании сказано: «все народы», в том числе и враждебные Израилю. В Вавилоне Израиль уподобился самому Аврааму, оказавшись среди одного из этих народов. Пророк призывает их стать благословением в трудах и молитвах за процветание для тех, кто живет рядом с ними.
В этом есть глубокая ирония: ведь вся история Израиля началась с призвания Авраама из Вавилона. Может показаться, что история обратилась вспять теперь, когда Израиль переселен «из Иерусалима в Вавилон» (Иер. 29, 1.4) – в направлении, противоположном ходу повествования об Израиле. Но, по таинственному Божьему замыслу, потомки человека, призванного из Вавилона, чтобы даровать благословение всем народам, вернулись в Вавилон пленниками, которым поручено исполнить данное когда-то Аврааму обетование. Об этой характерной для Бога иронии, вероятно, вспоминал Иисус, когда призывал Израиль стать благословением для народов, в первую очередь, молясь за своих врагов (сравнить сочетание благословения и молитвы в Мф. 5, 11.44).
Учение, содержащееся в письме Иеремии, превращало пленников в провидцев. У Израиля была не только надежда на будущее, как сказано в известных стихах Иер. 29, 11–14, но и миссия в настоящем. Даже в Вавилоне он должен был оставаться народом молитвы и мира (шалом). Как и предвидел Иезекииль, живое присутствие Яхве ощущалось в Вавилоне нисколько не меньше, чем в Иерусалиме. Его вселенское могущество и слава обрушили на израильтян всю тяжесть его гнева, но и тогда Бог защищал и хранил их ради имени своего и для осуществления своего глобального замысла.
Суд над народами
Некоторые пророки в своих эсхатологических видениях, очевидно, ожидали, что какие-то народы, в конечном итоге, обратятся к Яхве за спасением, разделив с Израилем благословение и даже став его частью. Уповал ли на это Иезекииль сказать сложно, поскольку он никогда не говорит об этом прямо. В дошедших до нас пророчествах Иезекииля о других народах нет ничего, что можно было бы сравнить с обещаниями вселенского искупления, которые мы находим, например, у Исаии.[75] У Иезекииля вселенские масштабы принимает страстное желание познать Бога. Красной нитью через всю его книгу проходит уверенность в том, что другие народы, как и Израиль, узнают Яхве как Бога. Слова «…и узнают (или узнаете), что Я Господь» – своего рода визитная карточка Иезекииля – встречаются в его пророческих записках около восьмидесяти раз. В свете сказанного нами ранее о трансцендентной уникальности Яхве, это не может означать простого признания народами, что среди множества известных им богов есть еще один по имени Яхве. Нет, народы окончательно и бесповоротно убедятся, что Яхве – единственный живой истинный Бог, неповторимый Господь всей вселенной, не знающий себе равных.
Примеров таких утверждений много в Книге Иезекииля, но все они достигают зловещей кульминации в мрачном пророчестве о судьбе Гога из земли Магог в 38 и 39 главах. Это апокалиптическое видение, полное образного символизма, предрекает окончательное поражение врагов Божьего народа. Оно стало необходимой прелюдией к главному видению всей книги в главах 40–38, где Бог обитает среди своего возрожденного и освященного народа. Прежде чем такое станет возможным, враги Бога должны понести свое наказание.[76]
В этих двух главах, Иез. 38–39, дважды рассказывается одна и та же история, изобилующая яркими, почти карикатурными образами, заимствованными из других книг Ветхого Завета (потоп, Содом и Гоморра). Жестокий враг с севера объединяется с другими, и вместе они нападают на мирный, ничего не подозревающий и безоружный Израиль. Враги терпят сокрушительное поражение и погибают от руки Бога (без участия человека). Окончательной точкой в этом поражении станет их погребение (задача гигантская сама по себе), после чего они исчезнут навсегда. Итак, главное в этом пророчестве – решительная победа Бога ради его народа над силами зла, которые непрестанно пытаются восстать и уничтожить его. Картина поражения Гога неоднократно находила свое практическое воплощение в истории человечества, так что бесполезно проливать герменевтический пот в попытке дать точное определение таинственным именам и географическим указателям. В конечном итоге, победа остается за Богом, говорит Иезекииль. Божий народ в безопасности, а врагов ждет полное и окончательное поражение и гибель.[77]
Нельзя упустить из вида (а, к сожалению, именно так чаще всего поступают те, кто пытаются разгадать тайну личности Гога или предсказать дату наступления конца света) вновь и вновь повторяющиеся слова: «…и узнают (или узнаете)». Мы еще раз убеждаемся, что в результате явления Божьего могущества ширится познание Бога Израилем, его врагами и всеми народами земли. Эти слова звучат как пролог к развитию событий в заключительном стихе предшествующей главы (Иез. 37, 28). Далее они вновь неоднократно встречаются в повествовании в Иез. 38, 16.23; 39, 6–7.21–23, и, наконец, завершают собой целый раздел в Иез. 39, 27–28. Полезно будет прочесть эти стихи в единой последовательности, чтобы ощутить теоцентричность того, что хотел выразить Иезекииль в этом причудливом видении. Мир должен узнать, преодолев все противоречия и заблуждения, живого и истинного Бога.
И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во веки (Иез. 37, 28).
И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами их (Иез. 38, 16).[78]
И покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь (Иез. 38, 23).
И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что Я Господь. И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и не дам вперед бесславить святаго имени Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в Израиле (Иез. 39, 6–7).
И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой, который Я произведу, и руку Мою, которую Я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою; за то, что они поступали вероломно предо Мною (Иез. 39, 21–23).
Явлю в них святость Мою пред глазами многих народов. И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них (Иез. 39, 27–28).
Итак, что же узнают Гог, а с ним и все народы, представ на свой последний суд перед Богом? В программе их обучения преобладают три слова: (1) святость, (2) величие и (3) слава Яхве.
Прежде всего, Яхве не просто очередное малозначительное божество, чье имя злословится между народами. Он – «Святый Израилев», в своей трансцендентной уникальности не знающий себе равных. Кроме того, мир узнает, что, в отличие от мелких божков области, разоренной имперской армией Вавилона, Яхве – несравненно велик. И, наконец, мир познает славу Яхве – единственного настоящего Бога, который обладает весомым авторитетом и властью. На фоне святости, величия и славы Яхве боги и идолы всех народов обнаруживают свое нечестие и жалкую пустоту.
Миссиональная актуальность этого великого видения очевидна, если рассматривать его прямое назначение следующим образом. Подобно ветхозаветному Израилю, народ Божий на протяжении всей своей истории подвергался нападкам и насмешкам со стороны богов господствовавших в его окружении культур. Взять хотя бы идолов богатства и власти, символы алчности и высокомерия. Или кричащую похвальбу тех, кто присвоил себе экономическое и военное могущество. Не будем забывать об опасном соперничестве идеологий и религиозных учений, и, тем более, об открытых гонениях с попыткой полного уничтожения противников. В такое время пророчества о Гоге и Магоге как нельзя более уместны, когда Божий народ чувствует себя уязвимым, преследуемым, слабым и беспомощным. Но именно в такие моменты это видение дает уверенность в решающей победе живого Бога, когда все остальные начальства и силы предстанут в своем истинном облике – пустых и лживых идолов, хотя и они не сдадутся без упорной борьбы. И хотя видение говорит об осуждении нечестивых, картина эта нам далеко не приятна, ибо пророк напоминает, что Бог не хочет смерти грешника (Иез. 18, 32; 33, 11). Однако все увиденное им облекает все современные проблемы уверенностью в грядущем разоблачении и поражении врагов Яхве, а также в признании его всей вселенной единственным истинным и трансцендентно уникальным Богом.
69
Интересное заключение, которому мы не уделяем особого внимания в данном исследовании, но имевшее большое значение для авторов Второзакония и пророков, указывает на связь между познанием Яхве как Бога и послушанием ему. Фараон отказывается покориться Яхве, потому что, якобы, не знает его. Напротив, знать Яхве – значит во всем повиноваться ему (ср. Втор. 4, 39–40). Иеремия именно так определяет познание Бога, приводя в качестве примера Иосию (Иер. 22, 16), а Осия, после того, как Израиль нарушил так много Божьих заповедей, выносит резкий приговор: «Нет… Богопознания на земле» (Ос. 4, 1).
70
См., напр., Ис. 19, 1-15; Иер. 46; Иез. 29–32.
71
Этот и многих другие похожие по смыслу, хотя и не столь драматичные в выражении, отрывки мы будем исследовать в главе 14.
72
См. более подробное обсуждение этого важного отрывка в гл. 14.
73
Патрик Миллер продолжает размышления над богословской значимостью этих географических границ в работе: Patrick Miller, «God's Other Stories: On the Margins of Deuteronomic Theology», in Realia Dei, ed. P. H. Williams and T. Hiebert (Atlanta: Scholars Press, 1999), pp. 185-94.
74
К этой теме мы тоже подробнее вернемся в главе 14.
75
Более подробно взгляды Иезекииля на будущее познание Бога всеми народами и их практическое значение я рассматриваю в работе: Christopher J. H. Wright, The Message of Ezekiel: A New Heart and a New Spirit, The Bible Speaks Today (Leicester, U. K.: Inter-Varsity Press; Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2001), pp. 268-72, опираясь во многом на глубокий анализ этого вопроса в работе: David A. Williams, «'Then They Will Know That I Am the Lord': The Missiological Significance of Ezekiel's Concern for the Nations as Evident in the Use of the Recognition Formula» (master's diss. All Nations Christian College, 1998).
76
Тот же эсхатологический порядок событий мы находим в Откровении: сначала должны погибнуть враги Бога и его народа, и только потом Бог будет вечно пребывать среди своего искупленного народа.
77
Более полное изложение моего толкования Иез. 38–39 см. в Wright, Message of Ezekiel, pp. 315-26.
78
Обратите внимание на одинаковые проявления божественной иронии в обращении Бога к фараону и Киру: «Я воздвиг тебя… чтобы все народы узнали меня». Вдвойне достоин сожаления тот факт, что люди тратят так много времени, пытаясь представить, каким мог бы быть Бог, вместо того чтобы просто узнать, кто он.