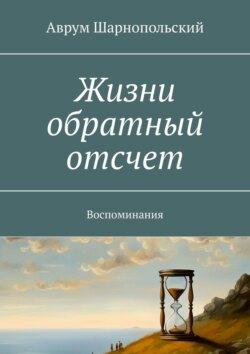Читать книгу Жизни обратный отсчет. Воспоминания - - Страница 9
Часть 1. Военное лихолетье
Глава 6. Прошу, пане…
ОглавлениеВ апреле предгорье покрылось изумрудным травяным покровом, расцвеченным пятнами желтых и красных тюльпанов. Земля, словно понимая, что вот-вот жаркие лучи солнца безжалостно отнимут накопленную за зиму влагу, спешила напоить ею рвавшуюся к свету и солнцу растительность, так необходимую населявшим ее насекомым, пресмыкающимся и птицам. Мы, дети и подростки, проводившие значительную часть времени в тесных, неуютных и душных классах, стремились вырваться на природу, ощутить себя ее частью, вобрать в себя пьянящие ароматы гор и, забыв об уроках и домашних заданиях, почувствовать себя свободными и независимыми. В горы нас влекла еще и жажда приключений, ибо с горами были связаны разного рода легенды и рассказы, в которых, разумеется, было больше вымысла, нежели правды. Среди прочего ходили слухи об огромных более метра черепахах, способных, если их нагрузить, перемещать тяжести. Говорили об оружии, оставшемся там со времен басмачества, о пещерах, хранивших тайны и многое другое. В горы в одиночку не ходили, поэтому время от времени собиралась группа ребят, среди которых обязательно оказывался один или два опытных следопыта, знавшие тропинки, и умевшие разбираться на местности. В одной из таких групп численностью в 10—12 человек оказался я и Фима. Я не был новичком в таких походах, потому что не раз и не два промышлял поиском черепах, которые мы обменивали на консервы у польских солдат армии Андерса, одна из частей которой формировалась у нас в Кермине. Польские солдаты, которым приедалась армейская пища, сплошь состоявшая из американских консервированных продуктов – гуляшей, ветчины, тушенки, яичного и картофельного порошка готовили себе в тайне от своих командиров супы из мяса черепах, считавшегося деликатесом. Мы же делали свой маленький и достаточно выгодный бизнес, в душе посмеиваясь над солдатами, любившими есть черепах и говоривших на русском языке с ужасным и смешным акцентом. Они отдавали честь, прикладывая два пальца к козырьку конфедератки – традиционного польского военного головного убора и величали друг друга: «Пан Юзек, пан Влодек, пан офицер». Пребывание поляков в Кермине – это часть истории этого небольшого городка, которая началась в один прекрасный день, когда на железнодорожную станцию прибыл эшелон с семьями польских евреев, бежавших от нацистов. Вначале поляки нашли убежище сначала в западных областях Украины, затем в России и, наконец, волею каких-то чиновников, управлявших процессом эвакуации, в Узбекистане, в частности, в Кермине. Уже с первых минут пребывания на станции, с момента их выгрузки из вагонов, они вызвали по отношению к себе резко негативное отношение со стороны местных жителей. До приезда поляков старожилы привыкли видеть в эвакуированных – тихих, скромных, не чуждающихся любой работы людей, страдающих не столько от неустроенности, сколько от неудобств, причиняемых местным. Эти люди привезли с собой малоприметный скарб и потеряли в войну своих родных, близких и знакомых. Новоприбывшие поляки, навьюченные огромными чемоданами, баулами и мешками, совершенно не походили на людей, убежавших от немцев. Складывалось впечатление, что они взяли с собой все, что только можно было – одежду, посуду, драгоценности, примусы, швейные машины и т. д. Один из них, видимо, зубной врач, умудрился привезти с собой бормашину с ножным приводом. Шумные и бесцеремонные, они едва не парализовали работу железнодорожников, заполонив собой и своими вещами подъездные пути, перрон вокзала и подходы к пакгаузам. Они отлавливали первого попавшегося им железнодорожника или милиционера, окружали его плотным кольцом и, бурно жестикулируя и крича, забрасывали огромным количеством вопросов и требований. Железнодорожники, в большинстве своем узбеки, которые и по-русски – то плохо разговаривали, не могли взять в толк, чего от них хотят эти странные люди, говорящие на каком-то непонятном языке. Не получив ответа на свои вопросы, поляки бросались к другому, к третьему железнодорожнику. В конце концов, видимо, получив какие-то разъяснения и рекомендации, семьи одна за другой начали перемещаться за пределы вокзала и к концу дня от этой пестрой, походившей на цыганский табор толпы, не осталось ничего, если не считать кучи мусора на месте выгрузки поляков из вагонов. Мы, ребята, конечно же, не преминули возможностью порыться в этом мусоре и наши старания были вознаграждены разными находками. Я, например, нашел там жемчужное (а возможно и подделку под жемчуг) ожерелье, которое отдал маме, а также металлическую планку как бы состоящую из зубных коронок, которую отдал Фиме, любившему всякие блестящие штучки. Евочке досталась какая – то яркая детская игрушка. Никто из ребят, копошившихся в этих кучах, не ушел без находки. В течение некоторого времени, поляки ничем не напоминали о себе. Однако, вскоре на привокзальном базарчике стали появляться новые люди, напористые и нахальные, вытеснившие тех, кто делал свой небольшой бизнес скупкой и продажей носильных вещей. У «новых» дело было поставлено с размахом: вместо «торговых точек», местом которым служила земля, на которой были расстелены товары, как грибы стали расти прилавки. На них, вместо старых поношенных вещей, предлагавшихся прежними торговцами, были аккуратно выложены новые красивые, с заводскими ярлыками одежда и обувь, предметы домашнего обихода, посуда, бижутерия и др. В продаже появились невиданные доселе сигареты и сладости, шкатулки из пластика, тетради с глянцевой бумагой и с красочными обкладками и многое другое. Узбеки таращили глаза на все эти вещи, подолгу рассматривали и щупали одежду, цокали языками, выражая этим свое восхищение увиденным. Появился киоск, в котором продавался приготавливавшийся тут же напиток, по вкусу похожий на современный молочный коктейль. Лишь один раз довелось испробовать мне этот вкусный, красивого желтого оттенка, густой напиток, увы, недоступный многим из-за его дороговизны. Вместо безногого инвалида сапожника, чинившего обувь при входе на базарчик, поляки построили мастерскую, в которой работало несколько человек, делавших на заказ и ремонтировавших старую обувь. Узбеки, носившие и зимой и летом сапоги, буквально заваливали мастерскую заказами, тем более, что владельцы мастерской умудрялись добывать настоящую хромовую кожу, мягкую как шелк. Недалеко от нашей кибитки поселилась пожилая полячка, шившая пользовавшиеся у узбеков спросом цветные стеганные ватные одеяла. Материал для одеял поставляли мы, мальчишки, находившие выброшенное тряпье, которое она тщательно отбирала, отстирывала, резала на нужные ей по размеру и форме куски и сшивала таким образом, чтобы получился пестрый мозаичный узор. В качестве ваты использовался хлопок, который тоже подбирался нами по пути следования арб, перевозивших собранный хлопок. Рассчитывалась старуха с нами леденцами – красными петухами на палочках, которыми она также торговала. Для изготовления леденцов она использовала специальные формы, сахар же получала в рамках натурального обмена за одеяла. Вообще говоря, сахар продавался по продовольственным карточкам, однако узбеки находили какие-то обходные пути его приобретения без ограничений, как, впрочем, и другие нормированные продукты. Несмотря на прибыльный бизнес, старуха была невероятно скупа: один леденец можно было заработать, сдав 10 кг тряпок, которые она взвешивала на старых рычажных весах. Если до требуемого веса не хватало хотя бы пол килограмма, она выдавала леденец лишь после того, как доставлялось недостающее количество тряпок. Было противно иметь дело с этой вечно брюзжащей дурно пахнущей и крикливой старухой, боявшейся пускать нас в дом. Она всегда в любую погоду ходила в старом, заплатанном и лоснящимся халате, с оттопыренными карманами, прикрытыми шерстяным платком, которым она подпоясывала халат. Принимала она товар во дворе, скрытом от постороннего глаза высоким дувалом. Двор был уставлен ящиками, прикрытыми мешковиной, куда и складывался товар, то-бишь, принесенные тряпки. Леденцовые петухи она доставала из карманов халата, в которых хранился и мешочек с нюхательным табаком. Его запах я не помню, а вот вкус леденцов, приправленных пыльцой табака, сохранился в памяти надолго. Образ этой старухи со сморщенным лицом, на котором выделялась большая волосатая бородавка, ассоциируется у меня сейчас с образом гоголевского Плюшкина. Печатая эти строки, я вдруг поймал себя на мысли, что совершенно не помню польских детей! Не то, чтобы их не было. Наверняка были. Но вместе с нами в школе они не учились, в наши ребячьи компании не входили, с нами не дрались, что никак не вписывается в рамки общепринятых в те времена представлений о формах сосуществования. Трудно представить себе ситуацию, когда бы в детской и подростковой среде, состоящей из представителей разных социальных групп и национальностей, с разным уровнем развития и воспитания, не возникали бы конфликты. Возникали они и среди взрослых. Наиболее острым, перешедшим в погром, стал конфликт между поляками и русскоязычными жителями Кермине, а точнее теми, кто был вытеснен в результате «здоровой» конкуренции из торговли и сферы обслуживания. Началось все со стычки между подвыпившим одноногим инвалидом и поляком – продавцом, к которому инвалид обратился с просьбой дать ему деньги на «чекушку» водки. Получив отказ, инвалид огрел продавца костылем, на что, обозленный выходкой инвалида, продавец, молодой крепкий парень, выйдя из -за прилавка, нанес инвалиду такой удар, что тот рухнул и ударился головой о камень. Инвалид потерял сознание, камень, о который он стукнулся, окрасился кровью, и кто-то из толпы, окружившей упавшего инвалида закричал:
– Убили, Жору убили!
Раздались возмущенные голоса и крики:
– Наших бьют! Гады! Фашисты! Жидовье! Шакалы! Жидовские морды! Убирайтесь отсюда! Мы на фронте кровь проливаем, а они здесь нашу кровь пьют! Бей жидов!
Напряжение в толпе росло, к ней присоединялись все новые и новые любопытствующие. В какой-то момент крики Бей жидов! стали доминирующими и
обрели характер призыва к действиям. И действия не замедлили себя ждать. Толпа разделилась на несколько групп, каждая из которых, вооружившись камнями, досками и палками, стала крушить прилавки, предусмотрительно покинутые их владельцами. Разгром прилавков не погасил возмущения толпы, гнев требовал выхода, и он направил беснующуюся толпу туда, где можно было дать волю животным инстинктам, – к домам, в которых проживали польские евреи. Несколько таких домов соседствовали с нашим домом. Мы игрались на пустыре перед домом, когда показалась толпа человек в 30—35, потрясавших палками и металлическими прутьями и нестройно оравших:
– Бей жидов, спасай Россию!
В толпе не было узбеков, она сплошь состояла из небритых, в грязной одежде неопределенного возраста без определенных занятий русскоговорящих людей, большинство из которых не было продавцами, но постоянно «ошивалось» на рынке и на вокзале. Толпа проследовала мимо нас и направилась к двум домам, где жили польские семьи. Мы, мальчишки, естественно из любопытства пошли за толпой. Сначала в окна домов полетели камни, послышался звон разбитых стекол, не устояли под ударами и хлипкие двери, затем в дома стали врываться юркие парни. Вскоре из окон на улицу начали вылетать вспоротые подушки, одеяла и кухонная утварь, а еще через какое-то время в проеме дверей стали появляться погромщики, неся в руках наворованную добычу. Их сменяли другие, также пожелавшие поживиться награбленным добром. Удовлетворившись содеянным, погромщики, один за другим, покидали разграбленные дома, унося с собой трофеи. К счастью, владельцы этих домов, видимо, предупрежденные о готовящейся акции, своевременно оставили их, забрав с собой наиболее ценные вещи. Поэтому жертв среди тех, против которых был обращен гнев толпы, не было, хотя, кто знает, как могло бы обернуться дело, окажись они дома. В Кермине проживало немало евреев, эвакуированных из Украины и западных областей России. Погром не коснулся их, и это могло свидетельствовать лишь о том, что в поляках они видели конкурентов и вообще людей пришлых. Эвакуированные же были как бы «своими», тем более, что они не противопоставляли себя коренным жителям, а их мужская часть либо воевала, либо работала. Жили эвакуированные бедно; как и остальные, часами простаивали в очередях, отоваривая продуктовые карточки, делились с соседями, чем могли, помогали им присматривать за детьми и больными, когда это было нужно; дети дружили между собой, не делая различий по национальному признаку. Антисемитизм, конечно, время от времени проявлялся, для этого много не нужно было. Достаточно было кому-то попытаться без очереди получить хлеб или не уступить в цене, продаваемой по необходимости носильной вещи, как неизменно возникало:
– Вечно эти жиды выгоду для себя ищут! Спекулянты проклятые, на нашем горе наживаются! и т. д.
«Прелесть» стояния в очередях я познал сполна. Занять место в очереди нужно было задолго до открытия магазина. Часто и после открытия приходилось стоять в утомительном ожидании, пока привезут и сгрузят хлеб. Желающих участвовать в разгрузке хлеба было, хоть отбавляй, поскольку они пользовались первоочередным правом получить свой паек. Иногда и мне удавалось вклиниться в эту команду. Заниматься выгрузкой хлеба было тяжело – не столько физически, сколько морально, поскольку ощущать запах переносимого в руках свежеиспеченного хлеба для вечно голодного мальчика без возможности попробовать его на вкус, было настоящей пыткой. К моменту начала «отоваривания», очередь спрессовывалась до такой степени, что трудно было дышать. Однажды, чтобы не быть вытолкнутым из очереди, я ухватился за дверной косяк магазина, и, когда дверь открылась, мой палец оказался зажатым дверью. Я почувствовал дикую боль, усилившуюся тем, что очередь, подавшись назад, потянула меня за собой. Вначале я стеснялся кричать, но когда боль стала нестерпимой, я заорал так, что все в очереди буквально оцепенели. Мне помогли вызволить мой палец, ноготь которого вскоре почернел и долгое время оставался таким. Помню, как-то за мной в такой спрессованной очереди стояла молодая женщина, от низа живота которой исходил такой жар, будто там размещался ядерный реактор. Мою спину буквально жгло, я, как мог, насколько это позволяла стесненность, менять свое положение, но женщина еще теснее прижималась ко мне, возможно получая какое-то удовольствие от этого. Сейчас-то я понимаю, что истосковавшееся по мужской ласке тело, таким образом реагировало на близость и слияние в тесной очереди двух тел, пусть даже одно из них принадлежало двенадцатилетнему мальчику. Из очереди, после получения пайка, я выбирался истерзанным, с драгоценным хлебом в высоко поднятых руках и зажатыми в кулак продовольственными карточками. В этих условиях было немудрено и потерять карточку, что к моему ужасу однажды и произошло. Пропажу я обнаружил, уже подходя к дому. Передав хлеб маме, я бегом бросился к магазину, питая слабую надежду на успех. Карточку, естественно, я не нашел, и мама, внутренне попереживав, купила на черном рынке новые карточки. Когда паек содержал довесок, я предательски съедал его, как бы компенсируя тем самым и долгое стояние, и духоту в очереди и другие неудобства, связанные с «отовариванием» продуктов. Нехватка хлеба иногда восполнялась лепешками, которые мама пекла из муки собственного помола. В качестве платы за фотографии, мама время от времени получала зерно, которое мы мололи на каменных жерновах у соседа – узбека. Жернова представляли собой два плоских неправильной формы цилиндра, насаженные друг на друга. Нижний цилиндр был неподвижен и содержал желобок, через который высыпалась мука; верхний можно было вращать вокруг оси, держась за деревянную ручку у края цилиндра. Зерно загружали в конусное отверстие у оси жернова. Крутить жернов было очень тяжело, и мы с мамой часто менялись местами.
За годы нашего пребывания в эвакуации Кермине не раз сотрясали разного рода события. Еврейский погром был лишь одним из эпизодов, оставивших глубокий след в моей детской памяти, но почти никак не сказавшимся на жизненном укладе населявшего его населения. Уже через неделю о происшествии никто не вспоминал; были ли наказаны зачинщики и исполнители погрома мне неизвестно, но на базарчике по-прежнему правили бал поляки, вновь возникали какие-то споры и разборки, но это никоим образом не влияло на их бизнес.
Другим событием, надолго запомнившимся всем, стало формирование польской армии Андерса. Уже в зрелом возрасте мне как-то в руки попался документ, озаглавленный «Постановление ГКО (Государственного Комитета Обороны) от 25 декабря 1941 г», в котором речь шла о формировании на территории СССР польской 96-ти тысячной армии. В соответствие с этим постановлением на территории Кермине должна была дислоцироваться 7-я дивизия этой армии. Совнаркомам Узбекской, Казахской и Киргизской ССР предписывалось в пунктах дислокации польской армии для размещения штабов, школ, лечебных заведений и общежитий офицерского состава предоставлять крытые, пригодные для жилья помещения, включая и школьные здания. Войсковые части польской армии должны были размещаться в палаточных лагерях.
В один из школьных дней наша учительница к вящей радости учеников, сообщила нам, что с завтрашнего дня на какое-то время занятия отменяются в связи с переездом школы в помещение бывшего детского сада, расположенного неподалеку. Нам предписывалось являться в школу, как обычно, но без тетрадей и учебников, для того, чтобы помочь в переезде. Оказалось, что школа, школьный двор и прилегающий к ним пустырь передаются в распоряжение командования формируемой польской армии. Мы засыпали учительницу вопросами, на большинство из которых ответа, однако, не получили. Интересовало нас, в частности, на чьей стороне будет воевать эта армия, кто будет ею командовать, почему именно у нас производится формирование, ведь численность поляков, проживающих в Кермине, не тянет даже на роту, чем будет вооружена эта армия, кто такой генерал Андерс и многое другое. Мы знали, что американцы должны открыть второй фронт, который оттянет часть немецких сил на себя; об этом много говорили, в том числе и в семьях, поэтому формирование польской армии как раз и связывали с возможным открытием второго фронта. Позднее, когда в Кермине появились польские солдаты, обутые в американские военные ботинки с толщенной подошвой и одетые в форму, полученную из Америки, когда польские офицеры стали разъезжать в «Виллисах», стало очевидно, что их готовят для включения в состав американских войск. В течение нескольких дней мы практически на руках перенесли в новое помещение школы оборудование физического и химического кабинетов, расставили парты, и у нас началась жизнь, полная новых впечатлений, увы, не связанных со школой. Находясь поблизости от нашей прежней школы, мы имели возможность наблюдать за всем, что происходило в ней и около нее. А там происходили разительные перемены: на пустыре на некотором отдалении от школы вырос палаточный городок для солдат с палаточным же костелом, в котором правил службу армейский капеллан. Собственно, сама служба проходила на плацу, где коленопреклоненные солдаты внимали своему пастырю, стоявшему на возвышении. Это же возвышение служило местом, где высшие офицеры принимали парад, когда к ним приезжал сам Андерс вместе с генералом Богушем, сопровождаемый свитой польских и советских офицеров. Я дважды наблюдал приезд генерала, и оба раза параду предшествовала церковная служба. Было смешно видеть, как мялись и переглядывались между собой наши офицеры во время службы, стоя на возвышении рядом с коленопреклоненным Андерсом и его свитой. В конце концов, они нашли решение, вытянувшись в струнку и взяв под козырек. Так вот они и стояли, пока шла служба. Обычно на этом плацу проходили и учения солдат: там они маршировали, собирали и разбирали винтовки, изучали противотанковые пушки и минометы. Стрельбища проходили далеко от школы, но звуки стрельбы доносились и до нас. Польские солдаты быстро освоились в Кермине. Находясь в увольнении, они делали свой гешефт. Видимо, опасаясь открыто заниматься торговлей, они заходили в дома, предлагая добротную военную обувь, прорезиненные бежевые плащ-накидки, консервы и даже жвачку. До появления поляков мы знали жвачку, которую получали у узбека-старьевщика в обмен на поношенную одежду или обувь. Его жвачка – куски разной по величине желтой, похожей на канифоль, смолы, была горькой, как полынь. Американская же жвачка – плоская и рифленая полоска, обернутая в фольгу, была сладкой и ароматной. Американские консервы – гуляш в высокой цилиндрической металлической упаковке или тушенка в четырехгранной коробке, были снабжены ключиками-открывашками, на которые при их вращении наматывалась отрываемая от упаковки полоска металла, обнажая содержимое коробки. Ох, как были вкусны эти консервы! В те времена я не променял бы эти консервы с красочными наклейками, которые уже сами по себе возбуждали аппетит, на самые лучшие конфеты, если бы, конечно, они у меня были. Мама, умудрявшаяся выменивать у солдат консервы на сушеный урюк или изюм, варила из них такие блюда, что их можно было проглотить вместе с собственным языком. Я до сих пор удивляюсь тому, как маме одной в условиях военного времени, когда продукты питания были на вес золота, удавалось кормить нас троих детей. Мы, конечно, постоянно испытывали чувство голода, но в нас не было худобы, чего нельзя было сказать о маме, которая, даже похудев, по- прежнему оставалась красивой, следившей за собой женщиной, не пользовавшейся никакой косметикой. Какой-то сердобольный солдат по дешевке продал маме плащ-палатку, из которой она сшила прекрасный плащ, которым пользовалась и после войны. Через какое-то время чуть не половина мужского населения Кермине зимой щеголяла в американской обуви. Каким образом полякам удавалось раздобывать и продавать такое большое количество новой, не бывшей в употреблении, обуви, для всех, кроме самих поляков, оставалось загадкой. У солдат появились русские подруги, с которыми они проводили время и которым очень импонировало вежливое обращение к ним – Прошу, пане! Думается, что после отъезда поляков в Кермине осталось немало женщин, проливавших слезы из- за своего легкомыслия и доверчивости. Мы, мальчишки, быстро освоили польские ругательства, которые тем ни менее не смогли вытеснить из нашего лексикона русский мат, которым мы владели в совершенстве. Этот польский период времени в Кермине запомнился еще одним случаем, свидетелями которого мы стали случайно. Играясь, мы как-то удалились от жилья в сторону гор, и там метрах в двухстах от нас увидели небольшую группу вооруженных польских солдат, сопровождавших какого-то обритого наголо военного со связанными спереди руками. Обычно польские солдаты ходили без оружия. Мы же увидели перед собой солдат вооруженных, да еще и далеко за пределами места их дислокации. Это уже само по себе вызывало любопытство. Мы, было, приготовились последовать за ними, когда офицер, командовавший этой группой, и шедший впереди нее вдруг остановился, огляделся и отдал какой-то приказ. Группа остановилась; офицер, подойдя к человеку, взял его за связанные руки и повел за собой. Метров через десять они остановились, и офицер развернул его лицом к группе солдат. Затем, достав из кармана сигареты, прикурил одну из них и сунул ее в губы «бритого». «Бритый» сделал пару затяжек и выплюнул сигарету. Раздалась еще какая-то команда, слов которой мы не расслышали. Солдаты вскинули ружья, офицер махнул рукой, раздался залп, и человек со связанными руками, как в замедленном кино мягко опустился на землю. К нему подошел офицер и, видимо удостоверившись в его смерти, вновь что-то скомандовал солдатам, которые, развязав убитому руки, завернули тело во что-то и, взвалив его себе на плечи, понесли в сторону гор. Предали ли они тело земле или оставили его на растерзание шакалам мы, потрясенные увиденным, так и не узнали, поскольку идти за солдатами было страшно, да и вообще благоразумнее было исчезнуть необнаруженными. Что это было – самосуд или санкционированный расстрел, кем был этот человек, какое преступление совершил, навсегда осталось для нас загадкой.
Ничего еще не познавший в жизни, я – мальчик из скромной еврейской семьи, видевший смерть людей лишь в кино, не знавший других видов наказаний, кроме лишения возможности погулять и играться с друзьями, оказавшись невольным свидетелем расстрела человека в реальной жизни, в один момент стал другим, испытавшим такой страх и такую боль, как если бы расстреливали меня самого. Не раз и не два будет преследовать меня эта картина расстрела незнакомого мне человека, не раз и не два будет сниться мне навеянный этим событием один и тот же сюжет, в котором не кто-то, а я убиваю того самого польского солдата, хороню его, и каждый раз испытываю животный страх от того, что могу быть разоблаченным. В каждом человеке есть чувство вины. Я ни в чем не был виноват перед человеком, которого лишили жизни польские солдаты. Возможно эти солдаты, впервые, а я в этом уверен, расстреливавшие живое существо – человека, и испытывали боль за содеянное. Возможно, эта боль каким-то образом передалась мне – очень впечатлительному мальчику, ставшему свидетелем казни. И эта боль долгое время выходила из меня, причиняя мне страдания. Прошу, пане Прошу, пане… Среди польских солдат была очень высокая смертность. Непривычные к узбекскому климату с его жарким летом и холодной зимой, поляки болели малярией и другими заболеваниями, страдали от жажды и, как ни странно, от недоедания. По-видимому, далеко не все имели возможность получать американские консервы в избытке.
Отсюда и обмен на продукты питания обувью, обмундированием, жвачками, солдатскими флягами и другим военным снаряжением. Впоследствии ходили слухи о том, что в наибольшей мере страдали от недоедания и плохого медицинского обслуживания поляки, считавшиеся сочувствующими советскому правительству. Прошу, пане… Прошу, пане.
В тот день, когда мы собрались в горы за тюльпанами, мама, очень неохотно разрешившая нам этот поход, напутствовала меня:
– Абраша, будь осторожен и смотри – ни на шаг не отпускай от себя Фиму. Ты знаешь, какой он у нас. Держись ребят. Вверх не лезь, даже, если ребята таки полезут туда – ждите их внизу. Смотри, чтобы я не волновалась.
Я заверил маму в том, что ей не о чем беспокоиться и что никаких происшествий в принципе быть не может, ибо в предгорье, где цветут тюльпаны, опасностей нет. В действительности же произошло то, чего никто не ожидал. Мы, конечно, с самого начала знали, что предгорьем дело не ограничится, и что основной целью нашего похода являлись горы. Подъем в горы был не сложным, хотя и продолжительным по времени. Вершина, до которой казалось рукой подать, по мере приближения к ней становилась все выше и дальше. Идти гурьбой становилось не удобно – мешали камни и осыпи. Мы перестроились и продолжали подниматься цепочкой по тропинке. Фима, не терпевший никаких ограничений, несколько раз оставлял тропинку, но каждый раз был вынужден возвращаться с ободранными в результате падений коленками. Сделали привал. Олег, возглавлявший группу, крепкий парень лет шестнадцати с наколками на пальцах рук, подозвал к себе Фиму.
– Смотри, пацан, – Закуривая самокрутку и цедя слова между затяжками, с угрозой сказал он Фиме. Здесь горы, они баловства не любят, дури не прощают. Мы скоро поднимемся на вершину, на гребень. Там не разбежишься – места мало, – обрыв в глубокое ущелье. Одно неосторожное движение – и ты разобьешься о скалы. Поэтому, – повысил Олег голос, – будешь все время около меня, не спереди, не сбоку – сзади, за моей спиной. Смотреть под ноги, – продолжил свой инструктаж Олег, явно обращая его не только к Фиме. На отдельно лежащие камни не наступать. К краю обрыва не подходить. Что надо будет – покажу. Все.
– В ущелье будем спускаться? – спросил кто-то. Говорят, внизу есть пещеры и в них летучие мыши.
– Ага, – насмешливым тоном подхватил Олег. Там еще до сих пор басмачи прячутся, свои богатства хранят. И вообще – оружия в них видимо-невидимо. Хватит трепаться. Спускаться не будем – это не для нас: опасно очень. А восьмерку мы и сверху увидим.
Из рассказов Олега и других, ребят, уже поднимавшихся на вершину горы, мне было известно, что на дне ущелья огромными валунами выложена цифра 8. Кто, когда и с какой целью это сделал, не знал никто. Мимо этой восьмерки проходила тропа, достаточно широкая, пригодная для караванного пути. Собственно, восьмерка и была целью нашего похода. О ней так много говорили, она обросла таким количеством легенд, что не взглянуть на нее хотя бы сверху, было просто неприлично. По команде Олега мы вновь выстроились в цепочку, Фима, следуя полученным указаниям, послушно стал за Олегом, и через какое-то время вся наша группа поднялась на гребень, действительно оказавшимся довольно узким. Мы, разгоряченные подъемом, стояли шеренгой на этом гребне, обдуваемые приятным прохладным ветром. За нашими спинами оставалось разнотравье предгорья, пред нами открывался фантастический вид на противоположный скалистый гребень, увенчанный зубцами, а под нами глубоко внизу виднелась серебристая тропа и…, казавшаяся даже сверху достаточно большой, восьмерка, внутри которой вполне могла бы разместиться грузовая машина. Мне с моего места была видна лишь часть этой восьмерки, и, чтобы разглядеть ее лучше, я сделал шаг вперед к краю обрыва. Я даже не услышал предостерегающий окрик Олега, как, поскользнувшись на камне (а я был обут в сандалии на кожаной подошве, хорошо скользившей на камнях), потерял равновесие, упал на спину и медленно заскользил по пологой части гребня к его краю. Раскинув руки в стороны, я пытался ухватиться за что- нибудь, но меня продолжало нести вниз. Испуга не было, – он пришел позже, когда все уже было позади, было лишь острое стремление затормозить и остановить скольжение. Я ничего и никого не слышал, если не считать шуршания мелких камней подо мной. Я бы наверняка упал и разбился, если бы не куст миндаля, невесть каким образом оказавшийся на пути моего скольжения и остановивший мое падение. Видимо так было угодно судьбе, чтобы именно на этом месте, на скалистом грунте, где по определению ничто не могло расти, вырос куст, спавший мою жизнь. Я не помню, как и с чьей помощью, смог подняться на площадку гребня. В памяти остался страх, охвативший меня и мысль о том, как отреагирует мама на порванные при скольжении брюки. Помню – ноги мои дрожали, и я какое- то время не мог не то что идти, стоять не мог. Напуганный происшедшим, Олег не стал задерживаться на гребне и скомандовал спуск. Спускались мы тоже цепочкой, я шел за Фимой, который, отведя руку за спину, держал ею мою руку, словно опасаясь повторения случившегося. Впрочем, через несколько минут, когда закончился крутой участок пути, оставил меня и вновь принялся бегать и скакать по траве. Я не любил вспоминать это происшествие, Фима же и в зрелом возрасте, при случае, очень живо описывал это событие, наворачивая на него придуманные им подробности. Впоследствии я поднимался на гребень горы не раз и не два. Горы настолько захватили меня, что, став взрослым, я прошел все главные перевалы Кавказа, поднимался на Гергетский ледник, на Эльбрус и другие вершины, заразил горным туризмом всю свою семью, включая внуков. Для меня слова, написанные Владимиром Высоцким: «Лучше гор могут быть только горы», на всю жизнь обрели особый смысл и значение.