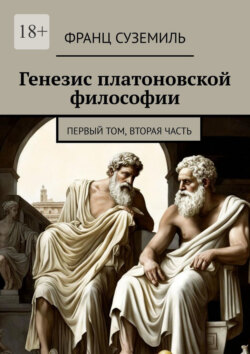Читать книгу Генезис платоновской философии. Первый том, вторая часть - - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Вторая серия платоновских произведений. Диалектические – косвенные диалоги
Федр
V. Первый основной раздел этого рассуждения
ОглавлениеНа первый взгляд может показаться, что она разделена на две очень неравные части, первая из которых, с.245С.-246 А., посвящена сущности, вторая, однако, – проявлению души, и сам Платон отдает предпочтение этому взгляду так, что его нельзя считать совершенно непреднамеренным. Сразу же после первого абзаца он заявляет, что хочет говорить мифически о том, что следует далее, точно так же, как если бы до этого момента он говорил диалектически, и насколько это возможно в мифической среде, настолько же это должно быть и в реальности.
В соответствии с природой материи душа, как местопребывание всякого философского созерцания, вмешивается во все три ее области, и поэтому ее сущность организована в триединую задачу: физическую, чтобы быть принципом жизни и движения, диалектическую, чтобы быть принципом знания, и, наконец, этическую, объединить эти две задачи в моральном духе и таким образом овладеть всем телесным и своей собственной стороной, обращенной к чувственному, за исключением того, что эта третья задача фактически уже дана вместе со второй, добродетелью с познанием, с сократовско-платонической точки зрения. Первая из этих задач простирается исключительно на отношение к телу, вторая в своем завершении – на чистую духовность души, хотя без телесного нельзя обойтись как без эмпирической отправной точки; но все три определения подпадают под общий аспект бессмертия, ибо это именно та общая форма, благодаря которой душа, хотя сама является лишь проявленной вещью и потому принадлежит к становлению, тем не менее гораздо теснее связана с вечным бытием идей, чем любая телесная вещь. Но в той мере, в какой это обосновано в только что упомянутом кратком отрывке, все последующее аналогично этому, так же как видимость аналогична сущности.
Но это лишь одна сторона дела. Бессмертие здесь лишь вначале сближается с физической задачей души, лишь далее следует описание предэкзистенциального состояния, а затем именно αναμνησις раскрывает ее интеллектуальную жизнь, так что первое предстает уже не просто как идеальное, но в то же время как чисто эмпирическая предпосылка. При таком рассмотрении, однако, второе излечение становится иным, поскольку в этом случае первый раздел должен быть скорее расширен до p.246 D.
В определении души как принципа движения (αρχη χινησεως) с равной необходимостью лежат два противоположных полюса, а именно, с одной стороны, ее бессмертие, ее возвышенность над всем разумным, но затем, в то же время, необходимость «принять на себя все нематериальное», т. е. объединиться с телом, чтобы образовать ζωον, p. 246 B. -D.; но в центре, именно из-за этого контраста, должен быть промежуточный раздел, который представляет саму душу в ее внутреннем разделении, т.е. в соответствии с ее стороной, обращенной к сверхчувственному, и в соответствии с ее стороной, обращенной к чувственному, p.246A. B.
Таким образом, в этом узком кругу последние два абзаца первого представляют собой отношение видимости к понятию, так же как Платон первоначально обращается только к ним в своем явном объяснении мифического способа обращения, а именно говоря, что говорить о внутренней организации (ιδεα) души, как она есть сама по себе, т.е. диалектически, – это действительно более длительное обсуждение, очевидно, потому что оно идет методично и не пропускает никаких промежуточных звеньев, но и более божественное, то есть более превосходное, если только оно вообще возможно в этой области; говорить об этом притчево, то есть мифически, с другой стороны, – это сокращенная, но тоже чисто человеческая процедура, p.246. A. Конечно, однако, человек может достичь только человеческого, и поэтому мы имеем здесь наиболее сжатое объяснение самого Платона того пункта, где его мифическая процедура должна обязательно вступить повсюду, а именно там, где он вынужден представлять становящееся и явление как таковое.25
Даже само выражение ιδεα для описания внутренней организации и структуры души носит уже образно-мифический характер и, кроме того, заимствовано из предшествующей речи, которая, как и впоследствии p.253 С., называлась μυθος, потому что, как мы можем теперь, выводя отсюда, описать ее более подробно, она сохраняла точку зрения простого воображения, поскольку это – с субъективной стороны – соответствует видимости – с объективной стороны – и действительно, что отличает ее от настоящей, это такая ее форма, которая смешивает ложное с истинным. Там тоже употреблялся тот же термин ιδεα для двух внутренних образований или движущих сил души, разума и желания, которые там предполагались; действительно, более того, здесь они сами являются, только в другом положении и значении, а именно: первое понимается под вождем, второе – под необъезженным конем, но кроме того, в благородного коня вставляется средний член, т. е. θεμος.
Вышеприведенным замечанием Платон, однако, не хочет сказать, в соответствии с уже сказанным, что доказательство бессмертия, которое, кстати, кажется, обязано своим содержанием кротонскому Алкмеону, родственному духу пифагорейцев, в согласии с другими пифагорейскими следами диалога,26 имеет собственно диалектическую,27 но только то, что оно имеет форму, более близкую к строго научной, логико-понятийной форме. Последняя, правда, не так проста, ибо в иных случаях Платон приписывает душе движущую и одушевляющую силу без всяких дополнительных доказательств; здесь же, напротив, приводится своего рода доказательство из опыта, что только одушевленное тело получает свое движение изнутри, а неодушевленное – извне; вся форма аргумента, однако, связана с парменидовской: «чистое бытие не может ни стать, ни погибнуть, ибо иначе оно не было бы еще или уже не было бы бытием», перенося его с этого чистого бытия на Принцип (αρχη) вообще и соответственно преобразуя его в другую форму: сам Принцип не может ни стать, ни погибнуть, ибо иначе либо все остальное не происходило бы из самого Принципа, либо тогда оно вообще стало бы ничем, если бы погиб сам Принцип, из которого только и может стать все, что становится.
Тем не менее, более точного выведения и определения используемых в нем терминов в их взаимной связи постоянно не хватает: Дюшле 28справедливо замечает, что даже истинно существующее11, если представление его сущности положено в основу мифа, должно принять иную форму представления, а именно чисто догматическую, поскольку она ближе всего подходит к общему смыслу мифа. Ведь фиксируя понятия непосредственно в их взаимосвязи, онтическое представление как таковое сразу же ставится на место развития мысли, превращение в которую генетического развития является также целью всякого мифа.
Сравнение души с упряжкой тоже имеет свою модель в начале парменидовской поэмы, как уже отмечал Гермий (у Ast p. 125). Сложнее, однако, судить о том, последовал ли Платон за пифагорейцами в разделении души и в какой степени, поскольку, с одной стороны, различие между разумом и желанием, на которое он ссылается вначале, уже перешло в народное сознание, Во-первых, различие между разумом и желанием, о котором он говорит вначале, уже вошло в народное сознание, поскольку предшествующее рассуждение, в котором он появляется, безусловно, поддерживает народную точку зрения, и поэтому нет необходимости возвращаться для этого к пифагорейцам; во-вторых, однако, утверждения последних о разделении жизни души весьма противоречивы. Но что касается первого пункта, то пифагорейцы сохраняют ту особенность, что они рассматривали разум и желание не просто как разные силы, а как разные части, и соответственно наделяли их разными физическими местами, и именно этот пункт Платон в «„Горгии“» (см. выше, с. 107 и далее), похоже, оставляет для более точного использования. Что же касается второй трудности, то здесь мы будем придерживаться исключительно сведений, восходящих к Филолаю как единственному писателю этой школы, поскольку все остальные по этой самой причине черпают информацию из смутной, чисто устной традиции. Таких сведений, однако, у нас теперь два: одно – это высказывания в самой Горгии, согласно которым Филолай достаточно хорошо описал внутреннюю природу желания в отличие от разума, хотя и в образной форме, и затем 21-й фрагмент (из Theol. Arithm. p. 22), согласно которому душа и ощущение – а значит, и желание – имеют свое место в сердце, а разум или рассудок (νους) – в мозгу.29
В то же время, однако, в двух последних абзацах всего этого раздела вновь переплетаются несколько положений, которые имеют более высокий характер, чем те, что содержатся в первом абзаце, а именно противопоставление божественного и человеческого, далее – душ, испытывающих и лишенных вибрации, и, наконец, бессмертного и смертного ζωα. Первая из этих противоположностей учитывается прежде всего во внутренней организации души, и поскольку третья явно возникает как соответствующая ей, соответствующая внутренняя организация необходима и в божественных душах; в них также должна быть нижняя часть, обращенная к телесному, только более точные детали этого не могут быть изложены даже мифически, и в любом случае исключается подобный конфликт между различными частями, как в человеке. Эти бессмертные, которые ζωα связывают тело и дух навечно, очевидно, являются небесными телами, которые, как известно, уже считались богами у древних философов и, вероятно, у пифагорейцев,30 Хотя сам Платон оставляет это лишь как гипотетическое предположение, не основанное на определенных понятиях (λογου λελογισμενου), не столько потому, что сомневается в его правильности, сколько чтобы защититься от него, как если бы природа божественного уже была исчерпана.
Второе отличие, с другой стороны, не вполне соответствует двум другим, но, помимо божественных душ, человеческие души в состоянии предсуществования также принадлежат к одушевленным душам, называемым демонами по эмпедоклийской, возможно, также пифагорейской и гераклитовской модели,31 p.246E.247B. Таковы две различные формы, в которых проявляется душа (αλλοτ εν αλλοις ειδεσι γιγνομενη p.346B.). Что, между прочим, обладание крыльями обозначает более совершенное состояние души, так как крылья имеют способность взлетать вверх (μετεωροπορειν), а пространственная высота есть образ духовного совершенства, на это здесь уже указано, и то, что небесные тела лежат напротив центра земного шара, то есть земли, по направлению к вершине, потому что больше к окружности, также ловко используется для этой цели. Здесь встречаются образ и материя; это, собственно, более совершенные тела мира, и на них мы, собственно, должны будем думать о человеческих душах в предсуществовании как о живых, то есть не развоплощенных, а облеченных в более благородное, побочное тело.32 Эта связь, однако, является необходимостью; связь же с земным телом описывается в данном контексте лишь как потеря крыльев и падение с высоты.
Причина этого отступничества теперь представлена якобы как тема второго раздела, p. 246 D. – 249 D.; таким образом, если до сих пор все рассмотренное относилось к природе души, то только теперь перед нами предстает ее история. Но для этого необходимо сначала более точно, чем прежде, описать состояние первостихии или предсуществования, и в особенности подчеркнуть, что в данном случае речь идет не о физической и даже не об этической, а об интеллектуальной стороне: только здесь на первый план выходит наиболее существенный аспект сущности души, идеал познания, который, однако, в своей чистоте принадлежит только богам (вплоть до с.248Е). A.) прокладывается путь к рассмотрению отличительного характера человеческого познания и вместе с тем самих отдельных человеческих индивидуальностей друг от друга, и таким образом рассмотрение уже спускается в саму земную жизнь, откуда, в-третьих, внутри этой последней также должна быть проведена граница вниз, к животной душе, иначе говоря, должен быть определен действительный характер собственно человеческого мышления, который выражает себя в αναμνησις.33
Крылья обладают силой поднимать вверх, туда, где обитают боги, то есть возносить душу к звездам, нести ее вверх, к ее более совершенному, предэкзистенциальному существованию. Поэтому они также разделяют большую часть всего, что окружает тело (των περι το σωμα), в божественном, то есть духовная сила, чувственно воспринимаемая через них, является самой богоподобной из всех. Но божественное – мудрое, доброе и прекрасное, от мудрого, доброго и прекрасного питаются и растут крылья, с.246D. E. Но мудрое, доброе и прекрасное, очевидно, есть не что иное, как воплощение идей; сами боги являются богами только потому, что они причастны им, потому что они ближе к ним, чем люди, потому что их знание о них выше и чище. Крылья, следовательно, означают не что иное, как способность питаться ими, т. е. принимать их в себя, познавать их, но только, конечно, так, как только божественное познает божественное, что поэтому всегда уже должно быть, так сказать, определенное знание, предшествующее познанию, определенное идеальное содержание в познающей душе, и точно так же крылья растут от этого питания, т. е. от уже достигнутого знания. Т.е. с уже достигнутым знанием растет способность продвигаться в нем все дальше и дальше.
Идеи, таким образом, более возвышенны, чем сами небесные тела, а поскольку они распределены в верхних частях земного шара, их следует образно приписать супраментальному пространству. Поэтому сами боги должны сначала подняться к ним, сколько бы прекрасных вещей ни было в пределах вселенной. Этим последним добавлением, если говорить о действительном ядре мысли, уже обозначено то, что позднее найдет свое дальнейшее осуществление в αναμνησις, – соединение знания с эмпирией, но если говорить об избранном образе, то, подобно соединению фиктивного надкосмического движения мировых тел, которое происходит лишь время от времени (δια χρονον p. 247 D.), по истечении определенных больших промежутков времени, т. е., как будет показано точнее позднее, каждые десять тысяч лет, с их обычной и реальной космической вибрацией, поскольку последняя уже имеет место в верхних пространствах мира и, следовательно, является следствием обладания их вибрациями. Таким образом, боги, придерживаясь вышеупомянутого образа питающих крыльев, выходят на пиршество в установленном порядке, то есть за нижними планетами, которые находятся больше к центру, за верхними планетами, которые ближе к окружности земного шара, а за каждым богом – связанные с ним демоны, то есть с каждым небесным телом – разумные индивидуальные существа, живущие на нем. Часто полагают, что Платон, организуя эту процессию, следует мировой системе Филолая, что было бы неспроста, если бы она лучше, чем его собственная, соответствовала целям, которые должна была символизировать вся эта астрономическая система. Прежде всего, мы не должны упускать из виду, что Платон уже здесь вплетает в астрономическую концепцию богов представление о народной религии, поскольку божества этой религии – духовные силы, не потому, что для него существует противоречие между этими двумя концепциями, но потому, что это единственная возможность в мифическом способе представления, чтобы постепенно все сильнее и сильнее выдвигать эту интеллектуальную сторону представления на передний план как фактически существенную. Итак, прежде всего, двенадцать великих богов, Зевс как предводитель процессии, и, наконец, можно также объяснить, почему божество, которому не позволено следовать за процессией, но которое должно оставаться позади в доме богов, то есть во внутреннем мире, называется Гестией, а именно потому, что Гестия занимает самое низкое положение в системе двенадцати богов. Хотя Филолай также называет Гестией свой центральный огонь, вокруг которого вращаются десять божественных мировых тел, включая землю, в соответствии с декадной системой счисления, здесь это не может иметься в виду. Ведь в этом случае и земля должна была бы взметнуться вверх, в супраментальный космос, а вместе с ней и живущие на ней человеческие души, т. е. последние также были бы в восторге от этого земного состояния, тогда как из с. 246 C. 248 С. прямо свидетельствует об обратном. Напротив, перенос на землю описывается в этих отрывках как потеря крыльев именно потому, что это перенос в мировое тело, лишенное космического, а следовательно, и связанного с ним сверхкосмического движения, поскольку земля – это покоящийся центр вселенной. Центр, однако, обозначает низ, следовательно, это низшее из божеств, Гестия; на самом деле, конечно, будучи неподвижной, она также неодушевленная и, следовательно, уже не божество вообще; мифическая форма, однако, скрывает это противоречие. Таким образом, связь с Филолаем сохраняется лишь в той мере, в какой платоновская система мира согласуется с его, то есть в противопоставлении более совершенных неподвижных звезд и планет менее совершенной земной области, и об этом, конечно, должно напоминать обозначение Гестии, которая, несмотря на все прочие отклонения, все же обозначает здесь, как и у Филолая, среднее, покоящееся тело земного шара. Супраментальное место также, несомненно, создано по образцу объемлющего огня или Олимпа Филолая, который самим своим названием доказывает, что является одним из главных мест божественного и в котором Филолай, согласно Стобею (Ecl. phys. I, p. 488) также чистота элементов (ειλιχρινεια των στοιχειων), несомненно, является хорошим образцом для последующего чувственного представления идей, как это может быть при более точном толковании этого выражения,34 p. 246E. – 247 C.
Это последующее описание идей, однако, несмотря на свой чувственный и образный характер, призвано служить истине, p. 247 C., и поэтому под этой формой возникает уже известное нам из предшествующих диалогов основание Идей на элеатском овале, и как, например, ουσια у Кратила, p.423D., возвышается над всеми чувственными качествами, так и здесь она описывается как бесцветная, бесформенная и нематериальная, следовательно, как бесплотная. Примерно такое же место занимает и истинное знание, т. е. подобно овою идее бытия как объективной, идея знания мыслится как субъективное воплощение идей, и добродетель, которая у Платона всегда тесно переплетена со знанием, также находит свое место среди идей как σωφροσυνη и διχαιοσυνη αυτη, p. 247 D. cf. p. 250.35 Однако это целостное умопостигаемое бытие противопоставляется, как οντως ον, производному бытию, p.247E.
Путешествие богов теперь проходит без особых затруднений. Правда, и с ними у этой чистой сущности есть только проводник души, νους, в качестве наблюдателя, но и он кормит коней нектаром и амброзией после возвращения. Иными словами, низшие функции души также участвуют здесь в гораздо большей степени в высокой жизни духа, и знание здесь носит гораздо более непосредственный, интуитивный характер, p.247C. -E. Уже в предсуществовании это отличается от человеческих душ, из которых даже самые высокие лишь максимально похожи на богов (ειχασμενη), то есть, как здесь же объясняется, ни в коем случае не те же самые, а скорее отличаются от них, как частное от общего, производное от первоначального. Именно из того, что индивидуальные души даже в предсуществовании являются благими индивидуальными вещами, вытекает и различие между индивидуальными личностями, даже в этом состоянии, которое миф описывает различными путями, которыми они следуют за богами. Таким образом, здесь речь идет уже не только о порочности одного коня, то есть желания, и даже не только о несовершенстве двух низших частей души, но и о порочности самих их νους (χαχια ηνιοχων). Делается различие между лучшими и худшими руководителями, т. е. предполагается различие духовных дарований и в отношении самого νους. Следовательно, вина за нисхождение в земное бытие лежит отнюдь не только на низших частях души36; это вина не нравственная, а интеллектуальная, даже не совершенно произвольная, а непременно обусловленная врожденным природным расположением, или, по крайней мере, первая, лишь постольку, поскольку человеческая свобода развивается на данной природной основе. Более точное отношение этих двух моментов друг к другу может быть теперь, как известно, понято, если вообще может быть понято, только путем генетического развития; но платоновская точка зрения не дает никакого реального простора для такого развития; для Платона, следовательно, ничего не остается, как сблизить эти два факта, но обойти их внутреннее противоречие быстрым поворотом. Это такой поворот, когда, помимо вины возниц, по вине которых крылья парализованы или согнуты, так что после возвращения домой – вместо нектара и амброзии – они используют в качестве пищи только воображение, p. 248 B., и в то же время, с весьма неопределенным выражением, о некоем происшествии, как бы случайном, лежащем вне их вины, благодаря которому душа наполняется забвением и злобой, с.248 С., так что здесь совершенно сознательно происхождение уродства и зла, благодаря которому уже согласно с.246 Е. теряются крылья, вступает во тьму.37
Согласно контексту целого, действительная объективная причина вступления в земное бытие заключается в необходимости одушевления всей телесной материи, а значит, и земной, и если в диалоге прямо не подчеркивается эта космическая необходимость, которая для Тимея, понятно, является существенной, Если в диалоге прямо не подчеркивается эта космическая необходимость, которая для Тимея, понятно, существенна, то причина просто в том, что не физическая, а интеллектуальная сторона должна стать конечной целью рассмотрения, из чего следует, что «Федр» относится к диалектическим диалогам; противоречие между этими двумя точками зрения, как я сам ранее предполагал,38 поэтому не должно быть допущено; апостасия не исключает необходимости апостасии. Однако, как уже отмечалось, физическое лежит в основе интеллектуального, законы того и другого в конечном счете одни и те же, общий мировой порядок, который поэтому также вмешивается сюда как закон Adrasteia и даже предлагает окончательный ответ на поставленные здесь вопросы, поскольку он одновременно определяет, какие души остаются в предсуществовании, а именно те, которые только когда-либо видели нечто из существующего, а также устанавливает последовательность стадий неживого в земном существовании. Правда, θεσμος прямо указан только в первом месте, но νομος во втором, очевидно, тот же самый, p. 248 C. Однако и здесь характерно мифическое обозначение именем этого темного божества природы, поскольку оно не допускает никаких дальнейших объяснений, с. 248A. – C.
Только что упомянутую таблицу различных детерминаций жизни, которая теперь следует далее, следует рассматривать как продолжение обсуждения многообразия индивидуальностей, которое она спускает, так сказать, из предсуществования на землю, где только и есть твердая почва для действительно более близкого подхода к этому предмету. Принцип порядка, которому Платон следует в этом, был недавно прекрасно освещен Deuschle.39
Градация обязательно должна зависеть от различных степеней, в которых душа видела идеи, то есть в зависимости от содержания, привнесенного с собой, и определенного таким образом направления к различным объектам? Таким образом, получается троякое нисходящее деление: сначала все, что связано с идеальным, творческим, сущностным стремлением, затем все, что связано с простым подражанием и простой видимостью или даже с простой озабоченностью непосредственной и индивидуальной чувственной материальностью как таковой, и, наконец, в-третьих, полное отсутствие содержания, полное отсутствие всякой преданности объекту, чистый эгоизм. Третья низшая степень, естественно, не допускает дальнейшего деления и поэтому представлена только τυραννιχος. Два других уровня, однако, делятся на параллельную четырехкратную последовательность уровней, так что соответствующее положение на втором уровне всегда сопоставляется с положением на первом, как подражание реальности или как индивидуальное с общим. Кроме того, однако, более высокие степени указывают на большее богатство различных направлений, возможных в рамках каждой из них, ибо чем более идеальна, тем более обширна сфера деятельности души. Так, в первой степени мы находим четыре эпитета, соединенных η и χαι, во второй и третьей – только три, в четвертой, наконец, совершающей переход во вторую степень, так же как и во всех членах последней степени таких различий только два, Но последняя, в противоположность всем членам второй ступени, характеризуется еще прибавлением φιλοπονου, составом, первая часть которого выражает, что эти души еще серьезно относятся к своим стремлениям, которые затем уменьшаются от ступени к ступени по мере того, как личные интересы получают все больше и больше места от фактических. А именно, эта композиция, очевидно, призвана напомнить композицию первой части, первый компонент которой также является φιλος на всем протяжении, и все это затем подводится там под одну точку зрения четвертым обозначением, чтобы перейти к последующему рассмотрению Эроса в правильном смысле как идеального стремления вообще, ибо именно объяснение того, насколько, как здесь, философ занимает то же положение, что и любитель красоты или муз, является фактически предметом второй основной части дискурса. Наконец, τυραννιχος стоит совершенно один, одинокий в своем течении, без эпитета, безраздельный в направлении деятельности. Философ, как его теневой образ, соответствует прорицателю: если бы это зависело только от объекта, он должен был бы занять следующее после него место, ибо он тоже постигает божественное как таковое, но не самодействующим образом, а чисто пассивно, сознательно – и без воли. Творческий мыслитель-теоретик является, по Платону, и истинным практическим правителем государства, а значит, истинным законным царем, как его называют по отношению к внутренним делам, или героем, как его называют по отношению к внешним делам, или общим правителем, как его называют, включая более благородных республиканских правителей. Это самая высокая и всеобъемлющая эффективность и деятельность; это реальное творение и действие противопоставляется ложному так называемому ποιητιχος, который является просто μιμειται το ποιειν. То, что государственный деятель занимает теперь третью ступень, было бы трудно понять, так как он, по-видимому, не отличается от этого самого царя, героя и правителя, если бы из добавленного управителя и богатого землевладельца или фабриканта (χρηματιστιχος, здесь, очевидно, понимаемый в благородном смысле слова) не было видно, что материальная сторона государственной жизни, в частности ее финансовые возможности, также предусмотрены в этом выражении. Здесь, таким образом, уже осуществляется переход к материальной стороне бытия, но здесь она еще предстает облагороженной своей эффективностью в большом и общем масштабе, тогда как соответствующий контробраз во втором ряду – это земледелец, зависящий от земли, и ремесленник, добывающий себе пропитание ручным трудом. Наконец, гимнаст и врач имеют дело только с индивидуальным телом, но они работают ради истинного исцеления и пользы и из настоящей любви к деятельности, тогда как софист и демагог притворяются, что работают ради самых духовных, общих и широких интересов, но под этим предлогом заменяют духовную гимнастику пустой и обманчивой словесной битвой, а реальное исцеление ущерба в государстве и обществе – увеличением и усугублением того же самого, P248E.
Кстати, во всей этой градации снова преобладает разумная, а не этическая точка зрения; в противном случае она должна была бы быть устроена во многих отношениях иначе, а именно: пришлось бы проводить различие между различными классами поэтов и отводить гораздо более высокое место тем из них, кто исходит из реальной этической эффективности, как это имеет место в случае с Платоном. Только так можно понять добавление, что те, кто неправедно жил в этой профессии, переходят после смерти в худшее, а те, кто жил праведно, – в лучшее существование, p. 248 E., в то время как в случае софистов и демагогов, но предпочтительно тиранов, только последнее кажется вообще возможным, может быть, замечание Штейнхарта 40также имеет в себе долю истины, что здесь снова признается мягкое суждение Платона, которое даже в случае софистов, как Продик, или тиранов, как Периандр и Гелон, не исключает возможности справедливой жизни? Ведь даже на этих низших уровнях можно представить себе разную степень справедливой или несправедливой жизни. С другой стороны, этическая точка зрения в рамках земного существования уже не может быть полностью исключена, и по этой причине она уже нашла свою связь в описании предсуществования, выделив среди идей не только бытие и знание, но и различные добродетели. Теперь эта сторона рассмотрения находит свое выражение в промежуточных состояниях между каждым повторным вступлением в человеческое существование. Для сцены наказания сохраняется популярная религиозная концепция подземного Аида, тогда как для награды намеренно выбрано расплывчатое выражение вознесения над землей в «некое место во вселенной «1, поэтому мы не имеем права осмелиться на более точное толкование, каким бы близким ни представлялось то самое небесное тело, на котором души, о которых идет речь, уже жили в предсуществовании.41 Кроме того, для этих последних душ не следует думать и об увлечении идеями, но это, согласно мифическому представлению, происходит лишь раз и навсегда каждые десять тысяч лет.42
Теперь это происходит и с душами небесных тел, причем в той мере, в какой это пребывание не влечет за собой противоречия, но, конечно, в той мере, в какой души небесных тел, даже после возвращения из потустороннего мира, остаются в постоянной связи с ним, то есть с Идеями. Только таким неопределенным оборотом речи Платон мог избежать этого противоречия; поэтому во всей этой схеме не было места для более сильного акцента на этических промежуточных состояниях, но они требовали самостоятельной мифической обработки, в которой, наоборот, основная точка зрения исходит из них; Федон заполняет этот пробел; здесь, с другой стороны, в этот более общий контекст включен только суд над мертвыми из «Горгия», p. 523 f.
Вполне возможно, однако, что числовой характер всей этой схемы обусловлен пифагорейской святостью числа десять, независимо от того, добавляют ли к нему предэкзистенциальное существование как высшее или, что более правильно, животное существование как низшее из девяти перечисленных уровней. Десятитысячелетние периоды мира и десятикратное течение жизни в течение каждого из них с большей уверенностью указывают на тот же источник, а сокращение до трехкратного для философских душ может также помочь столь же священному пифагорейскому трехкратному числу прийти к своему правильному.43 Однако догматическое значение имеет лишь предположение о великих мировых периодах в целом и о некой, неопределенной связи между ними и судьбами душ.
Таким образом, связь с пифагорейством опять-таки лишь очень слабая и формальная, и протест против нее возникает именно по одному существенному пункту, а именно в связи с распространением переселения душ на тела животных. Ибо это не может быть истолковано иначе, как отрицание того же самого, когда оно исключается при первом метенсоматозе и, по-видимому, допускается только для последующих случаев, чтобы не нарушать мифическую связь, которая требовала, чтобы возможность еще более глубокого нисхождения сохранялась для низшей стадии жизни так же возможно, как она требуется для всех остальных. И наоборот, восхождение к человеческому существованию ограничивается теми животными, которые уже заранее были людьми. Иными словами, суть всего этого повествования – не что иное, как отличие человеческого интеллекта, как от божественного, так теперь и от животного. Там различие заключается только в форме, божественное познание интуитивно и идеально, человеческое дискурсивно и фрагментарно, здесь же – в содержании, животная душа вообще лишена идеального познания, поскольку в ней отсутствует отличительный признак человеческого познания – понятие, то есть объективная идея, в той мере, в какой она входит в субъективное человеческое познание44.
Понятие теперь получается из множественности восприятий посредством умственного сочетания, но не могло бы быть получено из них, потому что оно не лежит в них, если бы уже не дремало в душе, так что этот процесс образования понятия есть не что иное, как воспоминание (αναμνησις) об идеях, виденных в предсуществовании.
В αναμνησις достигается фактический центр всего рассуждения. Действительный смысл всего первого главного раздела теперь ясно предстает как связь идеальной природы человеческого знания с его физическими предпосылками и условиями. Все это, однако, сводит αναμνησις к одному общему выражению, так как оно в такой же мере примыкает к чувственному восприятию, как и к идеям через предсуществование. Само предсуществование, хотя и подразумевается как серьезный догмат, тем не менее не имеет здесь самостоятельного значения, но является лишь фоном для dvapvijoig. Поэтому остается только показать, как Эрос и все связанные с ним моменты уже содержатся во второй основной части последней.
25
В этом отрывке нет признания диалектической неоригинальности, как меня недавно соблазнил предположить Крише в Jahn’s Jahrb. LXVIII. p. 592 Крише не лжет в этом отрывке; напротив, он тщательно подтверждает важные открытия, сделанные Deuschle, Die plat. Sprachphil. pp. 38—44, Die plat. Mythen p. 3—17, о природе мифического представления у Платона. Иногда Бёкх, Untersuchungen über das kosmische System des Platon, Berlin 1852. 8. p. 16 f., и Герман, Gesammelte Abh. p. 291 f., делают подобные замечания, но не делают никаких выводов. С религиозным характером платонизма, таким образом, эта накидка имеет так же мало общего, как и связанная с ней ссылка на боголюбов, хотя это не просто Ackermann, Das Christliche im Plato und in der platonischen Philosophie, Hamburg 1835. 8. p. 52 f., из этой предпосылки вытекает главным образом его основательно искаженный и односторонний взгляд на платоновскую точку зрения, а также Baur, Sokrates und Christus p. 91 ff., который, кстати, высказывает гораздо более правильное суждение.
26
S. hierüber nnd über die eleatische Form der Beweisführung Krische a. a. O. S. 50. vgl. S. 40. Anm. 1.
27
Wie ich selber ehemals Jahn’s Jahrb. LXVIII. S. 597. Prodr. S.84 f. mit Krische a. a. O. S. 48 behauptet habe. S. die eingehende Widerlegung von DeuBchle, Die plat. Mythen S. 20 f.
28
a. b. O. S. 21.
29
Ein vollständiges Verzeichniss aller einschlagenden Stellen giebt Stallhaum zu p. 246 A. Prolog, ad Tim. S. 53. Seltsam nur, dass er von der Unvereinbarkeit mancher dieser Angaben nichts gemerkt zu haben scheint. Z. B. Diag. Laert. VIII. 30 und Suid. s. v. νους geben vielmehr eine Dreitheilung von νους, φρενες, θυμος, von denen die beiden ersteren im Gehirn, der θυμος aber im Herzen seinen Sitz habe.
30
θεια σωματα Philol. b. Stob. Eel. phys. I. p. 488 (Fr. 11 Böckh); благороднейшее мировое тело, в центре которого находится плод, называют не только Гестией, но и матерью богов (там же), т. е., вероятно, высшим из этих божеств: именно она является покоящимся центром движения и столь же первоначальным источником света (Böckh a. l.c. p. 123 ff.) для других небесных тел; покой и свет, однако, соответствуют в известной пифагорейской таблице противоположностей более благородному принципу, πεπερασμενον, «движение и тьма» – απειρον (Aristot. Met. 1.5.986 a. 15 ff.). То, что освещение, возможно, одновременно исходит и от окружающего огня (Martin Etudes sur le Timte de Platon II. p. 101. Böckh Unters, üb. d. kosm. Syst. des Plat. p. 94), не имеет отношения к данному вопросу. Кстати, следует помнить, что θεος ни здесь, p. 246 C. End, ни ниже p. 249 C. согласно всему контексту не может означать высшего, абсолютного Бога Платона, Бога χατ εξοχην, как считает Штейнгарт а. а. О. IV. p. 82 и 117. прим. 89. Hermann Vindicate disputationis de idea boni secundum Platonem, Marburg 1839. 4. прим. 44 и, хотя и с сомнением, я сам предполагаю Prodr. p. 88; скорее речь идет о единстве божественного в конкретном представлении, так что то, что в этом выражении обобщается в целом, относится и к каждому отдельному богу. Более того, первое скорее следовало бы назвать ο θεος.
31
Empedokles V. 1—6. Karsten; für Herakleitos s. Diog. Laert. IX, 7. vgl. mit Fragm. 51. Schleicrmacher (s. jedoch Zeller a.a. O.I. S. 163 f. Anm. 1), für die Pythagoreer Diog. Laört. VIII, 32. vgl. 31. (εις το υψιστον = auf die Gestirne?)
32
Wie ich Prodrom. S. 89 mit Krieche a. a. O. S. 57. 67 angenommen habe; der von mir dort behauptete Widerspruch ist mithin nicht vorhanden; so wie auch das &eiov yü’voff p. 240 D. dort falsch von mir erklärt ist, das Richtige s. u.
33
Vgl. Deuschle а. а. O. S. 24.
34
Соответственно, я могу только признать филолаическую подоплеку этого представления, неоднократно подчеркиваемую Бюкхом, наконец, Филолаем p. 104 ff., согласно модификациям Крише, op. cit. pp. 57—61, где, однако, ошибка последнего, будто земля, несмотря на свой покой, все же вращается вокруг мировой оси, достаточно опровергнута Бёкхом, Унтерсом, üb. d. kosm. Syst. des Plat, Deuschle, op. cit. 8. 28 f., который вообще отвергает всякое астрономическое воззрение, но тем самым, по его собственному признанию, делает невозможным всякое толкование не только ζωα αθανατα, но и такого определенного и потому, конечно, не лишенного смысла признака, как остаток Гестии. См., кроме того, против него мое augef. ree, Jahn’s Jahrb. LXX, P. 148 – 150. Под ειλιχρινεια των στοιειων Böckh, Plülol. p. 98 беспредельное пустое пространство вне мира, с которым Стобей путал Олимп. Диссен (Dissen, Göttinger gelehrte Anzeigen 1827. 8. 834 f.) противоречит ему, но сам ошибается, считая, что Стобей называет Олимпом неподвижные звездные небеса, поскольку слова το μεν ουν ανωτατω μερος τον περιεχοντος скорее относятся к предшествующему πυρ ανωτατω το περιεχον. Но даже в этом случае эти слова все равно допускают двойное толкование, о котором говорит Бёкх (Böckh, op. cit. p. D4). Примечание 1. =το ανωτατω μερος, δηλαδη το περιεχονto, или другое, которое принимает генитив в его обычном смысле, так что на самом деле только внешний край окружающего огня, а не он сам в целом, был бы назван Олимпом. В последнем случае, однако, тем легче согласиться с Криче, De societatix a Pythngora in urbe Crotonüitarum conditae tropopolitico, Göttingen 1830.4. p. 62 понимать под ειλιχρινεια των στοιχειων эфир, который в таком случае все еще заключает в себе огонь, тем более что Филолай, кажется, также связывал эфир с центральным эфиром, при условии, что мировое тело, противоземля, лежащая первой по отношению к нему, также должна была называться эфирной землей, Simplic. to Aristot. de coel. II. p. 124b (цитируется по Bockh op. cit. p. 128). Очевидно, как прекрасно согласуется с этим филолайское обозначение эфира как грузового корабля земного шара (α τας σφαιρας ολχας fr. 21.), если он таким образом объединяет земной шар извне. Можно было бы склониться к тому, чтобы согласовать эту точку зрения, например, с мнением Бёкха, что эфир был бы элементом беспредельного и, таким образом, совпадал бы с απειρον πνευμα (Aristot. Phys. IV, 6. 213b. 22 и далее) вне мира; однако эта попытка была бы не свободна от некоторых очевидных сомнений. Диссен а. а. 0. предпочел бы сделать весь объемлющий огонь тождественным с эфиром.
35
S. Heindorf z. d. St., gegen welchen sich Stallbaum mit Un-
recht erklärt.
36
Wie Zeller a. a. O. II. S. 203. vgl. 271. Anm. 1. annimmt.
37
S.Steinhart l.c. IV. p.83f. и особенно Deuschle l.c. 0.8. 20. Различное космическое положение мировых тел, на основании которого Филолай также приписывает более высокую степень совершенства существам, расположенным более орбитально, хотел бы отметить Krieche, Feb. Plat. Phadr. p. 63, также хотел бы принять во внимание. Но аллюзий Платона для этого вряд ли достаточно.
38
Prodr. 8. 86.
39
a. a. O. p. 20 f., что делает все предыдущие взгляды на этот отрывок, включая мой (Prodr. p. 77), устаревшими. Это незначительная неточность, когда Дойшль просто утверждает, что первые четыре стадии имеют три эпитета.
40
a. a. O. IV. S. 85.
41
Was auch Krisehe a. a. O. S. 69 wirklich annimmt.
42
Deuschle a. a. O. S. 29, der überhaupt für diesen gansen Absatz zu vergleichen ist.
43
Krieche a. a. O. S. 65—67.
44
Deuschle a. a. O. S. 27.