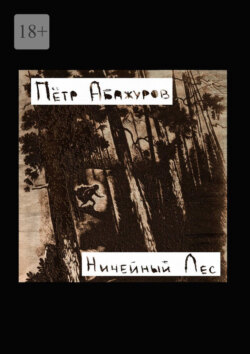Читать книгу Ничейный лес - - Страница 9
7. Сны старые и сны молодые
ОглавлениеВ. спал и видел сон. Он видел как люди входят в этот мир. И они могли бы быть счастливы в нём, но Бог, чтобы осуществить свой замысел, сделал людей глухими друг к другу. И вот люди живут в этом мире и не слышат тех, кто рядом с ними. Порой мрак, окутавший их, становится таким густым и непроницаемым, что для того, чтобы рассеять его, требуются большие потрясения. Тогда, после долгих лет тягот и лишений, люди начинают слышать и понимать своих ближних. Бог так устроил, чтобы, научившись слышать друг друга, мы научились слышать и его.
Такой сон приснился В. и он рассказал о нём дяде.
– О-о-о, это старый сон, – сказал дядя.
– Это почему?
– Потому, что это сон, который всё объясняет. Старые сны умные, и они могут нам обо всём рассказать.
– А что могут молодые?
– А молодые сны ничего не объясняют. Они как дети. Это просто сны, где можно радоваться и всё… Увидеть родную деревню такой, какой она осталась только в твоих воспоминаниях: пеликанов на фоне золотых куполов или, например, деревянные дома в небесах…
– Ого… да, и мне тоже такое иногда снится. А всё-таки что же насчет этого моего старого сна? Он объясняет мне что-то, но я не могу понять, что…
– Тогда давай я расскажу тебе один свой очень старый сон, хотя может это и не сон вовсе… Ты знаешь, старые сны имеют ещё одну особенность. Через какое-то время ты не будешь помнить, привиделось это тебе ночью или же всё было на самом деле. Во всяком случае, у меня есть полное ощущение, что я видел всё то, о чем ты сейчас услышишь своими собственными глазами…
Это случилось четыреста лет тому назад в одном замке, в Андалусии, на земле могущественного в прошлом Кордовского халифата, когда Кастилия уже вернула христианам эти земли, а из страны были изгнаны все мавры и евреи, не считая тех, кто под страхом сожжения на костре отрекся от своей веры. Но и те, что отреклись, называемые морисками и марранами, вызывали всеобщее отвращение, подозрение и ненависть, как люди, которые втайне соблюдали свои обычаи и, как считалось, отравляли воду и пищу христиан и пили человеческую кровь. Их тоже заставляли уезжать из Испании, а тех, кто остался, притесняли, вынуждая бродяжничать в поисках работы и пропитания. В крепости проходил Фестиваль Дураков – традиционный народный праздник христианского мира, во время которого, по обычаю, выступали лицедеи, скоморохи и музыканты – представители профессии настолько богопротивной, что для них, как и для самоубийц, не находилось места на тесных городских кладбищах.
Но Граф Хуан Аугусто де Фернандес, хозяин цитадели, несмотря на строгость католической церкви, беспощадно боровшейся с этим «пережитком язычества», благоволил народному искусству и потому, желая усладить свой слух виртуозной игрой исполнителей халео и булерии, зазывал к себе музыкантов не только из окрестных земель, но и со всей Испании, рискуя навлечь на себя гнев местного епископа. Артисты охотно приезжали, зная, как щедр на подаяние строптивый гранд.
Был среди музыкантов и один ничем не отличавшийся от всех остальных, за исключением разве что чуть более смуглого оттенка кожи. Из года в год он приходил в замок в надежде на щедрую милостыню. Был он одет на андалузский манер, и ничто не выдавало в нём мавра… Граф особенно любил его за искусную игру на виуэле. Но вот однажды один человек, любящий навредить, прикрывая это соображениями заботы, шепнул дону Аугусто:
– Этот лабух вовсе не тот, за кого себя выдает. Он мавр, и даже не думал креститься в католическую веру…
Аугусто де Фернандес подозвал к себе музыканта и гневно спросил:
– Как посмел ты играть нашу музыку?
Мавр, поняв, что отпираться бессмысленно, без вызова, но прямо ответил:
– Это не ваша музыка.
– Что? – подумав было, что он ослышался, сказал Хуан Аугусто.
– Это не ваша музыка, – без страха повторил мавр свою крамольную мысль, – просто ты так часто слышал её, что тебе стало казаться, что она ваша. Как и мысли, которые мы считаем своими, хотя услышали их только вчера в сутолоке базарной площади или, может быть, во сне… Сны учат нас. Они мудрее нас. Но сновидения – это не мы. Они стары, как вселенная… Они знают всё…
Воцарилась тишина. Никто не мог поверить, что какой-то бряцальщик произносит во всеуслышание дерзкие обвинительные речи по адресу испанского дворянина – служителя могущественнейшей в мире короны. Мавр продолжил:
– Ты думаешь, что это халео? Да, это халео, но если бы ты услышал мавританский мувашшах, ты едва ли подумал бы, что это музыка арабов, а не андалузцев.
– Как смеешь ты упрекать меня в том, что я присваиваю себе чужие мысли, мавр? – опомнился наконец гранд. – Вы грязные бродяги. У вас нет даже своей земли, кроме жалкой пустыни там, откуда вы приплыли.
– Действительно, граф, но ведь законы Испании запрещают нам владеть здесь землёй, потому нам и приходится переходить с места на место в поисках заработка.
– Ещё бы! Ведь это наша земля!
– Нет ничьей земли, уважаемый дон Аугусто. Ведь и до вас здесь жил какой-то народ, но кто-то жил и до него…
– Не желаю слушать тебя, мавр! Расскажи это птицам! – отрезал граф и повелел вырвать дерзкому сарацину язык, перебить пальцы и с позором изгнать его за пределы своих владений.
– Я прощаю тебя, дон Аугусто, ведь если бы мне довелось жить при Халифах, то я бы лишился не языка и пальцев, а глаз, ведь мне пришлось бы играть в гаремах… Белый свет же для меня милее всего… – успел сказать мавр, но одобрительный гул толпы, предвкушавшей предстоящее жестокое зрелище, заглушил его голос.
«И почему я раньше церемонился с этими лживыми перекрещенцами-морисками! Вот я сурово наказал одного из них и не чувствую никаких угрызений совести! Как, оказывается, это просто! А раз это так легко, значит всемогущий Господь на моей стороне! Значит он руководил мной! Он вложил в мое сердце этот праведный гнев. Как удивительно легко!» – так рассуждал Аугусто де Фернеандес, до того творивший насилие только против вооруженных воинов, а под вечер и думать забыл о бродячем музыканте.
Шли годы. Дон Аугусто не нарушал свою традицию и ежегодно проводил во дворе своей крепости Фестиваль Дураков. Но с каждым годом всё больше придавливала его кручина, природу которой он поначалу не мог себе объяснить. И вот однажды ему приснился сон, в котором он вновь оказался в тот самый злополучный день в своем замке. И произошло всё в точности как было тогда, за одним лишь исключением. Дерзкого охальника он не просто наказал, а убил, причём своими собственными руками. И опять та же легкость и даже ощущение полёта души… Но во сне нет времени, и в одно сновидение может уложиться вся жизнь вселенной, от её рождения и до полного распада… Так и теперь дон Аугусто жил во сне день за днем, проживал ту же жизнь, те же события, но ещё раз. Даже деяния Эпохи заново обретались им. Одно за другим приходили известия о покорении той половины земного мира, которая была отдана во власть испанским пушкам и штыкам по Тордесильясскогому договору, освященному самим Римским Папой. Под ударом малочисленных горсток дерзких испанских конкистадоров рушились древние империи Нового света. Но всё это совершенно не трогало его. Вот уже и десятилетия прошли с момента казни музыканта. Наконец, граф осознал причину печали, которая так глодала его, мешала радоваться тому, что прежде озарило бы душу светом. Это была тяжесть греха, который никак не искупить, ведь убиенного уже нет в живых. И тогда он, как за последнюю соломинку, ухватился за мысль – покончить с собой, чтобы, возможно, из ада немыслимыми путями пробраться на небеса, пасть в ноги музыканту и умолять простить… В этот момент он проснулся.
– Это был старый сон, дядя? – прервал рассказ В.
– Да, конечно.
– Значит тебе снился сон во сне?
– Такое бывает, но ведь я же говорю тебе, что не уверен, что не прожил всё это на самом деле, только в наши дни и при других обстоятельствах…
И он продолжил:
Когда граф проснулся, он был оглушительно счастлив. Почему? Да потому что во сне мавр был мёртв и не было никакой возможности искупить перед ним свою вину. Сейчас же дон Аугусто осознал, что тот, над кем он так жестоко надругался, возможно жив, и нужно только приложить все силы, чтобы его отыскать, и вовсе не обязательно для этого губить себя и проходить через муки преисподней… Мавр где-то в Испании! Как это близко! Гораздо ближе, чем рай для тех, кто спустился в бездну Геенны Огненной…
Никогда Хуан Луис Аугусто де Фернандес, так звучало его полное имя, не был так деятелен и скор на сборы. Даже тогда, когда при покойном уже Фердинанде выдвигался со своим отрядом на штурм великой Гранады. Он собрал самое необходимое в мешок, побрезговав, по завету апостола, даже сменным платьем и, никому ничего не объяснив, без свиты, полагавшейся ему по статусу, отправился в путь.
Никаких точных известий о музыканте не было. То его видели где-то в Кастилии, то в Арагоне, то в Леоне. Но никто не мог сказать точно, где странствующий калека окажется на следующий день.
«Что ж, – решил дон Аугусто, – обойду всю Испанию. Тем лучше. Когда ещё я смогу узнать, как в самой богатой державе мира живут бедняки!»
Бродил он многие месяцы. Со временем, хоть у него и были с собой деньги, его перестали пускать на постоялые дворы, так как его борода и волосы свалялись в колтуны, лицо обгорело, а платье износилось. Его принимали теперь за обычного перехожего калику и обращались с ним не лучше, чем с бездомной собакой. Действительно, он превратился в обычного с виду арабского дервиша, каких во множестве можно было встретить на дорогах Багдадского халифата… Теперь мальчишки, завидев его издалека, кидали в него камни и кричали: «Смотрите, кто идёт! Мавр, грязный мавр! Враг Иисуса Христа!» Он злился, и огрызался на них, и кричал что-то, пытаясь объяснить, что он граф, но это лишь ещё больше раззадоривало острую на язык детвору.
Иногда он прибивался к бродячим артистам, которые по ночам, уйдя в леса подальше от людских глаз и ушей, играли возле костров свою музыку без вплетенных в неё испанских мотивов. Это был настоящий мувашшах: искренний, открытый, распевный. В нём звучала душа кочевника-мусульманина, доброго и непокорного. Никто не прогонял дона Аугусто. Напротив, трубадуры относились к нему даже лучше, чем к себе самим, стараясь предупредить своей заботой любую его нужду, ведь в их глазах он был даже больший путешественник, чем они сами, а пророк Мохаммед заповедал радеть о странниках… Так он узнал душу тех, кого до того побеждал и на кого обрушивал гонения.
Вместе с одним из таких блуждающих ансамблей он отправился кочевать через пыльные пустоши и сквозь пронизанные солнечными лучами дубовые рощи.
Вот однажды он вышел вместе с ними к городу, где происходили народные гуляния. Хуан Луис, боясь людей, встал в отдалении, стараясь по возможности быть незаметным, чтобы никто не наткнулся на него и не осыпал бранью. Он постарался слиться со стеной, чтобы ни одна часть его тела не могла стать для кого-то помехой. Как часто он думал про себя о том, как безлик этот народ, и вот он сам уже захотел стать безликим из одного только страха перед грубым нравом человека толпы.
На празднике выступали скоморохи, а под вечер все присутствующие пустились танцевать. Артисты в шутовских костюмах позвякивали бубенцами на колпаках, а женщины шелестели длинными подолами. Дон Аугусто теперь хорошо знал арабские мелодии, и всё происходящее показалось ему несправедливым! Народ, прогнавший другой народ, танцует под его музыку и считает её своей. Он не выдержал и закричал:
– Это мавританский танец! Вы что не слышите! Нужно быть камнем, чтобы этого не слышать!
По толпе пронёсся ропот: «Да что он себе позволяет!»
«А не вырвать ли нам ему язык. Больно остер на слова этот мориск!» – посовещавшись с приближенными, решил местный гранд.
Хорхе Луис, дон Аугусто, не желая быть обузой для своих новых друзей, претерпев казнь и лишившись в довесок всего своего имущества, смешался с толпой и вышел за пределы города. Прошли ещё месяцы. Вот он уже сидит на обочине пыльной дороги и смотрит в землю. Его ноги разбиты, а обмотки пропитаны кровью. От недостатка жиров у него начали лопаться сосуды. Лишь изредка ему подавали милостыню, и то не из жалости, а только ради того, чтобы он ушел и не портил никому настроение своим видом. О том же, что когда-то он был графом, он навсегда забыл, да и если бы вспомнил – не захотел бы возвращаться к этой жизни.
Он был счастлив.
– Теперь я слышу тебя. Теперь я совсем с тобой. Теперь меня никто не разлучит с тобой. Теперь ты в моем сердце.
Теперь я совершенно счастлив. Нет большего счастья, чем понять другого человека, понять своего недруга…
Как я счастлив, что я стал тобой! Твой голос звучит в моём сердце… Нет чьей-то земли, мавр, чьего имени я даже не знаю! Нет чьей-то земли! Сегодня на ней живут испанцы, вчера жили мавры, до них ещё кто-то, и ещё кто-то! Как же я счастлив что слышу тебя! – как одержимый рыдал дон Аугусто, роняя на раскалённый песок крупные слёзы.