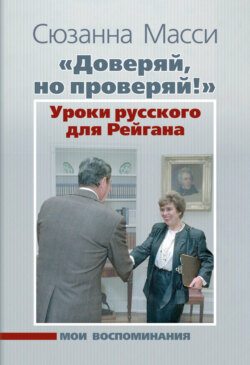Читать книгу «Доверяй, но проверяй!» Уроки русского для Рейгана. Мои воспоминания - - Страница 10
Глава 5
Первая встреча с президентом 17 января 1984 года
ОглавлениеС Макфарлейном я последний раз виделась 23 ноября. А через несколько недель, незадолго до Рождества, мне вечером позвонил Джек Мэтлок1. Немного нервничая и как бы нехотя, он сказал, что «было принято решение» отправить меня в Москву для переговоров с Советами в том ключе, о котором я говорила на встречах с Бадом. Мне предстояло отправляться уже через три недели, и поэтому нужно ехать в Вашингтон в начале января, чтобы подготовиться к поездке. Я сразу ему сказала, что поскольку Советы чрезвычайно большое внимание уделяют всяким рангам, то мне нужно получить какой-то статус – специального посланника президента или что-то в этом роде, чтобы меня восприняли всерьез. (После нашей встречи с Бадом я писала ему об этом.) Быть может, я и ошибаюсь, но мне показалось, что Джеку мой вопрос о получении «ранга» не понравился. Он смешался и сказал, что такое назначение потребует одобрения Конгресса и займет много времени. В этом он был прав, и поскольку при всех встречах с Бадом я сама настаивала на том, что действовать надо быстро, то согласилась ехать как частное лицо.
В душе я нисколько не сомневалась, что только военный человек, полковник морской пехоты, Бад Макфарлейн был способен допустить саму мысль, что я могу принести пользу, и только он в ответе и за мою первую встречу с президентом Рейганом, и за эту первую поездку в Москву в роли «бэк чэннел» – неофициального канала связи2. Ни один чиновник так бы не поступил. (Чиновник все сделал бы как раз наоборот. Секретари в Белом доме говорили мне, что некий высокопоставленный чин в сфере внешней политики, враждебно настроенный и завистливый, устроил скандал, требуя ответа: «КТО одобрил эту встречу?» Свидетель всего этого сказал мне: «Бад просто его проигнорировал».)
Я очень рада тому, что когда отважно предложила: «Пошлите меня. Я могу с ними разговаривать», в действительности не знала, насколько тяжелой была вся ситуация, иначе мне не хватило бы храбрости. В последние месяцы 1983 года отношения между США и СССР зашли в тупик. В сентябре произошел инцидент с корейским самолетом, а в ноябре американские ракеты «Першинг», нацеленные на Советский Союз, установили в Европе. В середине декабря 1983 года в Женеве советский переговорщик Юлий Квицинский покинул переговоры, зло бросив: «Все кончено». Переговоры о контроле над ядерными вооружениями были прерваны на неопределенное время, оставив и США, и СССР в положении, когда впервые за 14 лет между ними не велись никакие переговоры о контроле над вооружениями.
В состояние глубокой заморозки впали даже постоянные дипломатические отношения. «Обе стороны, – писал журнал “Тайм”, – вступили в длинный период неподвижности в отношениях между сверхдержавами и эскалации гонки вооружений». Направляя друг против друга вербальные ракеты, Рейган мог назвать Советский Союз « империей зла», а Андропов в ответ заявить, что администрация Рейгана «окончательно развеяла иллюзии, что с ней можно иметь дело». Американские карикатуристы изображали Андропова в виде космического пришельца-мутанта, а в Советском Союзе к рисункам президента США в образе стрелка-ковбоя добавляли свастику и пририсовывали Рейгану физиономию Гитлера. К началу 1984 года отношения ухудшились настолько, что дальше некуда.
Обложка первого выпуска журнала «Тайм» в 1984 году, вышедшего в свет 2 января, как всегда, была посвящена «Человеку года». На ней были изображены нахмуренные Рейган и Андропов, повернувшиеся спиной друг к другу. В «Бюллетене ученых-атомщиков» Джеймс Кракрафт написал: «1983 год был плохим годом в отношениях между США и СССР, и по всему видно, что 1984-й обещает стать еще хуже». Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне Уильям Кинкэйд добавил: «Советско-американские отношения находятся в самом отравленном состоянии со времен Кубинского кризиса 1962 года и, возможно, даже со времен панического ожидания начала войны в 1946-м». С ним соглашался Бернард Филд, главный редактор «Бюллетеня ученых-атомщиков»: «Никогда еще после устрашающих дней Кубинского ракетного кризиса мир не был так близок к Третьей мировой войне». Тогда же в январе 1984 года редакторы «Бюллетеня» провозгласили, что человечество находится «на судьбоносном перекрестке в ядерной истории», и передвинули стрелки Часов Судного дня на одну минуту вперед, остановив их за три минуты до полуночи3. Это стало действительно зловещим указанием на сложившееся положение, потому что лишь однажды за 39 лет своей истории и в ответ на испытание водородной бомбы предупредительная стрелка была ближе к полуночи, чем теперь. Середина восьмидесятых в Соединенных Штатах была временем апокалиптических страхов и тревоги из-за ядерного оружия. Люди строили бомбоубежища, а учителя в школе учили детей, как правильно прятаться под партой в случае нападения.
В первую же неделю января я уехала в Вашингтон, чтобы вместе с Бадом и Джеком подготовиться к своей поездке. Меня предупредили, что наши встречи будут носить абсолютно секретный характер и что о них знают лишь Бад, Джек и Том Симонс, глава советского отдела Государственного департамента. В своем знании России я была уверена, как и в способности разговаривать с русскими, с которыми всегда находила общий язык, даже с самыми идеологически упертыми коммунистами. При этом я, знавшая, как надо беседовать с самыми могущественными сенаторами и офицерами США, и умевшая препираться с самыми замшелыми бюрократами и хорошо замаскированными офицерами КГБ в Советском Союзе, совсем не представляла, как следует вести себя с сотрудниками Государственного департамента. Возможно, потому, что мой стиль слишком отличался от свойственной им профессиональной непрозрачности поведения. Вежливо, но безапелляционным тоном мне дали понять, что они нисколько не доверяют таким неизвестно откуда берущимся в море политики, отвязанным и потенциально опасным «блуждающим минам» вроде меня. Я не соответствовала знакомым им образцам и была способна потопить всю лодку. Для этих приверженцев статус-кво все понятное и привычное имело первостепенное значение, они любили стабильность и предсказуемость; а наибольший страх у них вызывали неконтролируемые, неожиданные изменения. (Это объясняет их любовь к Белым книгам по политическим вопросам.)
Больше всего озабоченные пересчетом сидящих на своих постах лидеров той или иной страны, они недооценивали важность устремлений населения, с которым, как в случае с Советским Союзом, они напрямую не контактировали. Существовала тенденция оценивать мощь страны только по ее военному потенциалу, пренебрегая всеми другими формами силы, считая иной подход «нереалистичным». Кроме всего прочего, в такой системе, где на первом месте стоит приверженность методам, принятая в Госдепартаменте, ничто и не могло окрашиваться в эмоциональные или чувственные тона. Установлению тесных связей с людьми той страны, в которой они служили (на языке Госдепартамента с «клиентистами»), препятствовали краткость пребывания и нелепость перемещения с одного места службы на другое (из Бурунди в Ленинград, например). Это полностью противоречило практике русских, ценивших длительное знакомство и крепкие связи в стране, куда они были направлены. (Лучшим примером служит Анатолий Добрынин, который оставался советским послом в США на протяжении двадцати четырех лет, с 1962 по 1986 год.)
Я демонстрировала прямо противоположный стиль мышления, будучи озабоченной чувствами, культурой и тем, как думают люди, – словом, «мягкими» а не «жесткими» субъектами контроля над вооружениями. Я видела много примет того, как слабеет коммунизм, наблюдала, что русские все больше погружаются в поиск собственных утерянных корней, и была убеждена, что вместе с растущим молодым поколением изменения, вероятно, произойдут раньше, а не позже. С каждой поездкой мне становился очевиднее растущий разрыв между американскими представлениями и реальностью. Я шагнула сквозь увеличительное стекло и увидела мир, который не соответствовал преобладавшему в США образу, пестуемому и взращиваемому людьми c вполне определенным типом и стилем мышления, чья карьера зависела от сохранения статус-кво. Мне довелось понять, что и Рейгану не нравился такой подход и что его стиль был иным – он меньше опирался в своих суждениях и понимании на политические доклады и больше доверял человеческим инстинктам и эмоциям.
Я четко осознавала, что меня не посвятят в тайны их секретной информации, а также что я ничего не знаю о том, как неофициально передаются послания. Я принадлежала к поколению, в котором женщины всегда полагались на мужчин, и для меня поначалу было трудно понять, насколько я могу или даже должна настаивать на том, чтобы самой решать, как мне выполнить мою миссию. (В 1984 году в процессе непосредственного планирования американской политики в отношении СССР не участвовала ни одна женщина4.) И я решила, что раз у всех есть советники, они нужны и мне. Поразмыслив, я остановила свой выбор на двух людях, чьей способности соблюдать конфиденциальность и высочайшему интеллекту я полностью могла довериться.
В качестве знатока американской позиции я выбрала для себя адмирала Бобби Рея Инмана, которым восхищалась и с кем была знакома в Вашингтоне. В то время он жил в Техасе, уйдя с поста заместителя директора ЦРУ. Когда я сообщила ему, что у меня есть некоторые вполне определенные ощущения того, как следует выполнять эту миссию, но что меня хотят «съесть», он усмехнулся: «Внизу здесь много крокодилов». Я объяснила ему, что когда мне сказали, что для выполнения моей миссии дают три дня, то я этому решительно воспротивилась, сказав, что за три дня русских не заставишь и трубку телефона снять, и что мне еще понадобится время, если нужно будет уйти, но успеть вернуться. Говоривший с техасским акцентом Инман спокойно посоветовал, что когда они начнут давить, «наступит твой черед откинуться в кресле, улыбнуться и сказать: “Не хочу критиковать все, что было прежде, но думаю, что когда вы обратились ко мне, вы хотели, чтобы дела пошли немного иначе”». И он добавил, что если они будут нажимать, то «недурно бы добавить немного стальных ноток». Я последовала его совету. Это сработало, и в конце концов было решено, что у меня будут две недели, десять рабочих дней. Учитывая, что никому из нашего истеблишмента не доводилось испытывать сомнительное удовольствие, пытаясь проникнуть сквозь железный занавес советского упрямства, это не казалось слишком большим временем – но все же лучше, чем три дня.
1
Совет по национальной безопасности, старший директор по советским и европейским делам (1983—1987).
2
Бэк-чэннел (Back channel): неофициальный и частный канал связи между политическими субъектами.
3
Так называемые «Часы Судного дня» (“Doomsday Clock”) являются изобретением редакторов «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists), которые таким образом после окончания Второй мировой войны стали драматизировать свою оценку глобальной ядерной угрозы. С 1947 года «Бюллетень» периодически передвигает стрелку часов ближе или дальше от полуночи, в зависимости от того, насколько близко цивилизация находится к ядерному Судному дню.
4
Женщины не участвовали напрямую в формировании политики в отношении Советского Союза до 1985 года, когда Розанна Риджуэй, прослужившая в Госдепартаменте 29 лет, была назначена помощником госсекретаря по европейским и канадским делам и, таким образом, стала самой высокопоставленной сотрудницей Госдепартамента. Будучи специалистом по советской политике в области контроля над вооружениями, она являлась главным переговорщиком на всех саммитах Рейгана и Горбачева.