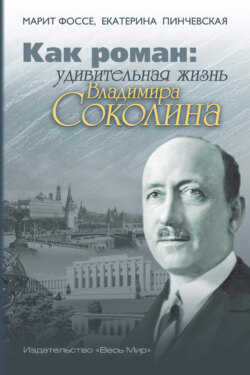Читать книгу Как роман. Удивительная жизнь Владимира Соколина - - Страница 5
ГЛАВА 1
На пути к новой Европе…
Политическое и социальное развитие России перед Революцией 1917 г
ОглавлениеФранцузская революция 1848 г. напрямую не повлияла на Россию, как это произошло с Германией и итальянскими государствами, однако её идеи проникли и распространились в стране. Событиям революции 1905 г. в России предшествовали все шире распространявшиеся требования большей демократизации и ограничения царской власти в России. Впрочем, развитие промышленности само создавало условия для увеличения числа рабочих и повышения их организованности. В 1890 г. министр финансов Сергей Витте предложил программу содействия развитию промышленности, которая предусматривала значительные расходы на строительство и оснащение железных дорог, предоставление ассигнований для вспомогательных служб частной промышленности, регулирование протекционных тарифов для русской промышленности (в особенности тяжелой), поддержку экспорта и стабилизацию российской валюты для привлечения зарубежных инвестиций.
Его план увенчался успехом, в 1890-х гг. рост российской промышленности достиг 8% в год. Произошел скачок в железнодорожном строительстве, выросшем на 40% между 1892 и 1902 гг. Экономика явно развивалась, и ирония этой ситуации заключалась в том, что, по словам историка Сидни Харкейва в его книге о русской революции 1905 г.: «Успех Витте в реализации своей программы скорее способствовал революции 1905 г., а впоследствии и 1917 г., поскольку в результате обострились социальные противоречия» (Harcave S. First blood. The Russian Revolution of 1905. London, 1964).
В конце концов, политика правительства, направленная на финансирование развития промышленности и высокое налогообложение крестьянства, привела к тому, что миллионы сельских бедняков устремились в города. «Крестьянин-рабочий» видел в работе на заводе средство улучшить положение семьи, оставшейся в деревне, что оказалось решающим фактором в росте социальной сознательности городского пролетариата. Наплыв крестьян в города повлек за собой большую концентрацию населения и послужил вектором распространения новых городских идей в деревнях и разрушил изолированность сельского населения. С течением времени промышленные рабочие начали выражать своё недовольство царским правительством, несмотря на законы, принятые для их защиты. В начале XX в. продолжительность среднего рабочего дня составляла 11 часов, в субботу 10, таким образом можно понять, насколько опасными и бесчеловечными были условия. Все попытки забастовок, которые проводили независимые профсоюзы, были подавлены. Многие рабочие были вынуждены трудиться более 11 часов в день. Другие подвергались незаконным и чрезмерным штрафам за опоздания, ошибки в работе или даже за их отсутствие.
Кроме того, оплата русских промышленных рабочих была наименьшей по всей Европе. Даже учитывая, что стоимость жизни в России была относительно низкой, «16 рублей ежемесячного оклада для русского рабочего не соответствовали покупательной способности 110 франков для французского рабочего». Ко всему прочему, законодательно были запрещены организация профсоюзов и проведение забастовок. Неудовлетворенность и жалобы рабочих переросли в отчаяние, которое толкнуло многих из них в сторону радикализма. Загнанные в угол, они вынуждены были примкнуть к идеям революции, участвовали в незаконных забастовках и запрещенных демонстрациях. В ответ правительство арестовывало агитаторов и выпустило против них более «патерналистский» закон. Это смутное время рассматривалось многими социалистами, как период, приводящий революционное движение к столкновению с реакционерами. Роза Люксембург не преминула указать на это в книге «Массовая забастовка, партия и профсоюзы»3: «Когда самодержавное государство воспринимает стачечную деятельность в качестве формы давления, оно начинает повышать экономические и политические ставки».
Русские прогрессисты объединились в 1903 г. в «Союз земцев-конституционалистов», и в 1904 г. в «Союз освобождения» и их требованиями было установление конституционной монархии. В 1905 г. оба эти союза образовали Конституционно-демократическую партию. Социалисты так же сформировали две основные организации – Партию социалистов-революционеров (ПСР), следовавшую традициям русских народников, и Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). Осенью 1904 г. либералы провели так называемую «Банкетную кампанию» в ознаменование сорокалетней годовщины либеральной судебной реформы (Судебных уставов) 1864 г. и воспользовались этой возможностью для выдвижения требований политических реформ и конституции. 13 декабря 1904 г. Московская Дума приняла постановление, требовавшее восстановления избранных законодательных органов, свободу печати и вероисповедания. Схожие постановления и призывы последовали от местных дум и земств некоторых городов. Царь Николай II предпринял некоторые усилия, чтобы выполнить часть из выдвинутых требований; после убийства Вячеслава фон Плеве он назначил либерального депутата Петра Дмитриевича Святополка-Мирского на должность министра внутренних дел. 25 декабря 1904 г. был издал именной высочайший указ Сенату «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» или манифест, который обещал расширить полномочия земств и местных городских советов, страховать промышленных рабочих, расширить права нерусского населения и, наконец, отменить цензуру. Однако в нем не было ни единого упоминания о общенациональном представительном законодательном органе, которого требовали либералы.
Кроме того, не лишним будет напомнить, что еще во времена царствования Ивана Грозного в XVI в. Россия начала движение на Восток. C середины XIX в. Россия стремилась заполучить тихоокеанский порт для военного и торгового флота, и в результате основала город и порт Владивосток в незамерзающей бухте Золотой Рог. Позднее, в 1898 г., пользуясь слабостью Цинской империи, Россия добилась передачи ей в аренду на 25 лет Ляодунского полуострова с портами Порт-Артур и Далянь. Усиление позиций России в Китае и строительство ею Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в Маньчжурии вызвало противодействие Япония, которая согласилась принять российское преимущество в Манчжурии лишь в обмен на признание Кореи ее сферой влияния. Россия отказалась и предложила, чтобы 39-я параллель в Северной Корее стала буферной зоной между ней и Японией. Японское правительство расценило отказ как угрозу своим стратегическим интересам и решило пойти путем войны. После безуспешных переговоров, проведенных в 1904 г., японский флот начал военные действия с внезапной атаки эскадры русского Тихоокеанского флота в Порт-Артуре. Россия понесла тяжелые потери, но царь Николай II, который был уверен в победе, решил принять вызов.
Неудачная для России война с Японией 1904–1905 гг. спровоцировала волны протестов, политические и социальные волнения во всех регионах империи. Весной 1904 г. серия забастовок прокатилась по Одессе, затем в июле в Киеве и в декабре в Баку. Это, в свою очередь, подтолкнуло забастовки в Санкт-Петербурге, в декабре 1904 – январе 1905 гг., ставших предпосылками надвигающейся революции. В довершение к этому война на Дальнем Востоке закончилась подписанием тяжелого для России Портсмутского договора при посредничестве американского президента Теодора Рузвельта. После военного поражения Николай II не спешил браться за разрешение социально-политического кризиса, так как был озабочен личными проблемами:
болезнью сына и поведением императрицы, оказавшейся под влиянием харизматичного «старца» Распутина. Царь упрямо верил в то, что он все еще «царь-батюшка» для своего народа. Он не соглашался с тем, что его народ жаждет глубоких изменений, видя в этом только честолюбивые устремления интеллигенции. Премьер-министр Сергей Витте пытался убедить его в необходимости проведения немедленных реформ для сохранения порядка в стране. Революция надвигалась, росла социальная напряженность и Николай II был вынужден пойти на уступки и в 1905 г. издать Октябрьский манифест, провозгласивший начало реформ. В результате была осуществлена конституционная реформа, создана Государственная Дума и многопартийная система, а утвержденная в 1906 г. версия основных законов Российской империи, по существу, стала первой российской конституций.
Принимая во внимание все эти сложности, историк Сидни Харкейв выявил четыре основные проблемы русского общества того времени, которые привели ко взрыву недовольства в 1905 г. Первой из них было недовольство недавно освобожденных крестьян, нехватка земли и запрет на ее куплю-продажу. Второй был многонациональный характер Империи, в которой хотя и мирились с нерусскими культурами, но не соблюдали права меньшинств. Христианство в целом и прежде всего православие считалось более прогрессивной и «правильной» религией, в отличие от других. Этнические меньшинства подвергались дискриминации, русификации, сегрегации и репрессиям, как социальным, так и формальным, например, у многих из них отсутствовало право голоса, им не разрешалось служить в лейб-гвардии или флоте, быть зачисленным в школу.
Довольно долго целые поколения русских евреев рассматривались правительством только, как источник проблем. В основном это происходило, потому что в них видели, прежде всего, врагов христианства, эксплуататоров крестьян, но также и революционеров. Они составляли только 6% населения и были сконцентрированы в приграничных западных регионах. Как и другие меньшинства, евреи жили в нищете и были ограничены в правах, им было запрещено селиться и приобретать земли за пределами городов. В правовом отношении доступ к среднему и высшему образованию был для них ограничен, юридические профессии практически исключены, и они оставались без права голоса на выборах в городские советы. Также они не имели права служить во флоте и в гвардии.
Другим дискриминируемым меньшинством были поляки. Русская администрация так и не смогла предложить юридическое определение «поляка», хотя на протяжении десятилетий налагала ограничения на эту этническую группу, которую регулярно обвиняли в польском происхождении или даже в том, что они получили русское гражданство только благодаря праву почвы. В конечном итоге такая политика исключения способствовала нарастанию негативного отношения к русскому правительству. Поскольку их статус был более низким, те кто подвергался дискриминации, питали недобрые чувства к «русификации». Среди причин гонений на поляков было польское восстание 1863 г. С точки зрения императора, это меньшинство больше всего угрожало стабильности его империи. Он проводил политику сокращения любого польского культурного влияния. Из осторожности русское правительство в 1870-х гг. стало также опасаться немцев, проживавших на западных границах империи. Они думали, что объединение Германии нарушило равновесие европейских великих держав, и теперь оно будет направлено против России. Рабочий класс в свою очередь считал, что страх толкает правительство на защитные меры, которые заключались в запрете забастовок и профсоюзов. В этой удушливой атмосфере интеллектуальный класс воспользовался некоторым дисциплинарным послаблением в университетах, чтобы распространять там радикальные идеи, а это в свою очередь увеличивало рост сознательности среди студентов.
В качестве другого источника беспокойства следует упомянуть большое количество немецких поселенцев, говоривших на своем языке и хранивших собственные ценности. Их число достигало, как минимум двух миллионов человек. Немцы проживали в прибалтийских регионах, на Украине и в Поволжье. Невозможно точно установить количество немцев, проживавших в России в то время. Не боясь грубо ошибиться, можно оценить его на уровне 170 тыс. против 120 тыс. выходцев из Австро-Венгрии, 10 тыс. французов и 8 тыс. англичан.
В экономическом отношении красноречиво выглядит таблица импорта. В 1913 г. импорт товаров из Германии достигал 643 млн рублей, в то время как товаров из Англии 170 млн, из Франции 56 млн и 35 млн рублей из Австро-Венгрии. Наконец, среди всей этой мешанины политических и экономических явлений обращает на себя внимание один важный факт: понемногу все самые высокие посты при дворе, в армии, управлении и дипломатии были заняты «остзейскими баронами». В течение ста пятидесяти лет феодалы из прибалтийских губерний поставляли царизму самых преданных слуг, самых грозных агентов реакции. Подавив восстание декабристов 1825 г., прибалтийская знать добилась триумфа самодержавия: именно она наказывала за каждое проявление либерального или революционного духа. Она сделала из русского государства огромную полицейскую бюрократическую машину, где смешались восточный деспотизм и прусская дисциплинарная система, она была основной движущей силой режима.
Ни одна из этих проблем по отдельности не смогла бы столь сильно повлиять на ход русской истории, но все вместе они создали условия для потенциальной будущей революции. В начале XIX в. упадок царского режима проявился не только в решимости политических партий свергнуть монархию, но и в возрастающей мощи профсоюзов, требующих улучшения условий работы путем усиления протестов, выступлений крестьянства и студенчества. Иногда социалисты-революционеры доходили до убийств правительственных чиновников.
После революции 1905 г. царь запоздало предпринял попытку реформ, чтобы спасти режим. Эти реформы были провозглашены в Октябрьском манифесте 1905 г. Российская конституция 1906 г., также известная под названием Основные государственные законы, устанавливала многопартийную систему и ограниченную конституционную монархию.
Таким образом, фактически русская конституция 1906 г. была опубликована накануне созыва первой Думы. Она была провозглашена во исполнение обещаний Октябрьского манифеста, к которому добавились новые реформы. Итак, царь провозглашался абсолютным лидером государства, под его полным контролем находились исполнительная власть, внешняя политика, церковь и вооруженные силы. Произошли также изменения в структуре Думы, она превратилась в нижнюю палату под контролем Совета министров, половина депутатов которой избирались, половина назначалась царем. Все законопроекты должны были быть утверждены Думой, Советом и царем, прежде чем стать законом. Однако конституция не упоминала никаких положений Манифеста 17 октября. Несмотря на то, что она утверждала их, её настоящая цель состояла только в пропаганде монархии без намерения выполнять данные обещания. Хотя эти распоряжения и новая монархия не удовлетворили ни русский народ, ни Ленина, однако эта конституция продержалась до момента падения империи в 1917 г. Мало авторов могут нам так рассказать о ситуации в России того времени так, как это сделал британский посол, сэр Бьюкенен, который писал в своих мемуарах: «Когда в конце 1910 года я прибыл в Россию, наиболее заметным событием были политические волнения среди студентов университетов и институтов. Во многих из них учащиеся отказывались ходить на занятия, а к тем, кто хотел продолжать обучение, применялись меры устрашения. Со своей стороны правительство предпринимало решительные меры, чтобы восстановить порядок, но профессора, как правило, читали лекции перед полупустыми аудиториями под защитой полиции. В разговоре, состоявшемся в начале марта, господин Столыпин сказал мне, что правительство не полностью отменило автономию университетов, а оставило ее в неприкосновенности в том, что касалось обычных административных вопросов. Однако оно не могло дать горячим юнцам права проводить политические собрания без разрешения компетентных органов – такой привилегии не было ни у одного класса в России. Не могло правительство и допустить, чтобы дошло до того, как в 1905 году, когда профессора рассказывали на лекциях как изготовить самодельные бомбы. Так как революционная пропаганда в армии и среди крестьян была теперь запрещена, университеты, по словам господина Столыпина, оставались единственным местом, открытым для подстрекательской деятельности комитетов, которые из Парижа и других столиц пытались с помощью студентов организовать новые восстания. Бойкот занятий, имевший целью привлечь внимание общества к состоянию российских образовательных учреждений, свое предназначение выполнил и был вскоре прекращен». (Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М.: Директмедиа, 2017. С. 127–128.)
3
Находясь летом 1906 г. в Финляндии, она написала брошюру «Массовая забастовка, партия и профсоюзы» (1906, в русском переводе – «Всеобщая забастовка и немецкая социал-демократия», 1919)