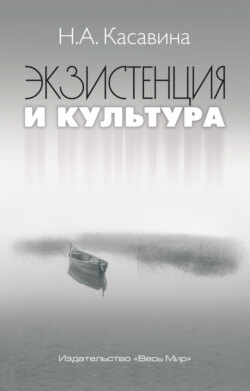Читать книгу Экзистенция и культура - - Страница 11
Раздел 1
Экзистенция и опыт
Глава 3. Рекурсивность экзистенции61
Переживание в экзистенциальном опыте
ОглавлениеПереживание, которое отражает контакт субъекта с миром во всех ситуациях человеческой жизни, по праву можно считать исходным элементом в понимании экзистенциального опыта. Переживание – непременный атрибут интенциональности субъекта, опосредствующее звено во взаимодействии психических состояний и процессов на границе пересечения внутреннего и внешнего мира. А. Лэнгле, представитель современной экзистенциальной психотерапии, убедительно показал, что экзистенцию можно понимать как жизненный опыт, который наполняют эмоции и переживания62.
Постижение своеобразного переживания и основанного на нем понятия экзистенции, «мыслительного выражения определённого решающего переживания» в человеке (О. Больнов), выступает предпосылкой экзистенциального представления о человеке. Причастность к миру прежде всего переживается и только потом осознается. Как известно, Г. Марсель в «Метафизическом дневнике» называет такое глубинное постижение реальности таинством, к которому можно отнести опыт поглощающих чувств, состояний, чрезвычайно значимых событий. Таинство именно переживается. Сфера рефлексивного иная – она связана с проблемой, которая помещается перед человеком как нечто, требующее формирования определенного отношения. Фундаментальное различие между проблемой и тайной состоит в том, что с проблемой человек сталкивается, обнаруживает ее перед собой, но может ее охватить и разрешить; а тайна есть нечто, во что он вовлечен, следовательно, она мыслится как сфера, в которой теряется смысл различия между «во мне» и «передо мной» и его изначальная значимость63. В этом смысле экзистенциальный опыт как переживание и проживание есть таинство, но как понимание – проблема.
Произведения М. Пруста удачно высвечивают экзистенциальный опыт и в проекции переживания, и в проекции рефлексии. Переживания, отраженные в самонаблюдении, образуют в его текстах как будто параллельную реальность, часто не связанную с рациональной стороной жизни человека, с конкретной деятельностью и коммуникацией: воспоминания, сны, которые навевают чувства, внезапно приходящая грусть или радость… Все это образует действительно непостижимый мир самопознания, самопонимания. Мамардашвили называет это «живым опытом», предлагая отнестись к тексту Пруста как фиксации самой жизни. «… Мы имеем дело с тем, что в философии называется экзистенциальным опытом. Это живой экзистенциальный опыт, и все понятия, которые применял Пруст, имеют смысл лишь в той мере, в которой мы можем дать этим понятиям какое-то живое экзистенциальное содержание, содержание какого-то живого переживания. И весь роман усеян символами переживания, и поэтому он интересен… он весь и ритмом и текстурой похож на какой-то отчаянный смертный путь человека, и в излагаемые события и переживания в романе включаются только те, которые имеют на себе отблеск того света, который излучается обликом смерти»64.
Экзистенциальное переживание или осознание во многом означает возможность, подобно Прусту, видеть событие жизни как привилегированное, уникальное, неповторимое. Известна интересная полемика между Камю и Сартром, она связана с Прустом, который по-своему представил и реализовал попытку выстраивания мира осмысленности, где главным ее субъектом становится сам человек. Во многом под влиянием мира, созданного Прустом, Камю написал: «Парадокс, но всё на свете находится в привилегированном положении»65.
Камю отмечает различие между Прустом и Сартром, говоря о том, что мир для Пруста – не то, что может вызывать тошноту. Мир изначально повернут к человеку в его опыте как область, полная загадок, ярких впечатлений и эмоций. Для Пруста проблема расколотости и абсурдности бытия не носит острого характера. В «Мифе о Сизифе» Камю пишет: «…Гуссерль и феноменологи восстановили мир в его многообразии… Мыслить – значит научиться заново видеть, стать внимательным; это значит управлять собственным сознанием, придавать, на манер Пруста, привилегированное положение каждой идее и каждому образу»66.
В этой идее привилегированности – очень важное отличие прустовского подхода: пытаться распознать связи, своим творящим индивидуальным сознанием включиться в мир, останавливать, фиксировать текучие моменты реальности. Мир Пруста полон знаков, событий не как чего-то чуждого, а того, что касается или может касаться меня самого. Бытие как будто всегда уже созерцается, но с помощью рефлексии по поводу специфического акта сознания может быть раскручено, распутано до события, обладающего свойством привилегированности. Любой акт сознания и связанное с ним событие оказывается экзистенциально важным, занимает особое положение в мире человека, может быть ключом к истории о самом себе (как пирожное печенье Мадлен).
Герой Пруста распутывает непрерывный процесс переживания жизни как таинства, которое хранит в себе ее уникальные подробности и оттенки. И каждое событие, встреча, чувство имеет неповторимую ценность и значение, открывая доступ к потаенной сфере субъективности. Сама форма романа, текста отвечает этим особенностям: он построен по принципу «расходящихся тропок». Там нет единой временной или смысловой линии. Это связано в том числе и с тем, что текст, как и путь героя, образован ситуациями и смыслами, которые в этой ситуации раскрываются, становятся доступными.
Экзистенциальный опыт здесь – прежде всего набор переживаний, стихийное видение, восприятие жизни, которую личность пытается сама себе пояснить, означить. Субъективность человека, меняющая свои эмоциональные конфигурации, – это особый, в полной мере непостижимый внутренний путь. И тексты Пруста – это путешествие, путешествие в себя, путешествие в мире через себя, путешествие в свое прошлое, его воссоздание и понимание. Экзистенциальный опыт предстает как путешествие в свой собственный внутренний мир; и даже если переживания вызваны внешним для субъекта событием, оно редуцируется до повода к этому переживанию и чувствованию.
Однако этим контекстом понимания нельзя ограничивать экзистенциальный опыт, так как в этом случае он может оказаться лишь поверхностной канвой переживаний, не связанных с глубинной духовной жизнью личности. Ведь если сознание распадается на отдельные, слабо связанные между собой переживания, то оно лишается личностного начала, подлинно конкретного человеческого смысла. Как его собрать или как оно собрано?
62
Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Х., 2011.
63
Марсель Г. Метафизический дневник // Марсель Г. Быть и иметь. Новочеркасск, 1994. С. 85–87.
64
Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути (М. Пруст. «В поисках утраченного времени») // Из истории мировой гуманистической мысли. М., 1995. С. 267–268.
65
Камю А. Миф о Сизифе. Калигула. Недоразумение. М., 2010. С. 35.
66
Камю А. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 1990. С. 37.