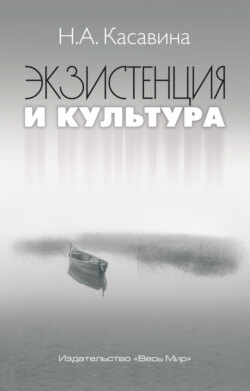Читать книгу Экзистенция и культура - - Страница 21
Раздел 2
«Распределённая» экзистенция
Глава 7. Граничные ситуации: экзистенциальная статика и динамика
ОглавлениеПродолжая тему граничных (пограничных) ситуаций, важно отметить, что «отрицательный» модус опыта выступает неизбежной частью существования, которая ставит человека на границу между бытием и небытием. По К. Ясперсу, во всякой пограничной ситуации человек словно лишается почвы под ногами. Он не может схватить бытие как существование в устойчивости наличного. Существование слабеет и тонет перед вопрошанием и сомнением. «Способ, каким существование является перед нами в пограничных ситуациях как непрочное в себе, есть его антиномическая структура»132.
Ситуация представляет условия, рамки существования и конкретной деятельности. Среди ситуаций есть такие, которые не могут быть пережиты без страданий и борьбы. Другие ситуации устроены таким образом, что человек непременно берет на себя вину (ответственность), совершая поступок, выбирая способ жизни и поведения. Пограничные ситуации нельзя изменить, но субъект может уникальным образом пережить их, принять решение, формируя таким образом собственную жизнь в рамках этих ситуаций. Пограничные ситуации борьбы и страдания, ощущения собственной вины и конечности непреодолимы. «Они – как стена, на которую мы наталкиваемся, у которой терпим крах. Мы не можем изменить их, но можем только привести их к ясности (курсив мой. – Н.К.), хотя и не умеем объяснить и логически вывести их из чего-то другого. Они даны вместе с самим существованием»133. В связи с этим экзистенциальный опыт выступает как приведение к ясности трагического элемента человеческого бытия, его понимание и преодоление, длящееся на протяжении всего жизненного пути личности. Человек склонен к сомнению в осмысленности собственного существования, которую вынужден всегда себе доказывать.
Первая пограничная ситуация заключается в том, что «я как существование всегда есмь в определенной ситуации». Это привязанность к неповторимому положению «в тесноте моих данностей», которое в то же время оставляет возможность неопределенного будущего134. В этой пограничной ситуации проявляется беспокойство и свобода человека принимать на себя данное, делая его своим собственным достоянием.
Другие пограничные ситуации (смерть, страдание, борьба, вина) затрагивают каждого как всеобщие в рамках его историчности, обусловленной первой пограничной ситуацией. «Существование вообще понимается как граница, и это бытие переживается опытом в пограничной ситуации, которая раскрывает для меня сомнительность бытия мира и моего бытия в нем»135. В пограничных ситуациях человек ясно ощущает невозможность их разрешения, ограниченность, пределы существования и в этой связи недостаточность собственного бытия. Наиболее яркой из подобных ситуаций является смерть.
«Приведение к ясности» собственного бытия, его трагедии является сложным личностным поиском зыбкой устойчивости и гармоничности. Становление экзистенциального опыта включает принятие человеком, с одной стороны, ограниченности существования, с другой, сложности собственного жизненного пути. Экзистенция в процессе самостановления является борьбой человека с самим собой, в ходе которой он открывает «то, что подлинно есть». Амбивалентный характер экзистенции К. Ясперс показывает, в частности, на примере борьбы в любви – сферы, которая, казалось бы, в меньшей степени касается этой пограничной ситуации. Экзистенциальная коммуникация выступает процессом ведения борьбы ради подлинного бытия. То, что в этой коммуникации человек вынужден бороться, может потрясти его еще больше, чем смерть и страдание. «Хотелось бы, укрывшись от тревог в спокойной любви, быть избавленным от процесса вопрошания, иметь право безоговорочно принимать как данность и утверждать и другого, и самого себя». Но, как конкретизирует Ясперс, экзистенциальная любовь во времени не есть спокойное свечение двух душ друг в друга. Только мгновение может иметь такой характер. Если же оно могло бы быть растянуто во времени, то опустошило бы человека, представ как избыток чувств… «Я должен бороться с самим собой и с любимой мною экзистенцией другого, пусть и без насилия, но в этой борьбе меня подвергают сомнению и я подвергаю сомнению другого»136.
В размышлении о том, что остается человеку в этой сомнительности существования, К. Ясперс обращается к спасительности обретаемого в проживаемых ситуациях смысла. Человеку нужно осмысленно реагировать на пограничные ситуации особой активностью – «становлением возможной в нас экзистенции», становиться самим собой, с открытыми глазами вступать в пограничные ситуации137. У О. Больнова есть на этот счет яркое выражение, касающееся того, что экзистенция должна быть принята на себя в моменты кризиса, когда жизнь проживается с особой интенсивностью. Только переживая кризис, индивид проходит путь к подлинному «Я»138. В этом смысле в кризисных ситуациях человеку предоставляется возможность открытия глубин своего существования как личности.
Важный вклад в анализ проблемы становления экзистенциального опыта как «мужества быть» внес П. Тиллих139. Ограниченность существования он представляет через классификацию разных видов тревоги по отношению к сферам самоутверждения человека в мире. Трем уровням самоутверждения противостоит абсолютная и относительная угроза.
Онтическому самоутверждению, затрагивающему практический ход жизни человека, ее построение, небытие угрожает двумя способами: относительно – в лице судьбы, абсолютно – в виде смерти, которая прерывает эмпирическое существование. Духовному самоутверждению небытие угрожает относительно – в виде пустоты, скуки, вакуума, а абсолютно – в форме отсутствия смысла. Наконец, третье – нравственное самоутверждение. Относительной его угрозой является вина, абсолютной – осуждение140.
Соответственно, различаются три формы тревоги: тревога судьбы и смерти, тревога пустоты и смыслоутраты, тревога вины и осуждения. Все это неустранимые формы экзистенциальной тревоги, присущие существованию человека. Под угрозой оказывается экзистенция: страх перед смертью вынуждает человека изменять самому себе; страх ошибиться, оказаться неправым – отказаться от утверждения каких-либо смыслов и ценностей; страх оказаться виновным – уклоняться от принятия решений. Тревога, согласно П. Тиллиху, есть осознание человеком этой тройной угрозы бытию, противопоставить которой он может только «мужество быть», противостоять страху и ограничивающим обстоятельствам.
Применительно к видам тревоги или пограничным ситуациям можно использовать понятие экзистенциальной статики (по аналогии с социальной статикой), подчеркивая их устойчивый характер и значение в становлении человечности как таковой. Экзистенциальный опыт – путь к прояснению пограничных ситуаций, выработка отношения к ним, обретения возможности существования в их пределах. Эти данные вместе с существованием ситуации и переживания определяют исходную структуру человеческого существования, которая наполняется индивидуальным содержанием в динамике человеческой жизни, связанным с личностным преодолением их ограничивающего воздействия.
Экзистенциальная динамика связана с преодолением кризиса и является важным импульсом трансформации, актуализации личности, открытия новых жизненных возможностей. Жизнь, существование и кризис составляют друг с другом одно целое. Кризис есть толчок к изменению опыта, решение, когда индивид должен выбрать между различными возможностями.
Позитивная сторона кризиса предоставляет возможность открытия, становления экзистенциального опыта. Б. Якобсен сравнивает переживание кризиса с ситуацией, когда в земле по тем или иным причинам открывается трещина, которая позволяет индивиду глубже заглянуть в открывающуюся глубину. Таким образом, кризис становится экзистенциальным и может стать поворотной точкой в жизни человека, новой жизненной возможностью141.
Существовать – значит погрузиться в реальную ситуацию. Ответом на сложности жизни является принятие собственной данности и действия. Посредством кризисных ситуаций у индивида появляется возможность более зрело и открыто взглянуть на то, чем жизнь является на самом деле.
Как отмечает Дж. Бьюдженталь, когда личность сталкивается с несостоятельностью своей системы конструктов «Я-и-мир» и с ее следствием – экзистенциальным кризисом, она испытывает отчаяние от невозможности найти способ продолжать быть так, как раньше. «Это истощение репертуара реакций при столкновении с невыносимой ситуацией может заставить человека искать новые пути»142. Иногда они бывают конструктивными и творческими; они также могут быть деструктивными и связанными с насилием.
Кризис «представляет собой в высшей степени прагматический момент, когда человек может осознать абсолютную автономию субъективного, возможность выбора, которая всегда присутствует в нашей жизни, если мы сознаем происходящее и смотрим вперед»143. Отчаяние может высвободить новые перцептивные возможности и творческие силы субъекта. Опыт переживания кризиса сопряжен с преодолением опасности и, на более глубоком уровне, с очищением от старых конфликтных вопросов и достижением нового и более высокого уровня личностного развития.
Ценность кризиса состоит в том, что он должен привести к выбору позиции по отношению к реальности. Тогда человек становится свободным, ответственным индивидом. Ценности отношения в работах В. Франклом связаны с нахождением людьми смысла своего существования в ситуациях, представляющихся безвыходными или бессмысленными. К этим ценностям человеку приходится прибегать во власти обстоятельств, которые он не в состоянии изменить. Но при любых обстоятельствах человек свободен занять осмысленную позицию по отношению к ним и придать своему страданию глубокий жизненный смысл.
Экзистенциальный выбор – жизненно важное, судьбоносное решение, через которое человек проясняет для себя смысложизненные ценности; находит способ примирения с вызовами, данностями бытия; достигает духовной пробужденности, приближается к преодолению тревоги. Экзистенциальный выбор касается ситуаций судьбоносного порядка, актуализирует смысложизненные личностные интенции на более или менее длительный период, определяя жизненный путь человека.
Из сделанных на протяжении жизни экзистенциальных выборов составляется судьба личности, через выбор как утверждение смыслов человек конституирует себя, утверждает ценность, формирует тип поведения в ее направлении и для ее реализации. Ситуация экзистенциального выбора является ситуацией проблематизации собственного Я. Экзистенциальный выбор в связи с этим выступает механизмом становления Я, экзистенциальной идентичности, формирование которой протекает в рамках конкретной повседневности и конкретного социального бытия.
Экзистенциальный выбор является динамическим аспектом структуры данностей, связанным с личностным преодолением ее ограничивающего воздействия. Посредством экзистенциального выбора личность вырабатывает отношение к пограничным ситуациям, обретая возможности существования в их пределах. Принимая во внимание то, что экзистенциальный выбор – это далеко не только рациональный акт, в его осуществлении и примирении с его последствиями хотелось бы подчеркнуть роль рефлексивного сознания. Благодаря рефлексивному сознанию человек оказывается способным относиться к своей жизни, к происходящим с ним событиям и собственным переживаниям, что позволяет ему достигать ощущения внутренней свободы, устанавливать дистанцию по отношению к чувствам, включаться в процесс их смысловой обработки.
Человеку предстоит пережить в экзистенциальном выборе не столько сам процесс выбора, а в большей степени – его последствия, и в том числе потери. Личность в экзистенциальных ситуациях сталкивается с противоречивостью ценностей и взаимоисключающими альтернативами. Драма экзистенциального выбора включает отречения, отказ от возможностей, неизбежные сомнения в принятом решении. Именно с переживанием потерянных возможностей может быть связан «кризис среднего возраста», когда человек сопоставляет ожидаемую когда-то и реальную траектории жизни, понимает, что призвание уже во многом избрано, а жизнь в целом сложилась (разворачивание этой проблемы представлено в разделе 3 о человеке как «долгом существе).
Вместе с тем экзистенциальный выбор всегда содержит в себе еще непроявленные созидание и возможность, объединяя личностные усилия по обретению свободы и внутренней силы утверждения собственного бытия.
Пограничная ситуация вины предусматривает принятие человеком ответственности за каждое действие, имеющее в мире последствия, о которых субъект действия мог и не знать. Человек – виновник последствий своих поступков, предугадать до конца которые невозможно. «Я совершенно не знаю, что такое моя чистая душа, о которой как своей возможной экзистенции я так забочусь, но каждый раз я отброшен к своей конкретной совести, ведущей меня и в каком-либо смысле сознающей себя виноватой, даже в моих глубочайших чувствах»144.
Действует человек или не действует, все имеет последствия. Принимая же ответственность и совершая те или иные поступки, разрешая экзистенциальную ситуацию, человек не может быть уверен в их «правильности», поскольку экзистенциальные проблемы не имеют окончательного или однозначного решения, уготовленных путей, четких эталонов. Уникальность смысла выступает одновременно и даром, и бременем, заставляя личность постоянно пребывать в поиске, в сомнении, неуверенности. Согласно Л.С. Выготскому, «кризисы – это не временное состояние, а путь внутренней жизни»145. Собственная сущность человека, смысл его судьбы в какой-то мере всегда остается вне зоны его понимания. В этом трагизм, сложность, неустойчивость и вместе с тем основание для поиска, новых открытий, творческого свободного акта действия. И в этом актуалистический смысл экзистенции: она никогда не есть, но всегда только становится в процессе постановки и разрешения личностью предельных смысложизненных вопросов, формирования на этой основе миро- и самоотношения, системы ценностей и типа активности в отношении к определенным ситуациям.
Просветление, пробуждение экзистенции позволяет, таким образом, в любой пограничной ситуации обнаружить ее положительный смысл, экзистенциально осознать и принять ее. Экзистенциальный опыт – противостояние незащищенности человека в мире, опыт самостановления, который связан с вызовами и кризисами личного существования. Это становление «мужества быть», под которым П. Тиллих понимает в первую очередь способность осознавать тревогу, принимать ее и существовать с ней, не вытесняя ее и не давая ей превратиться в патологическое и разрушающее переживание. Экзистенциальная философия направлена на возвышение индивидуальности личности, индивидуальной судьбы, на выражение подлинной глубины индивидуального бытия, заданной ему свободы, которая связывается с ответственностью личности за свои решения и жизненный путь в целом. Это, с одной стороны, усиливает трагический характер видения существования человека в целом, но с другой, наполняет верой в силу его личности. В страдании есть особый смысл ее пробуждения.
Трагичность экзистенциальных переживаний и экзистенциального опыта состоит в том, что в большинстве случаев это опыт личной катастрофы, раздвоения, когда меняется система ценностей, рушится привычная система убеждений и критерии оценок. Экзистенциальный опыт возникает и трансформируется на динамических границах жизненных этапов, кризисов, вызывающих феномен «разделенного Я». В ситуациях предельного опыта происходит разрыв в привычной повседневности, обычные заботы обнаруживают свою несущественность. Переживая этот разрыв, человек подходит к необходимости осознания и понимания своего места в мире через иную систему идентификации, способен обнаружить новые смыслы.
Пробуждающая роль «отрицательных» экзистенциальных переживаний состоит в том, что они могут создавать почву для духовного развития личности. Жизненный путь героя романа С. Моэма «Бремя страстей человеческих» Филипа Кэри показывает читателю пример становления характера личности, переживающей поворотные события и условия жизни: собственные физические недостатки, осмеяние со стороны сверстников, неразделенную любовь, бедность. Все это порождает мучительную рефлексию человека, который пытается выстроить свою жизнь, сложить ее в единый «узор ковра», несмотря на многочисленные перипетии. И в преодолении этих перипетий формируется и проявляется экзистенциальный опыт сильной личности, умеющей находить их смысл или признавать бессмысленность. Главный герой, в частности, понимает, что «он принимал свое уродство, которое так калечило его жизнь; он знал, что оно ожесточило его душу, но именно благодаря ему он приобрел благотворную способность к самопознанию. Без нее он не мог бы так остро ощущать красоту, страстно любить искусство и литературу, взволнованно следить за сложной драмой жизни. Издевки и презрение, которым он подвергался, заставили его углубиться в себя и вырастили цветы – теперь уже они никогда не утратят своего аромата»146.
Человек на протяжении всей своей жизни переживает экзистенциальные данности своего бытия и выстраивает свое отношение к ним, в чем-то их преодолевая. Здесь свою роль играет как опыт повседневной жизни, традиций, которые дают семья и сообщество, так и опыт личных кризисов, неумолимого поиска и неудовлетворенности, необходимости оправдать свое существование из какого-то особого источника (вера, творчество, ценность). Экзистенциальное становление предусматривает принятие боли, страдания, близости смерти. Если человек учится включать страдание в духовный контекст, это меняет как переживание само по себе, так и значение страдания147
132
Ясперс К. Философия. Кн. II: Просветление экзистенции. М., 2012. С. 253.
133
Там же. С. 205.
134
Там же. С. 205. С. 211.
135
Там же. С. 212.
136
Ясперс К. Философия. Кн. II: Просветление экзистенции. М., 2012. С. 248.
137
Там же. С. 206.
138
Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. СПб, 1999. С. 115.
139
Интересно, что работа П. Тиллиха «Мужество быть» была написана им как ответ Р. Мэю, его младшему товарищу и соратнику, который писал диссертацию о феномене тревоги (впоследствии у Р. Мэя вышла книга под названием «Смысл тревоги»).
140
Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М., 1995. Т. 1. С. 33–44.
141
Якобсен Б. Жизненный кризис в экзистенциальной перспективе: могут ли травма и кризис рассматриваться как помощь в личном развитии // Экзистенциальное измерение в консультировании и психотерапии / Сост. Ю. Абакумова-Кочюнене. Бирштонас; Вильнюс, 2005.
142
Бьюдженталь Д. Предательство человечности: миссия психотерапии по восстановлению нашей утраченной идентичности // Эволюция психотерапии: в 3 т. Т. 3. М., 1998. С. 180–207.
143
Там же.
144
Ясперс К. Философия. Кн. II: Просветление экзистенции. М., 2012. С. 250.
145
Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л.С. Соч.: в 6 т. Т. 1: Вопросы теории и истории психологии. М., 1982. С. 291.
146
Моэм У.С. Бремя страстей человеческих // Моэм У.С. Собр. соч. Т. 1. М., 1991. С. 653.
147
См.: Йоманс Э. Самопомощь в мрачные периоды // Психосинтез и другие интегративные техники психотерапии / Под ред. А.А. Бадхена, В.Е. Кагана. М., 1997. С. 119.