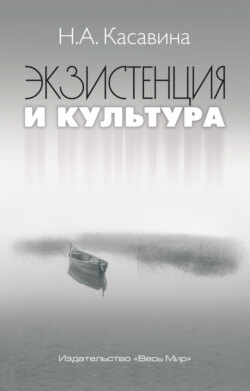Читать книгу Экзистенция и культура - - Страница 7
Раздел 1
Экзистенция и опыт
Глава 2. Экзистенциальный опыт как феномен культуры13
О факторах становления экзистенциального опыта
ОглавлениеОт представлений о степени спонтанности экзистенциального опыта зависит вопрос о возможности изучения факторов его становления. Понимание экзистенции как исключительно «живой» и неуловимой бытийной возможности противоречит понятию опыта как феномена ставшего, сформированного. В этом сложность категории экзистенциального опыта.
Т.А. Кузьмина пишет: «Экзистенциальная истина всегда ситуационна, действенна “здесь и сейчас”. Поэтому истина, получаемая в экзистенциальном опыте, не аккумулируется и не накапливается наподобие житейского опыта, как не накапливается и мудрость, которая есть не сумма знаний, а живая, всегда актуальная способность и готовность мыслить и реагировать соответственно конкретной ситуации»38. Впрочем, даже житейский опыт, о котором идет речь, не накапливается только как сумма знаний. Мудрости же не всегда следует отказывать в возможности ее аккумуляции. В связи с этим вспоминаются слова Леонардо да Винчи: «Мудрость есть дочь опыта». В данном контексте, для прояснения вопроса об аккумуляции экзистенциального опыта, важно обращение к ценности мгновения, его роли в экзистенциальном опыте в отношении между подлинностью и неподлинностью существования. О. Больнов обращается к рассмотрению значения мгновения в процессе выявления черт экзистенциального переживания.
Если экзистенциальный опыт представлен как процесс, в котором человек дистанцируется от всех содержательных определений, то неподлинность выступает в качестве состояния, в котором человек теряется в этих определениях. Неподлинность может сохраняться как длительное состояние, подлинность же, напротив, есть не состояние, а лишь процесс, который не имеет продолжительности. Подлинность должна в каждое мгновение достигаться вновь, и с каждым мгновением она вновь ниспадает39.
Решимость, по М. Хайдеггеру, есть форма подлинной временности, где мгновение обретает окончательную и безусловную ценность. В решимости достигается такое состояние человеческой жизни, в котором внутренняя ценность отдельного мгновения делается независимой от его временного протяжения. Решимость, следовательно, означает такую интеграцию подлинного человеческого бытия, где деятельность получает свой смысл не из какой-либо требующей достижения цели, но несет этот смысл в самой себе. Речь идет о предельной напряженности человеческого бытия, в котором оно вырывается из состояния прежней неподлинности и соединяет все свои силы в «собирании себя»40. Более подробно об этом речь пойдет в следующей главе.
Как показывает О. Больнов, свое собственное бытие, рискующее разрушиться в огромном количестве ситуаций и возможностей, человек собирает в определенном результате, обретающем свой смысл исходя не из возможности успеха, но исключительно из безусловности самой вовлеченности, самого существования.
И здесь существенным оказывается отчетливость мгновения, которое выделяется из непрерывности текущего времени. Представление о непрерывном течении времени становится несущественным. Исчезает сознание включенности отдельного мгновения в превосходящий его временной поток. Остается экзистенциальное мгновение как таковое. Если в связи с этим обратиться к произведениям Пруста, становится очевидным, что его повествование (распутывание экзистенциального опыта) следует за экзистенциальным переживанием, опирается на него.
В экзистенциальном переживании, продолжает О. Больнов, заключена вся структура внутренней временности, но при этом отсутствует связь между уходящим и наступающим мгновениями. Отсутствует продвижение от мгновения к мгновению. Экзистенция должна постоянно достигаться вновь в каждом отдельном случае. В течение жизни высшим остается череда отдельных мгновений, которые освещают личное бытие человека41.
Таким образом, в понимании экзистенциального опыта недостаточно исходить из единства и связи будущего, настоящего и прошедшего. Значимое мгновение стремительно исчезает, но то, что в нем обнаруживается, лежит по ту сторону времени. Это показано С. Кьеркегором, который говорит о «полноте времени», чтобы обозначить нечто достигнутое в подобном мгновении, некий результат, не зависящий от временной длительности. В самом мгновении проявляется такое содержание или опора, которая может иметь неоспоримое значение в будущем. Следовательно, можно говорить о «накоплении», но в отношении не уходящего мгновения, а стоящего за ним содержания.
При сомнении в возможности «накопления» экзистенциального опыта, возникает следующий вопрос. Если экзистенциальный опыт не накапливается, значит ли это, что человек его не помнит, или он не оказывает на него влияния? Тогда трудно усмотреть его значение в становлении личности, а это было бы неверным в отношении к феномену опыта. Если это значение только мимолетно, тогда называть это опытом излишне, достаточно понятия переживания. Но, как показал О. Больнов, и экзистенциальное мгновение может оказывать длительное воздействие на личность.
Можно предположить, что экзистенция как личностное состояние здесь-и-сейчас не накапливается и не может накапливаться, но бесследно не протекает. Накапливается экзистенциальный опыт, поскольку это не только данный неухватываемый момент существования, но и личностная работа по собиранию таких моментов. К. Ясперс писал о «безнапряженном потоплении экзистенции»42, подчеркивая, с одной стороны, недостаточность ее понимания исключительно в субъективистском смысле, а с другой – важность такого личностного напряжения (решимости или вовлеченности), которое способствует развитию человека в данных ему объективных обстоятельствах. Под влиянием экзистенциального опыта человек может переосмыслить свою жизнь, ее отдельные события, а значит, он аккумулируется, становится ресурсом развития личности, встраивается в причинно-следственные связи.
Экзистенциальные ситуации оказывают влияние на личность и ее становление, ведь она формирует отношения, делает значимые обобщения и выводы, принимает решения, что и выступает, в сущности, результатом накопления опыта. В случае с экзистенциальным опытом это временное разрешение ситуаций, связанных с фундаментальными экзистенциальными проблемами.
Жизнь требует от человека ее постоянных интерпретаций. Смысловое наполнение фундаментальных экзистенциальных проблем, как и их постановка, не являются для человека загадкой, они заложены в культуре. Но вариант соприкосновения с ними, как и событийное содержание, конечно, остается уникальным.
Каким же может предстать экзистенциальный опыт, состоящий из уникальных переживаний, не объективируемых, не опосредованных социальными и культурными установками? Возникает образ калейдоскопа, хаотично складывающего узоры сознания, медитации, транса, редукции сознания до чистого бытия… Безусловно, переживания, которые человек испытывает, словно позабыв о себе (переживание жизни в ее многообразии и текучести), важны для внутренней гармонизации. Однако важнейшая часть нашего экзистенциального опыта – проблемно-целенаправленный поиск смысла существования. Сводить экзистенциальный опыт к состояниям отрешенного сознания означает признать, что человек находится в ситуации беспрерывного созерцания. Это неоправданно ограничивает исследуемый феномен. Кроме того, так понятый экзистенциальный опыт лишь воспроизводит известный дуализм чувства и разума, индивида и культуры, который как раз и препятствует возможной целостности и полноте бытия. Как писал Х. Ортега-и-Гассет, «присущие человеческой жизни культура и спонтанность только в Европе были разведены до антагонистических полюсов»43. В свете его идей о культурной жизни и жизненной культуре представляется важным дополнить экзистенциально-феноменологическую трактовку экзистенциального опыта более широким его пониманием с позиций социокультурного подхода, что позволит зафиксировать его становление в поле культурных универсалий и социальных особенностей конкретной эпохи, народа, цивилизации.
Н.И. Лапин в интерпретации этого подхода опирался на взгляды П. Сорокина о неразрывности триады личности, общества и культуры44. Неразделимость аспектов или компонент триады, согласно Н.И. Лапину, означает, что личность, общество и культура взаимопроникают друг в друга, при этом, не выводятся одна из другой и не сводятся друг к другу, они паритетны и каждый феномен личностного, социального или культурного бытия должен исследоваться только в их взаимосвязи45.
В психологии сущность социокультурного подхода также определяется стремлением исследователей рассматривать мир человека как такое единство культуры и социальности, которое возникает и преобразуется в результате человеческой деятельности46. В утверждении В. Франкла, касающемся тезиса, что смысл может быть найден, но не может быть создан, основным является обращение к культуре как источнику смысла, которым человек исполняется в пространстве человеческой коммуникации.
Живой опыт локален, ограничен наличными условиями; опыт, зафиксированный в культурной памяти, потенциально универсален, но способен обрести локальные черты, выступая в качестве строительного камня живого опыта. Запечатление опыта в памяти поколений расширяет, универсализирует его; использование исторического опыта в конкретной ситуации сужает его содержание47. Художественные обобщения как пример культурных образцов предоставляют в распоряжение субъекта квазиаприорные структуры, экзистенциалы, категориальные рамки переживаний. В культурные ситуации встроен процесс интерпретации. Не только через коммуникативную традицию, но и через произведение культуры человек учится воспринимать, осмысливать и строить на другом уровне собственную повседневность. Если романист, пишет Пруст, приводит читателя к такому состоянию, когда «всякое чувство приобретает удесятеренную силу», то в течение часа последний имеет возможность испытать такие радости и горести, для познания которых человеку в действительной жизни понадобились бы долгие годы, «причем самые яркие навсегда остались бы недоступными для нас, ибо медленность, с которой они протекают, препятствуют нам воспринять их»48.
Экзистирующий индивид живет на границе быта и культуры, которая учит его рефлексии, сама выступая в свою очередь продуктом культурного развития. Человек всегда на пути от локального к универсальному и обратно. Эмпирически наблюдаемые и переживаемые ситуации, с которыми человек имеет дело в конкретной повседневности, вписываются в некоторую картину мира, и в связи с этим категория экзистенциального опыта отсылает к целому набору универсалий культуры, исторических априори (Э. Гуссерль), ценностей. Человек чувствует, переживает, не просто психически реагируя на внешние раздражители, не просто погружаясь в стихию памяти или сна, но делает это в соответствии с культурными образцами, ценностными архетипами. Тот же Пруст, рассуждая о значении чтения как открытия истины, писал: «…чувства, пробуждаемые в нас радостями и горестями какого-нибудь реального лица, возникают в нас не иначе как через посредство образов этих радостей и этих горестей…». Допустим, некое существо постигает несчастье, «мы можем почувствовать волнение по этому поводу лишь в связи с маленькой частью сложного понятия, которое мы имеем о нем; больше того: само это существо может быть взволновано лишь в небольшой части сложного понятия, которое оно о себе имеет»49.
Феномен культуры может рассматриваться в качестве источника экзистенциального опыта. Культура в ее мировоззренческих измерениях и различных предметных сферах во многом определяет механизмы формирования базовых экзистенциальных смыслов. В этом процессе проявляется и роль традиционной культуры, которая содержит доминанты мировоззренческих смыслов, включена в творческий процесс конституирования личного бытия50. В основе механизмов трансляции экзистенциального опыта лежит культурное обобщение, отбор наиболее значимого для личности и сообщества пережитого ценностно-смыслового содержания, его аккумуляция и сохранение в групповой памяти.
Существованию свойственна невыразимость. В понимании экзистенциального опыта следует фиксировать потаенность экзистенции, то многообразие, которое до конца не схватывается понятиями, концептуализациями, языковыми формами. Но осуществление этого «схватывания» есть обозначение экзистенциального становления личности в поле культуры.
38
Кузьмина Т.А. Экзистенциальный опыт и философия // Вопросы философии. 2007. № 12. С. 24–26.
39
Больнов О. Философия экзистенциализма. СПб, 1999. С. 73.
40
Там же. С. 144.
41
Там же. С. 146.
42
Ясперс К. Философия. Кн. II. М., 2012. С. 355.
43
Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. С. 25.
44
Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. С. 218.
45
Лапин Н.И. Антропосоциокультурный эволюционизм – метатеоретический принцип изучения сообществ людей // Социологические исследования. 2018. №3. С. 6.
46
Знаков В.В. Психология понимания мира и человека. М., 2016. С. 30.
47
Касавин И.Т. Опыт как знание о многообразии // Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб, 1998. С. 56–87.
48
Пруст М. В сторону Свана. М., 2012. С. 101.
49
Там же. С. 100.
50
См.: Даренская В.Н. Традиционная культура как источник экзистенциального опыта // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 1. С. 36–43.