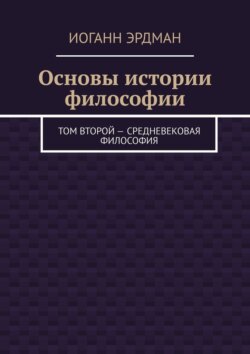Читать книгу Основы истории философии. Том второй – Средневековая философия - - Страница 11
Первый период
III. Отцы Церкви
Августин
ОглавлениеC. Bindemann, Der heilige Augastinus, 1 том. Берлин 1844, 2 том. Лейпциг 1855, 3 том. там же. 1869 г. E. Feuerlein, Die Stellung Augustine in der Kirchen- u. Kulturgeschichte, in Sybels Histor. Zeitschrift 1860, vol. 22. J. Störs, Die Philosophie des heiligen Augustinus, Freiburg 1882. H. Reuier, Auguatinische Studien, Gotha 1887. Rud. Harnack, в его Lehrbuch der Dogmengesch. vol. III, 1889. Rud. Eucken, в работе, упомянутой в $ 18, прим. 19.
1 Аврелий Августин родился 13 ноября 353 года в Тагасте в Нумидии и получил благочестивое воспитание от своей матери Моники.
Тем не менее, дурные наклонности проявились в нем рано. Оправившись от нравственных пороков, в которые он впал в Карфагене, благодаря серьезному изучению, особенно Цицерона, он поддался религиозным сомнениям, которые бросили его в объятия манихейской секты (см. §124). Он принадлежал к ней, так как был учителем риторики в Фагасте, профессию же свою продолжил в Карфагене. Его увлечение астрологией сначала отдалило его от физики манихеев, и он еще больше отдалился от секты, когда ее прославленный.
Когда прославленный епископ Фаустус не смог разрешить его сомнения, он еще больше отдалился от секты. В 383 году он отправился в Рим, где постепенно полностью подпал под скептицизм новой академии. В следующем году он был назначен учителем риторики в Милане, и именно здесь проповеди Амвросия, особенно его объяснения Ветхого Завета, отвергнутые манихеями, завершили разрыв Августина с ними. Он вновь присоединился к числу катехуменов, из которых перешел в еретики. Изучение латинских переводов платонических и неоплатонических сочинений стало для него средством убедить себя в том, что в теоретическом отношении учение Писания наиболее удовлетворительно. Он испытал блаженство от его практической силы, когда оно повелело ему облечься во Христа. Оставив свой учительский сан, он некоторое время жил частично в Милане, а частично в окрестностях. За это время он написал «Против академиков», «О жизни», «О порядке», «Солилоквию», «О бессмертии животных». Были начаты и другие работы. Затем он год пробыл в Риме, где написал de moribus ecclesiae, de moribus Mnichaeorum, de quantitate animae, первую книгу de libro arbitrio (II и III только в Гиппо). Наконец, в 388 году он вернулся в Африку и вел своего рода монашескую жизнь в Тагасте в унаследованной им квартире, которую посвятил благочестивым упражнениям, беседам с друзьями и литературным трудам.
Здесь были написаны труды de Genesi contra Manichaeos, de musica, de magistro, de vera religione. Во время путешествия в Hippo regius (ныне Bona) он был рукоположен в пресвитеры епископом Валерием против своей воли и, продолжая монашескую любовь с друзьями-единомышленниками, стал проповедником в главной церкви. В своих проповедях он обсуждал все вопросы веры, вплоть до самых строгих догматических положений. То же самое относится и к его катехизисам, замысел которых он обсуждает в своем позднем труде de catechizandis rudibus. Его литературная деятельность в этот период частично направлена против манихеев, у которых он пытается вырвать некоторых, кого он сам ранее привел к ним (Liber de utilitate credendi ad Honoratum, de duabus animis, contra Adimantum), и частично против донатистов. (Например, Liber contra epistolam Donati, Psalmus contra partem Donati.) Кроме того, он написал толкования Нагорной проповеди, некоторые отрывки Послания к римлянам, Послание к галатам, свою книгу de fide et symbolo, de mendacio. В 395 году, по просьбе Валерия, он был назначен его соепископом, и хотя сам он всегда считал Киприана своим образцом в этой области, его с таким же успехом можно сравнить с Афанасием. Среди трудов, написанных им в качестве епископа, – четыре книги de doctrina Christiana, Confessiones, диспуты против манихеев Фаустуса, Феликса и Скундина, пятнадцать книг de trinitate, четыре de consensu Evangelistanim, Libri tres contra epistolam Parmeniani Donatistarum episcopi, de baptismo contra Donatistas libb. VII, de bono conjugali, de sancta virginitate, de genesi ad literam libb. XII, против донатистов Петилиана и Кресконива. К этому же периоду относятся труды против пелагианской ереси. Сначала три книги de peccatorum meritis et remissione, которые не содержат прямых нападок на Пелагия, а затем de fide et operibus и de natura et gratia. Работа над de civitate Dei заняла его на тринадцать лет, поскольку он мог возвращаться к ней только с перерывами. Помимо опровержения языческого взгляда на мир, она содержит описание отношений между civitas Dei и civitas mundi и небезосновательно называется теодицеей или философией истории. Также de gratia et originali peccato Libb. II, de anima et ejus origene Libb. IV, contra Julianum Pelagianum Libb. VI, de fide, spe et caritate, de gratia et libero arbitrio также были написаны в это время. В пересмотре своих сочинений (Retractationes), написанном незадолго до смерти (28 августа 430 года), Августин перечисляет в общей сложности три и девяносто из них, не считая, конечно, писем. То, что сохранилось от тех и этих, вошло в сборники его сочинений, среди которых наиболее известны: Princeps Basil. 1506. XI fol., ex einend. Erasmi Basel 1523. Xfol., Antw. 1577. XI fol., Paris 1679—1700. XI fol., Paris 1835—40. XI. 4. В Patrologiae cursus completus Миня сочинения Августина составляют тома 32 – 47 латинского издания. Из отдельных произведений особенно часто печатаются «Исповедь» и «Civitas Dei».
2 Чтобы спастись от скептицизма Академии, Августин ищет непоколебимую отправную точку для всякого знания и находит ее в самоочевидности, с которой мыслящее существо утверждает свое собственное существование, оставшееся для него несомненным, несмотря на все сомнения, более того, ставшее таковым благодаря им.
От этой отправной точки, которую он утверждает как незыблемую, особенно в «Солилоквио», в «de libero arbitrio» и «de vera religione», он идет дальше, особенно во втором трактате, так, что различает в самоочевидности уверенность бытия, жизни, чувства и рационального познания, и таким образом придает ей четырехчастное бытие как свое содержание. Если мы теперь поразмыслим над высшим уровнем бытия, то обнаружим, что наш разум, когда он познает и судит, предполагает определенные принципы, общие для всех, и что он руководствуется одной неизменной истиной, которую по этой самой причине он ставит выше себя. Эта неизменная истина, являющаяся в то же время системой всех истин разума, полностью совпадает у Августина с божественным Логосом, и таким образом, подобно Декарту (см. §267, 2), он переходит от уверенности в себе к уверенности в Боге, в Котором мы все познаем и судим (Conf. X, 40. XII, 25). В этом совпадении знания с жизнью божественного Логоса в нас Августин осознает свое согласие с платониками, которых он очень часто называет истинными философами и предпочитает аристотеликам, и для него исчезает контраст между откровением и разумом, верой и знанием. Начать с первого, чтобы подняться до второго, – это в определенной степени его путь. Везде вера является началом, и в этом отношении она и авторитет разума имеют приоритет. Но это верно только в смысле порядка времени; по достоинству разум и понимание выше; но это не для слабых и никогда не достигается полностью даже самыми одаренными (de util. cred. c. 9, 21, 16, 31. de ord. II, 9, 26. de trinit. IX, 1.) Божественная благодать и собственное согласие, которое заключается в воле, часто упоминаются как существенные моменты веры (de praedest. sanct c. 2). К первому относится также дарование непогрешимых Писаний. Поскольку имя философ обозначает любителя мудрости, а Бог есть мудрость, то философ – это любитель Бога. Не от всей, а только от философии мира сего Священное Писание повелевает бежать (Civit. Dei VIII, 1. 10). Бог как действительный предмет всякого знания и всякой философии не может быть постигнут с помощью обычных категорий/Кр есть великое без количества, благое без качества, настоящее без скудости, вечное без времени и т. д. (В самом деле, его нельзя даже назвать субстанцией, поскольку в нем нет случайностей, и, пожалуй, лучше назвать essentia, поскольку ничто внешнее по отношению к нему не заслуживает этого названия (de trinit. VI, 5). Поскольку ее бытие превосходит всякую определенность, ее сущность правильнее описывать отрицаниями, чем утвердительными средствами (Ep. 120, 3, 13). С детерминацией из Бога исключается и всякое разнообразие; Он – абсолютно простой, и в Нем не может быть даже различия атрибутов: Быть, знать, желать – все в Нем едино. Но если в Нем ничего нельзя различить, то Он, естественно, есть скрытый, непознаваемый.
3. Но дело в том, что Августин не останавливается на этом скрытом Боге, а продолжает постигать его, по мере того как он раскрывает себя.
Это происходит в учении о Троице, которое освобождает Августина от последних остатков отношений соподчинения, представляя в качестве вечного не только Сына или Логоса, в котором открывается вечное Существо, но и Святого Духа, это причастие Отца и Сына, в котором они оба с любовью встречаются друг с другом и который по этой самой причине исходит из обоих. Божественная субстанция существует только в трех лицах, но существует полностью в каждом из них, и Августин повторяет, часто в ущерб различию между лицами, что в каждом божественном деле они все трое сотрудничают. Однако Августин не ограничивается принятием доктрины о триединстве Бога на основании Писания и предшествующих отцов церкви, но совмещает ее с тем, что впоследствии станет единственной задачей философов, – попыткой сделать эту доктрину понятной. Он должен был считать ее тем более разумной, что уступал владение ею неоплатоникам, не имевшим откровения. В частности, Порфирину, в котором была исправлена ошибка Птотина, в результате чего postponere третьего момента уступило место interponere. Чтобы сделать эту догму понятной, используются аналогии с триединством общего, особенного и связанного бытия во всех вещах (de vera relig. VIT, 13), но особенно с esse, nosse и rette, или с memoria, intetligentia и rotunlas человека (de trinit. X, 8—9), как свидетельство божественной Троицы, является необходимым следствием того, что Августин видит в мире самооткровение, но особенно в человеке образ Божий (Civit. Dei XI, 24).
4. Ведь Божество не останавливается на том, чтобы вечно являть себя, но и дальше открывает себя ad extra.
Это происходит в творении, которое Августин связывает с вечным порождением таким образом, что его учение о Логосе становится средним звеном между теологией и космологией. Таким образом, ему удается избежать двух ловушек, на которых обычно терпят неудачу теории творения: во-первых, дуализма, который, должно быть, казался ему особенно опасным после его личного опыта. В противовес утверждению о независимой от Бога субстанции, он настаивает на том, что мир был создан из ничего, что помимо божественной воли в нем вообще ничего не было. В буквальном согласии с Ветхим Заветом он утверждает, что если бы Бог отнял свою творческую силу, то мир немедленно исчез бы (Civit. D. XII, 25), так что понятие сохранения поглощается понятием сотворения. Он решительно отличает Сына, который есть de Deo genitus, от mundus de nihilo factus, отрицая тем самым всякую безначальность мира, то есть, поскольку genitura = natura, он, как и иудей, отрицает, что мир есть нечто большее, чем творение рук Божьих, что он есть природа. С этим взглядом связано и его позднее неприятие предположения о мировой душе, которое он сам ранее лелеял и которое давало бы миру слишком большую независимость. При утверждении полной ничтожности всего сущего была очевидна опасность пантеизма, которого, во-вторых, следует избегать в теории творения. Августин не так стремится избежать этого, поэтому он остается ближе к нему, чем к противоположной крайности. При всем различии между вечно рожденным Сыном, без которого не было бы Бога, и миром, который создан не во времени, а со временем, между ними все же существует такая связь, что Логос как совокупность всех идей, которую Бог без зависти реализовал в мире, является архетипом мира, это образ божественной мудрости, только Логос, помимо того, что является идеей мира, есть также идея Бога, alias Dei, в то время как мир – aliud Del (Civit. D. XI, 10. XII, 25. de genes, ad lit. IV, 16 и др.). Ответ на три вопроса: guis, per guid и propter guid fecerit? указывает на активность всей Троицы в сотворении мира. Хотя Августин отвергает идею о том, что возникновение вещей из Бога является необходимостью или что Бог требует этого, с другой стороны, нельзя отрицать, что он приписывает вещам существование, которое не просто кажущееся, но более реальное, чем это допускает пантеизм.
5. Но то, что Августин остается гораздо ближе к последнему, чем к его антагонисту, дуализму, особенно очевидно в его учении о человеке. Он является центром творения, поскольку соединяет то, чем являются только ангелы, с видимой телесностью, состоящей из элементов. Дух или душа человека – это субстанция, отличная от тела (de anim. et ej. orig. II, 2, 2), по крайней мере относительно простая (de trinit. VI, 6, 8), бессмертная (soliloq. de immort. an.), которая настолько связана с телом, что полностью присутствует везде, хотя некоторые органы выполняют определенные функции, например, передний мозг для ощущений, задний – для движения и т. д. (de genes, ad lit. VII, 13). Кроме того, однако, дух проявляется и независимо от тела, так что в нем можно выделить семь различных уровней, три низших из которых, anima de corpore, in corpore, circa corpus, Аристотель уже правильно выделил, но к которым добавляются anima ad se, in se, ad Deum, in Deo (de immort. an. – de quantit. an.). Действительным ядром и центром духовной личности является воля человека; человек в действительности есть не что иное, как воля (Civit. D. XIV, 6). Поскольку человек, как и все вещи, является продуктом бытия и небытия, воля может либо позволить этому, то есть божественной воле, преобладать в ней, и тогда она является истинной или свободной волей, либо она может отвернуться от бытия, и тогда она является недействительной (само) волей и несвободой. Если вместе с Августином понимать свободу как исполнение божественной воли, bona boni necessi> tas, то не невозможно, даже не трудно, объединить свободу человека с божественным всемогуществом и всеведением. Именно эта концепция свободы сделала спор с Пелагием непримиримым, даже если бы вмешательство юриста (Coelestius) не озлобило его. Для него, воспитанного в монашеском отречении, вопиющий контраст между тем, кто любит благодать и Церковь, и тем, кто любит и то и другое, оставался более чуждым, но опасность гордого лицемерия была гораздо ближе, чем для Ληgustin; формальная концепция свободы Феодора и Хризостома должна была быть знакома члену Британской Церкви, которая всегда оставалась открытой для восточных, особенно антиохийских, влияний. Эта формальная свобода, aequilibrium arbitrii, при которой каждый человек может принимать решения в пользу добра, равно как и зла, для Августина – нехристианское заблуждение. Нехристианское, потому что если бы каждый мог выбирать добро, зачем тогда Спаситель? Заблуждение, потому что в действительности поступки человека – это неизбежные плоды доброго или злого дерева. Естественный человек, то есть человек, который хочет получить свое, злой, раб. Только божественная благодать, частично предшествующая, частично действующая, частично поддерживающая, частично дающая настойчивость (donum perseverantiae), которая запечатывает все предыдущие последствия, делает человека свободным. Кем он станет, зависит исключительно от Бога. Он предопределяет тех, кого желает. Остальным не на что жаловаться, если Он оставляет их в том состоянии, в котором они оказались. Только постоянное действие Бога позволяет человеку творить добро; на самом деле не творить, ибо человек в этом совершенно пассивен, благодать же непреодолима (de corr. et grat.). Бог дает ее не потому, что мы этого хотим, но мы хотим ее потому, что Он ее дает (Ep. 177, 5). Все это – необходимые выводы из того факта, что сохранение – это непрерывное творение из ничего. В полностью зависимом мире ни одна его часть не может проявить самодеятельность. Кстати, эти утверждения кажутся смягченными, когда Августин говорит: gut te creavit sine tc mon te justificabit sine tc, и в других «подобных изречениях, к которым привела его практическая натура, отвергающая всякий квиетизм». О принадлежности человека к избранным нельзя судить по отдельным добрым делам; лучшим доказательством этого является donum perseverantiae (de corr. et grat. 12—13).
6. Неспособность творить добро и, следовательно, отвержение всех тех, кого Бог не освободил от греха, – это факт. Но это не изначальные отношения, установленные Богом. Напротив, человек, который изначально существовал как Единый Человек, чтобы все люди были кровными родственниками (Civit. D. XII, 21), изначально находился в состоянии, в котором он также не мог грешить. Намереваясь достичь того момента, когда он уже не сможет грешить вообще, от posse non peccare к non posse peccare, он должен был, повинуясь Богу, искоренить в себе posse peccare, а значит, и смертность (do corr. et grat. 12, 13. de pecc. iner. I, 2, 2). Но этого не произошло. Напротив, любовь Божия охладела в человеке, и искушение дьявола, падшего до него, привело его к полному отступничеству, наказание за которое – неспособность творить добро – распространилось на всех людей, существовавших в зародышевом состоянии в Адаме и потому согрешивших (civit. D. XIV, 11. de corr. et grat. 12, 37. 6, 9). Тот факт, что Августин лишь робко поддерживает традуцианство (генератианство) души, которое так хорошо согласуется с его теорией первородного греха (ср. Ep. 190. ad Opt 4,14.15), и часто колеблется между ним и креатианством или учением о существовании (ср., например, Retract. 1,1), возможно, связан с тем, что пример Терлуиана, казалось, показывает, что традуцианство должно утверждать телесность души. Потомство падшего человека, созданное в похоти и потому столь же отравленное, не способно к добру. Еще труднее понять, как первозданный человек, который не был рожден грешным, мог отпасть от Бога. Ведь в той же мере, в какой Августин отрицает всякую самодеятельность человека, происхождение зла, то есть эгоизма, должно казаться невозможным, как это всегда случалось с последовательным пантеизмом. Август, который не заходит так далеко, тем не менее часто затрагивает тему отрицания зла. Так, когда он проявляет склонность считать зло отсутствием, а не противоположностью добра (civit. D. XI, 9), или когда он говорит, что зло возникает только в добре (de lib. arb. III, 13), что оно не является ничем положительным и поэтому не нуждается в causa efficiens, имеет только causa deficiens, является incausale, что зло – это не действие, а бездействие, что человек не признает зла по той же причине, по которой он не видит finstemiss и т. д. (Civ. Dei XII, 7. 9 и др.). Огромная сила греха часто заставляет его сделать (антипантеистическое) признание, что зло – это позитивная сила, противостоящая Богу, но страх предположить существо, внешнее по отношению к Богу, заставляет его снова и снова возвращаться к представлению зла как простой тени в картине мира, как чего-то необходимого для контраста, то есть фактически отрицать его реальность. Трудности, в которые запуталась августиновская доктрина об абсолютной самоотверженности твари, способствовали расцвету семипелагианства. Хотя оно было осуждено в той форме, в которой предстало перед Кассианом, предестинатианцы (вероятно, чистые августинцы) также были объявлены еретиками. Церковное августинство в сочинении, вероятно, Льва Великого, de vocatione gentium, уже было смягчено. Позже это даже стало церковным правилом: Augustine eget Thoma interprete.
7. Вера, средство, с помощью которого человек становится причастником благодати, по мнению Августина, – это не самостоятельное приобретение, а чистый дар благодати, сверхъестественное озарение (de pecc. merit. 1, 9. de praedest sanett. II, 12), в котором человек обретает уверенность в том, что он благодатен. Именно по этой причине действительным содержанием веры является учение о Сыне Божьем, ставшем человеком, о котором языческие философы не имели никакого представления, как и о Троице. Поскольку ценность имеет только то действие, которое является реализацией веры, из этого следует, что даже самые восхваляемые добродетели язычников ничего не стоят, являясь пороками (Civit. D. XIX, 25). Только у христиан истинное основание превращает стойкость в мученичество, воздержание – в умерщвление порывов и т. д. Однако Воплотившийся Бог не только для отдельного человека является освободителем от греха и вины, но и для всего человечества в целом – подлинным центром, который по этой самой причине оказывается в центре его истории, целью тех, кто живет до него, и отправной точкой для тех, кто живет после него (de vera relig. 16. de grat, et lib. arb. 3, 5). На протяжении всей истории человечества, которая, согласно шести дням творения, делится на шесть периодов, в последнем из которых мы живем, проходит контраст помилованных, составляющих государство Бога, ciritas Dci, и тех, кто осудил себя, и таким образом составляет государство мира или дьявола; первые являются сосудами милосердия, вторые – гнева (Civ. D. XV, 1 и далее), в первых преобладает любовь к Богу, во вторых – любовь к себе (там же, XIV, 28). Каин и Авель (после смерти Сифа) уже демонстрируют этот контраст, который в конечном итоге проявляется в моральном разложении римского государства и противостоящей ему христианской общины (ibid. XVIII, 2). Страшный суд и после него новая земля, населенная воскресшими, – цель истории. Проклятие, телесное и духовное одновременно, как и блаженство избранных, вечно (ibid. XXI, 9. 10. 23. 28. XIX, 28). Последнее заключается в полном познании Бога и Его мирового правления, и именно поэтому ни воспоминания о собственных страданиях, ни наказание отверженных не будут огорчать того, кто увидит все глазами науки (ibid. XXII, 29. 30).
§. 145.
С торжеством (смягченного) августинизма догматообразующая деятельность церкви подошла к концу. Не было необходимости устанавливать дальнейшие догмы, поскольку то, что должно быть неизменным учением, было найдено, и это было уже невозможно, так как с отменой республиканской церковной конституции отпала и уверенность в том, что только догма, а не одновременно способ, которым субъект ее устанавливал, придет к канонической респектабельности. Позже, когда папская власть попыталась установить догматы (например, транссубстанцию, conceptio immaculata virginis) в то время, когда ее задачей было не создание догматов, а придание им определенной формы, именно теологумены пытались закрепить в качестве догматов. Они забыли, что в случае с догматами речь идет о κήρυγμα, первоначальном откровении, а в случае с теологуменом, напротив, догмат, созданный на его основе, дает материал для философского размышления, и что именно по этой причине догмат и теологумен соотносятся друг с другом как учение и рассуждение, как суждение и основание для суждения. После установления догмата первая задача церкви – ознакомиться с доктринальной концепцией и привыкнуть к конституции, которую она для себя сформировала и через которую она себя сформировала. Она должна, как и община до того, как стала церковью, окрепнуть внутри себя, чтобы иметь возможность начать внешнюю деятельность. Поэтому те, в ком живет философский дух, то есть те, кто понимает свое время, будут стремиться не к решению новых задач, а к сохранению и закреплению того, что обсуждалось в философии до сих пор. Для этого результаты прежних спекуляций становятся доступными все более широким кругам благодаря сборникам, комментариям и переводам и все более общепризнанными истинами.
§. 146.
По сравнению с догматической деятельностью, компилятивная и комментирующая деятельность носит формальный характер, отсюда и престиж тех самых трудов античности, которые устанавливают правила для формы науки, и того самого философа, который был всеобъемлющим полигистором. Платон начинает отходить на второй план перед Аристотелем, особенно перед логиком Аристотелем, и если платонизм остается высшим авторитетом, то только в той форме, которую он получил через Прокла, в котором (см. §. 127 и 130) аристотелевский элемент был столь заметен В восточной церкви следует отметить Немесия (de natura hominis, опубликован в Bibi. vet. patr. Paris 1624 Vol. II), в аргументах которого странным образом смешиваются аристотелевские и библейские изречения, Эней из Газы (в дискуссии Теофраста, написанной в 457 году, Немезий часто спорит на платонических основаниях, а неоплатоники – на библейских), Захария Схоластика, который был активным епископом Митилены на консилиуме в Константинополе в 536 году, и в диалоге которого Аммоний особенно борется с вечностью мира. Последним занимается, хотя он гораздо более аристотелевский, чем упомянутые до сих пор, александриец Иоанн (Филопонос, как его называли современники, Грамматик, как он сам себя называл), чьи комментарии к аристотелевским сочинениям, написанные в VI веке, сохранились и часто печатаются, особенно в Венеции. Его несколько более молодой современник Симплиций комментирует Аристотеля скорее в духе неоплатоников и, насколько сохранились его труды, представляет большую ценность для истории философии. Автор сочинений, известных под именем Дионисия Ареопагита, – не Синезий, как полагают некоторые, младший современник Августина, а христианин, получивший образование в школе Прокла. (Часто печатается; в Mignc’s Patrolog. curs. compl. 2 vols. Ср. Engelhardt Die angeblichen Schriften des Areopagiten Dionysius. 2 vols. Sulzb. 1823.) Сохранившиеся (о мистическом богословии, об именах Бога, о небесной иерархии, о церковной иерархии, письма) пытаются построить эзотерическую природу христианской доктрины с помощью триад Проклуссхцна, в качестве цели которых представляется полное единение с Богом.
Как это часто бывает с мистицизмом, здесь также прослеживаются отголоски пантеизма. Бог мыслится как единственное Существо, которому поэтому отказано во всех определениях как ограничениях. В отличие от него, зло – это просто преграда, недостаток, и оно вообще не имеет бытия. Особую известность получило деление ангельского мира на три триады, или небесные иерархии: Seraphim Cherubim Throni, затем Dominationes Virtutes Potestates, наконец Principatus Archangeli Angeli; только Principatus некоторые, например Григорий Великий, ставят на место перед Potestatibus, так что вместо них на вершине третьего порядка (иерархии) стоят Virtutes. Ветхий Завет отводит серафимам и херувимам, Послание к Колоссянам и Ефесянам – пять следующих уровней, к которым в конце добавляются часто упоминаемые архангелы и ангелы. Однако Дионисий не хочет объяснять этот порядок рангов последовательной эманацией одного класса из другого, а считает, что каждый из них произошел непосредственно от Бога или, скорее, был создан им. Концепция творения отстаивается самым решительным образом, поэтому Дионисий впоследствии всегда цитируется как авторитет против неоплатоников. Ревностным почитателем Ареопагита является аббат Максим (580—662), украшенный заслуженным именем Исповедника, который в своих сочинениях – (изд. Combcfisius II Vol. Paris 1675, дополнено по: Oehler Anecdota gracca Tom. I II al. 1857) – показывает последнюю, но блестящую вспышку спккулятивного духа в греческой церкви. Что Бог открывает Себя через две книги – природу и Писание, что Он может быть описан только отрицательными предикатами, что Логос имеет дело с первопричинами всех вещей в Себе, что все истинное бытие есть добро, и поэтому зло не является ни существом, ни объектом божественного знания и воли, что воплощение имело бы место даже без грехопадения человека, поскольку оно является лишь кульминацией предыдущего откровения, что чувство, понимание (ratio) и разум (intellectus) образуют три ступени познания, что универсальной целью является всеобщая суббота, в которую все в Боге прейдет и т. д. и т. д. – это утверждения Максима, которые играют важную роль в последующий период. – Тот огромный авторитет, которым Иоанн Дамаскин, умерший во второй половине VIII века, и сегодня пользуется в Восточной Церкви, объясняется не его глубокомыслием и оригинальностью. Напротив, его труды (изд. Leqnien 2 full. Paris 1712) демонстрируют простое, часто бездумное собирательское усердие, с которым он собирает сведения о том, как определяли пленумы, как классифицировали прескриптивисты, какие категории применяли Отцы, какие ереси возникали и, наконец, какие доктрины считались ортодоксальными. Однако он не хотел давать ничего подходящего, да и не было в то время нужды в новых продуктах философствующего ума. Нужен был репертуар учений Отцов, и Дамаскин удовлетворил эту потребность, взяв окончательный итог из патристической деятельности. Как и он, последующие греческие богословы проводили много времени, полемизируя с мусульманами Полемика и апологетика – единственное, что до сих пор производит греческая церковь.
§. 147.
В Западной церкви творческая активность философского духа также прекращается в это время. Клавдиан Экцидий Мамертус, пресвитер из Вьенны в Галлии, написал сочинение de statu animae (ed. Mosellanus Basil. 1520, ed. Barth. Cygu. 1655), в котором он опровергает учение о телесности души, применяя аристотелевские категории, не лишенные значения и влияния. Последнее в очень большой степени оказал Марциан Миней Феликс Капелла, чей «Сатирикон», написанный в 460 году (Pr. Vicent. 1499, затем часто издавался), содержит в девяти книгах краткое изложение всех известных в то время наук. Вскоре после него жил Аниций Манлий (Торкват?) Северус Бостий 478—525, чье важное влияние на последующую философию основано не на его оригинальном труде (de consolatione philosophiae libri V), написанном в эклектическом духе, а на его переводах всех аналитических трудов Аристотеля и комментариях к некоторым из них, а также к трудам Порфирия, что сделало его, помимо прочего, создателем поздних аналитических трудов Аристотеля. Кроме того, он был создателем позднейшей терминологии, часть которой используется и по сей день. Труд de trinitate, весьма почитаемый в Средние века, ему не принадлежит. Не принадлежит ему и тот труд, который, поскольку он касается семи избранных трудных вопросов, был назван de hebdomadibus, а также сочинения de fide Christiana и de duabus naturis in Christo. Сомневались даже в том, был ли он христианином; то, что он не был очень ревностным христианином, признают даже те, кто считает его таковым. (Ср. F. Nitzsch Das System des Boöthius. Berlin 1860.) Его полные труды были впервые опубликованы в Венеции в 1492 году, затем в Базеле в 1546 году и позже очень часто, также в «Патрологии» Минье. – Как и Марциан Капелла, Магнус Аврелий Кассиодор (469—508 гг.) также дал энциклопедический обзор наук. С его времени стало ясно, что систематическое преподавание должно быть посвящено сначала трем искусствам (Grammatica, Dialectica, Rhetorica, вместе также называемые Logica, также известные как scientiae sermocinales), затем четырем дисциплинам (Arithmetica, Geometria, Musica, Astronomia, вместе Mathematica, также известные как scientiae reales, позже Physica) или быть организовано как trivium и quadrivium. – Наконец, следует упомянуть Исидора, епископа Севильского, ум. в 636 г. (Opp. ed. de la Bigne Paris 1580. Fol, затем чаще, например, в «Патрологии» Миньи), чьи двадцать книг Origines или Etymologiae долгое время были репертуаром, из которого черпали ученые заметки, так же как его три книги Sentences стали для многих единственным источником знаний об Отцах Церкви, а его труды de ordine creaturarum и de natura rerum – главным источником знаний о природе.
§. 148.
Философией Отцов Церкви завершается первый период средневековой философии, который, поскольку он содержит в качестве элементов гностическую и неоплатоническую философии, можно a potiori назвать патристическим или патристическим периодом. Три рассматриваемые школы мысли нельзя сравнивать с первым периодом греческой философии (§18 – 48), но их отношение друг к другу можно. Когда Ориген борется с гностиками оружием, которому он научился у Аммония, а Афанасий – с арианами, используя доводы, взятые у Оригена, когда Августин освобождается от манихейства с помощью Платина и Порфирия, а Ареопагит пытается доказать с помощью формул, выученных у Прокла, что христианское учение содержит истинную мудрость, и если, с другой стороны, самые выдающиеся неоплатоники, не делая никакого различия между гностиками и отцами Церкви, критикуют последних за их ненависть и презрение к миру, отсутствие чувства красоты и т. п. Это можно объяснить только тем, что Отцы Церкви стоят выше тех и других, подобно тому, как Эмпедокл стоял выше элеатов и физиологов.