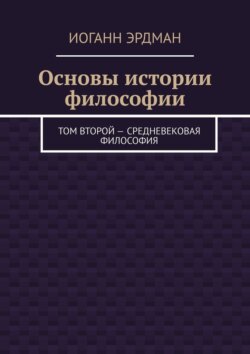Читать книгу Основы истории философии. Том второй – Средневековая философия - - Страница 6
Первый период
II. Неоплатоники
a. Плотин и римский неоплатонизм
ОглавлениеK. Steinhart, Quaestiones de dialectica Plotini ratione, 1829. Ders., Meletemata Plotiniana, 1840. Ders., in Paulys Philol. Real-Encyclopädic, v. Plotin. H. C. Kirchner, Die Philosophie des Plotin, Halle 1854. Arthur Richter, Neuplatonische Studien, 1. —5. Heft, Halle 1864—67. Gust. Wolff, Porphyrii de philosophia ex oraculis haurienda librorum reliquiae, Berol. 1856. 11. v. Kleist, Platins Kritik des Materialismus, in den Philos. Monatsh. XIV, 1878, und spätere Abhandlungen. Herm. Fr. Müller, Dispositionen zu den drei ersten Enneaden des PI., Bremen 1883.
1 Плотин родился около 205 года в Ликополе в Египте и, после того как его научные стремления тщетно искали удовлетворения у различных учителей, на двадцать восьмом году жизни стал учеником Аммония и оставался им до самой смерти. Чтобы приобрести восточную мудрость, он, как говорят, принял участие в походе Гордиана против Персии, а затем, на сороковом году жизни, основал свою школу в Риме, которой руководил до самой смерти (279 г. н.э.). Говорят, что он нарушил обещание своего учителя распространять доктрину только устно, когда увидел, что его сокурсники Геренний (о чьей предполагаемой метафизике пишет Э. Хайц в Sitz.-B. der Berl. Ak., 1889) и Ориген не соблюдали своих. Лонгин также нарушил заповедь Аммония. 21 трактат, который уже был написан к моменту прихода Прфирия к Плотину (около 263 г.), был расположен в группах по девять сочинений в каждой (Эннеады) с 33 более поздними сочинениями Порфирия в соответствии с отношениями содержания, но также был указан и хронологический порядок. Латинский перевод Марсилия Пицина, в котором впервые появились сочинения Плотина (1492 и позднее), и греческое издание П. Перны (Базель 1580 и 1615), содержащее также биографию философа Порфирия, долгое время оставались единственными изданиями. В 1825 году Крейцер опубликовал текст и перевод Марсилия в оксфордском издании в 3 томах формата кварто и организовал книгу Die Neuplatoniker. А. Плотин и римский неоплатонизм. §1,2. 219, поддержанный Мозером, в 1855 году Дидо в Париже гораздо более благоприятное и в то же время более правильное издание того же самого. Гораздо более соответствующее требованиям филологической критики: Plotini Opera recognis. ad. Kirchhof, Lips. 1856, 2 vol. 8°, где приведен только греческий текст, восстановлен хронологический порядок, но в то же время указана эннеада и номер страницы оксфордского издания, так что их легко найти, когда они цитируются обычным способом. В 4-м томе вышеупомянутого Studien Рихтер предпринял достойную похвалы попытку привести трактаты Плотина в фактический порядок, который, тем не менее, учитывает хронологический порядок, насколько это возможно, так же как и его монография о Хольме – лучшее, чем мы располагаем. Более поздние издания: H. F. Müller, Berol. 1878; Р. Фолькмана, Лейпциг 1883 и 1884; немецкий перевод «Эннеад» Х. Ф. Мюллера, Берлин 1878, 1880. Более конкретную литературу о Плотине см. у Х. Ф. Мюллера, в Philologus, 38, 1879.
2. Поскольку Плотин, подобно Платону и Аристотелю, не подходит к своему особому принципу в порядке восхождения, но постигает его непосредственно, через интеллектуальное созерцание, и исходит из него как из самого определенного, он должен еще больше, чем его предшественники, настаивать на том, что это совершенно необусловленный, ни в коей мере не относительный принцип. Единое, бытие, благо, Бог – вот различные термины для обозначения этого высшего принципа, к которому не применимы ни платоновские категории, покой и движение, самость и инаковость, ни аристотелевские, субстанция и случайность, но скорее ύπερούσιον, в котором вообще не существует противоположности, следовательно, даже противоположности желания и бытия: он есть, потому что он желает, и желает, потому что он есть. Этот πρώτος, который не следует понимать как нечто потустороннее, но который настолько во всем и охватывает все, что, когда он желает и любит себя, он любит и желает все, – это то, что Платон иногда называл Благом, а иногда Богом (Enn. III, 8; VI, 8). Как уже показывает выражение «первый Бог», Плотин не останавливается на этом первом принципе; хотя он не перестает признавать трудность, стоящую на пути возникновения множественности из единства (V, 1, 6), он, тем не менее, пытается ее преодолеть. Иногда чисто логически, указывая на то, что множественность, исключенная из Единого, должна по этой самой причине быть из него и внешней по отношению к нему, но обычно так, что он представляет Первое как порождающее, которое, подобно тому как пламя распространяет свет, а снег – холод, так ни бессознательно, ни даже совершенно произвольно не позволяет Второму исходить из себя как вечно порождаемой вещи. Явно выраженный принцип, что второе всегда содержит меньше первого (III, 2. 7), делает его систему противоположной любой теории эволюции, то есть системой эманации. Первое ослабление бытия, перворожденный Бог, по Плотину, – это νοῦς, который, выйдя из Единого, но имея то же самое в качестве своего истинного основания, а значит, имея цели и задачи, в этом бытии-обращении назад (έπιστροφή) становится знанием Единого, так что, хотя само Единое не мыслит, тем не менее то, что мыслит, должно быть названо его είκών (V, 1, 7). Если далее Плотин описывает мышление νοῦς как свободное и чистое, относящееся только к самому себе, в отличие от несвободного мышления, занятого другими вещами, то становится ясно, что переданное Амнумием слияние Платона и Аристотеля организовано им таким образом, что на первом месте стоит αγαθόν Платона, а на втором – νοῦς Аристотеля. Если первое было таково, что ни одна из категорий к нему не применима, то νοῦς, напротив, как говорят, является одновременно покоем и движением, объединяя в себе единство и различие. Первая из этих категорий относится к нему как к мыслителю, вторая – как к мысли; и поэтому не будет скачком, если νοῦς станет воплощением всякой мысли и всех архетипов вещей (V, 9, 6), в котором, как вид в роде, содержатся все понятия, так что в нем как в κόσμος νοητός все вещи, даже смертные и тленные, существуют вечным, идеальным образом (V, 8). Сходство с учением Филона в этом пункте поразительно (см. §114, 3). Аналогично и с учением Платона, только не следует упускать из виду, что здесь каждое отдельное существо имеет свою собственную идею.
Из νοῦς теперь возникает третий, то есть еще более подчиненный принцип, ψνχης, то есть общий принцип жизни или мировая душа, бледная копия νοῦς, которая по этой самой причине действует рационально, но без разума, то есть то, что Аристотель называл демоническим (см. §88.1). Как несмышленые дети творят больше внешне, чем те, кто погружен в себя, так и вещи общей души, которая не держит свои идеи при себе, а сразу же пускает их в ход, как бы опускаются (III, 8, 3). Таким образом, во всех природных процессах мысль (θεωρία) – это идеи, которые душа получает от νοῦς и которые она сеет или насаждает как λόγους σπερματικούς в материи. Среднее положение, которое таким образом отводится душе, часто заставляет Плотина говорить о верхней душе, обращенной к νους, и о нижней душе, тянущейся к материи, которые затем, в его стремлении связать себя с мифами, получают имена небесной и земной Афродиты. Последняя, в частности, также называется φΰσις.
3. (Платоновское) благо, (аристотелевское) νοῦς и (стоическое) все-жизнь, иногда также называемая Зевсом, образуют то, что было названо Троицей Плотина, которая также ближе к христианскому учению, чем Филон, поскольку νους здесь не только κόσμος νοητός, но и νοητός θεός, и, кроме того, мир известен не только как приведенный в движение внешней по отношению к нему силой, но и как обладающий присущими ему принципами движения. Но из-за отношения эманации и, следовательно, подчиненности, разница остается очень большой. Однако Плотину не удается преодолеть это, поскольку он еще не осмеливается поместить отрицание, έτερότης в самого Бога; как это делает невозможным для него преодоление отношений подчинения, так же невозможно для него преодолеть платоновско-аристотелевский дуализм. Правда, для него материя, которой противостоит Бог, так же мало является физической субстанцией, как и для тех двоих; это бескачественное, бессущностное, нереальное, предел бытия, небытие, которое познается только в том смысле, в каком познается тьма, для познания которого необходимо своего рода безумие, и так далее. Действительно, он превосходит Платона тем, что уже рассматривает пространство как нечто сформированное, а значит, и материю как нечто еще более абстрактное, и превосходит Аристотеля, когда заявляет в противовес ему, что материя есть ΰτέςησις (II, 4; III, 6, среди прочего). Однако он не показывает, откуда берется материя. Приходится называть это колебанием между дуализмом и монизмом, когда он допускает, что материя может быть представлена то как отпадение от бытия, то опять-таки только нашим мышлением. Кажется, что больше всего он избегает этих крайностей, когда говорит, что душа, не в силах вынести вид пустоты, восполнила бедность материи; но здесь повествовательная форма доказывает свою неспособность к концептуальному развитию, помимо того, что всегда остается вопрос: откуда берется эта пустота? Именно с такой нерешительностью связан тот факт, что Плотин, на котором основана его полемика против гностиков и христиан в целом, то защищает красоту чувственного мира, то снова считает позором рождение и скрывает день рождения как день позора. Переход бытия в небытие не понят, поэтому остается только оплакивать его.
4. Но даже если причина этого скрыта, произошло достаточно событий, чтобы это произошло, и поэтому существует последовательность существ ниже рассмотренных до сих пор принципов, и физика посвящена их рассмотрению. Новым доказательством подчинения Аристотеля Платону является то, что категории последнего применяются в области умопостигаемого, тогда как категории первого – здесь, в области разумного (их число, однако, сокращается). Высший уровень этих существ образуют боги, низший – неорганические существа, в которых жизнь только дремлет. Боги – это небесные тела, чьи души упиваются созерцанием благ, но чьи тела оказывают влияние на мир, вокруг которого они вращаются (II, 3, 9; ср. VI 9, 8—9). Среди них – демоны, обитающие в подлунных воздушных пространствах, к которым Плолин часто относит народных богов (III, 5, 6; II, 9, 9). Наконец, земля, пронизанная разумной душой (IV, 4, 27), несет в себе вне неорганические существа, растения, в которых проявляется λόγος, животных, в которых уже проявляется διάνοια, а также человека, который является образом вселенной, миром в миниатюре. Как форма является высшей во всех субстанциях, так и душа в человеке, нематериальность которого подробно обсуждается. Изначально единая с универсальной душой, она привязывается к особой части телесной вселенной только тогда, когда перестает смотреть только на νους и начинает мыслить и желать сама (III, 9, 2). Акт воплощения, таким образом, совпадает со становлением особого сознания; это свободное волеизъявление и наказание одновременно (V, 8, 7; IV, 8, 4). Войдя в тело, душа также оказывается захваченной преобразованием целого, к которому она принадлежит как часть. Она не может жаловаться, ибо сама выбрала свое положение в нем (IV, 3). Свобода и необходимость здесь не противоречат друг другу, ибо судьба человека – это его самоизбранный демон, роль, которую каждый играет в мировой драме, отведена ему потому, что он сам этого захотел (III, 2). Спуск души в земное тело происходит постепенно, так что она связывается сначала (божественно) с небесным, затем (демонически) с тонким эфирным и, наконец, (в воплощении) с грубым земным телом (IV, 3). В результате этого союза человек становится составным κοινόν, чье тело является частью телесной вселенной, чья душа подобна, как вид роду или как часть целому, вселенской душе, и которая, со своим высшим компонентом, νους, выходит за пределы природы, действительно за пределы вселенской души, на небо (IV, 7). Отношения между этими тремя принципами, которые часто называют первым, вторым и третьим человеком (VI, 7, 6), составляют основное содержание плотиновской психологии. Тело, являющееся частью вселенной и сочувствующее ей (IV, 5, 3), делает душу, которая без него жила бы целиком в сфере разума, питающей, чувствующей, в общем, низшей.
В ней, как в связке между телом и духом, впечатления чувств встречаются с идеями, вливающимися в дух, олицетворением которых был τους, и которые мы узнаем, когда смотрим на него. Из двойного отношения, в котором находится душа, к внешнему миру и к νους, в ней возникают три области: низшая, чувственная душа, высшей функцией которой является φαντασία (IV, 3, 29); далее, средняя или собственно человеческая душа, к которой принадлежит рефлексия, διάνοια и λογίξεσθαι, через которую возникает не только низшая δόξα, но и πίσιις и наука (I, 1, 7 u. 3, 4; V, 8, 7). Высшая часть души – та, которой она достигает неба, т. е. В силу этой доли в νοῦς человек поднимается до непосредственного, неподвижного созерцания идей, поскольку он обладает тем, к чему стремятся размышление и наука (IV, 4, 12), является чистым νοεΐν или φρόνησις, и постигает вечное в непосредственном контакте (VI, 8, 11; I, 2, 6). Но если средняя сфера, λόγος, к которой принадлежит λογίζεσθαι, является в то же время фактическим местом личного самосознания, то из этого следует, что существуют бессознательные реализации, которые выше сознательных. Они возникают в моменты экстаза, когда самодеятельность души полностью прекращается, когда она становится полностью идеями, которые она созерцает, полностью материалом для νοῦς, который правит в ней (IV, 4, 2). В эти моменты экстаза душа видит Единое не как нечто чуждое, внешнее, а внутри себя, и покоится в нем, теряя себя в полном единстве с ним, – состояние, превосходящее всякий разум и науку (VI, 9; V, 5 и др.).
5. Это возвышение к внутреннему или духовному человеку теперь также является тем, что этика Плотина представляет как цель всех действий. Зло состоит не в том, чтобы быть материальным, а во внутренней привязанности к материи. Поэтому высшая цель – свобода от материи – достигается не через самоубийство, как считают стоики. Став чувственно мыслящей, душа сразу же вернулась бы к чувственному существованию, поскольку она есть только то, что и как она мыслит (I, 9). Истинное освобождение состоит в том, что господство низшего (чувственного) человека нарушается и наступает господство высшего человека. Это происходит прежде всего таким образом, что желания и аффекты, вызываемые телом в душе, подчиняются разуму. Поскольку такова была платоновская концепция добродетели, Плотин полностью согласен с ним в том, что касается четырех кардинальных добродетелей. Он отличается от него лишь тем, что они, которые он также называет политическими добродетелями, являются для Ибна лишь первым шагом в решении нравственной задачи (I, 2, 7). Аскетические очищения (καθάρσεις), которые не направлены ни на умеренность, ни на искоренение инстинктов (I, 1, 2), значительно приближают нас к действительной цели – уподоблению Божеству (ομοίωσις προς θεον). Истинное благочестие состоит в απάθεια; оно есть в то же время истинная свобода, ибо только νοΐς и тот, кто взял ibn в качестве своего демона, совершенно свободен и сам с собой, έφ» έαντοῦ (Т, 2, 3; III, 4, 6).
Не то, что человек живет в соответствии с природой, ибо растения делают то же самое, а то, что νοῦς царствует в нем, является его истинным счастьем (1, 4, 1—4). Однако гораздо больше, чем практическая сторона счастья, Плолин подчеркивает его теоретическую сторону. Не действие делает нас счастливыми, а обладание, мысль и внутренняя активность. Конечной целью было и остается постижение вечного; вся практика – ради теории (III, 8), и мудрец блаженствует в своем самосознании, даже если никто не видит его блаженства. Он постиг вечное, и в этом он самодостаточен, и никакая потеря или боль его не трогает. Тот, кто все еще чего-то боится, еще не достиг совершенства в истинной добродетели (I, 4). Из трех путей, ведущих к этой цели, путь эротика и музыканта нуждается в проводнике; более определенным является путь диалектика и философа (1, 3), который ведет от внешнего и чувственного к внутреннему и сверхчувственному, а именно к реализации идей. Но поскольку νοῦς, охватывающий идеи, не был высшим, любовь к единому и благому выходит за пределы νοειν и философии, против которой даже господство мира должно быть отброшено как ничто (VI, 7; I, 6). Чтобы обрести эту точку зрения, необходимо отрешиться от всего внешнего мира. Нужно спокойно ждать, пока Бог не придет, или, скорее, пока он не покажет, что ему не нужно приходить, поскольку он всегда был внутри нас (V, 5, 8). Мы должны верить в это просветление, в котором, как бы смело ни звучало это слово, созерцаемое и созерцатель становятся одним целым, так что экстаз, преданность, реальное единение занимают место созерцания другого (V, 3, 14; VI, 9, 10). Истинное блаженство, которое не может прервать даже смерть, заключается в этом единстве. Подобно тому как мысли о чувственном делают душу чувственной, так что тот, кто может думать только о растительности, обрекает себя на растительную жизнь (III, 4, 2), так и тот, кто забыл о земном и достиг совершенной внутренности, возвышается над всеми изменениями, как нечто большее, чем отдельная личность, живущая для целого и Единого (V, 8, 7). В этом состоянии, поскольку чем совершеннее человек здесь, тем больше он забывает свою страну, друзей и т. д., тем больше он забывает все, даже самого себя (IV, 4, 1; I, 5, 8). Там ничто не будет мешать или прерывать созерцание Единого, время исчезнет в вечности, а блаженство будет чистым присутствием (VI, 9; I, 5).
6. Среди тех, кто, помимо Плотина, представляет римский неоплатонизм, имена Амелия, Евстохия и других исчезают как незначительные по сравнению с именем Малха, родившегося около 232 года в Финикии (в Тире или Ба-танее), который, посещая школу Лонгина, глаголил свое имя Порфирий, а на 30-м году стал личным учеником Плотина, а затем составителем его трудов и его биографом. На 30-м году жизни он стал личным учеником Плотина, а затем редактором его трудов и биографом, а также некоторое время после смерти Плотина (примерно до 304 года) преподавал в Риме. Помимо «Жизни Хотина», которой он сопровождал труды своего учителя, мы имеем от него «Жизнь Пифагора», которая, возможно, является фрагментом утраченной истории философии и была напечатана много раз (например, в издании Дидо «Diog. Laert.»). Его критический ум, вероятно, еще отточенный в школе Лонгина, заставлял его отступать от мастера там, где тот казался некритичным. Поэтому он защищал аристотелевские категории и написал (возможно, это произошло еще до того, как он пришел к Плотину) свою, напечатанный во многих изданиях аристотелевского «Органона» Εἶσὲτγωγὴ εἷς τὰς Ἀριστοτέλους καιηγορίας (περὶ τῶν πέντε φωνῶν, rec. Ad. Busse, Berol. 1887), в которой рассматриваются пять терминов (позднее, в отличие от предикатов, т. е. категорий, названных praedicabilia) γένος, διαφορά, εἶδος, ἴδιον и συμβεβηκὸς, и из которой впоследствии были подчеркнуты два момента в особенности. Во-первых, так называемый. Arbor Porphyrii, т. е. градация от самого общего (γενικώτατος) термина, ουσία, через подчиненные термины σώμα, έμψυχον и т. д., вплоть до εία. вплоть до είδικώτατον (άνθρωπος) и, наконец, άτομον (ΙΙλάτων); с тех пор в логике принято повторять, что ens есть высшее из всех понятий. Во-вторых, в самом начале работы в качестве очень важной проблемы, которую здесь невозможно решить, упоминается вопрос о том, являются ли роды и виды чем-то реальным, внешним по отношению к нам, или просто мыслями; далее: если чем-то реальным, то телесным или бесплотным; наконец: если бесплотным, то χωρισιά или существующим только в вещах? Ответ на первый вопрос показал бы отношение Порфирия к эпикурейским сенсуалистам, на второй – к стоикам, на третий – к Платону и Аристотелю. О том, как он ответил на первый и второй, можно судить по кульминации, которую образуют все три вопроса. Сформулированная таким образом проблема играет очень важную роль в последующий период (см. ниже §158 и далее). Если в этом введении Порфирий показывает себя более склонным к Аристотелю, чем его учитель, то он полностью согласен с ним в своих αί προς τά νοητά άφορμαί (впервые напечатанных в латинском пересказе Марсилия Фицина; позже на греческом, наиболее полно в парижском издании «Плотина» Крейцера), которые содержат выдержки из «Geisteslehre» Плотина. Они также полностью согласны в религиозных вопросах, как видно из того, что Порфгрий переосмысливает гомеровские мифы как концептуальные разработки, а также из его нападок не только на гностиков, но и на христиан в целом. Сохранились 32 главы «Гомеровских расследований» (Venet. Aid. 1521), а также аллегорическая интерпретация гомеровского отрывка в Гроте нимф. С другой стороны, пятнадцать книг против христиан бесследно исчезли, за исключением нескольких очень незначительных сообщений отцов церкви, из-за того, что они были сильно подавлены по приказу Феодосия II, и что труды Мефодия и Евсевия, направленные против них, также были утеряны. Его религиозность, как и религиозность Плотина, была преимущественно этической и, по сравнению с современниками, имела чисто греческий характер; отсюда его полемика против набиравшей силу теургической тенденции, к которой он присоединил платонизм, смешанный с египетскими, магическими и другими элементами, из чего возникло его письмо к египетскому жрецу Анебону, написанное в позднем возрасте, которое вызвало контрписьмо, о котором мы сейчас упомянем.
§. 129.