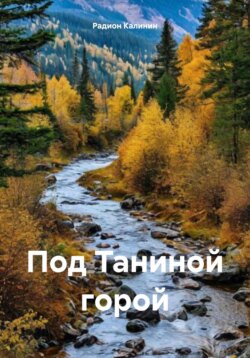Читать книгу Под Таниной горой - - Страница 4
Радион Калинин
II. Отец
ОглавлениеУ отца, Трофима Захаровича, была фамилия Калинин. Родился он в 1875 году в бедной крестьянской семье. У деда, то есть Захара, было ещё пять братьев: Сидор, Макар, Тихон, Иван, Моисей. Прадеда звали Александром, прапрадеда – Леонтием, прапрапрадеда – Василием.
Отец и его брат Савватей как-то рассказывали, что впервые в шамарские края лет двести-триста тому назад приплыли на лодке по реке Сылва из-под Кунгура трое мужчин по фамилии Калинин, Шамарин и Горбунов. И что с тех пор эти фамилии стали преобладающими в нашей местности. И впрямь нынешние Ивановичи – это сплошь и рядом Калинины.
У отца было четыре брата: Иуда /Юдша/, Савватей /Савотьша/, Лаврентий /Лавруха/ и Зотей /Зотьша/, а также две сестры: Анисья и Домна. Домна жила замужем в Тепляках или Коптелах, а Анисья – на Шоломке.
Мать отца /бабушку нашу по отцу/ звали Анной.
Отец и его братья первоначально жили на краю Обской /общей/ перемены, на границе между Кузьмичами и Ивановичами, числясь по документам жителями Ивановичей. Впоследствии в этом доме остался жить со своей семьёй брат отца Савватей Захарович, переселившийся, как и все, в тридцать девятом году на берег Сылвы. Дом этот, вошедший в обиходную речь как «старина», и сейчас цел, хоть и стал ветхий. Стоит он в Новых Ивановичах рядом с нашим отцовским домом.
Самый старший из отцовых братьев – Иуда Захарович – отделился и поселился невдалеке от этого дома – на краю лесистого неглубокого лога.
Другой брат отца – Лаврентий Захарович – был взят на воспитание братом деда – Тихоном Александровичем и жил вплоть до тридцать девятого года под Таниной горой.
Самый младший брат – Зотей Захарович – выстроился и поселился на берегу реки Сылвы (в его доме теперь размещён сельповский магазин).
Поскольку дед наш Захар Александрович умер рано, то отец – Трофим Захарович – воспитывался у прадеда Александра Леонтьевича, любившего в шутку называть своих детей Сидорко, Макарко, Захарко, Тишка, Ванька, Моська – все! В начале девятисотых годов отец наш начал строить дом в Ближних Гарюшках, но тому помешала русско-японская война. Возвратившись с войны, отец достроил-таки дом и переехал в Гарюшки. Насколько живуча была в те времена частная собственность, свидетельствует такой случай. Жена Савватея Захаровича – Зинаида Григорьевна – не дала нашей маме последний раз испечь на старине хлеб. Так и пришлось нести квашню с замешанным тестом на новоселье, то есть в Гарюшки. Место для дома в гарюшечном косогоре оказалось неудачным, потому что зимой избу заваливало снегом по самую крышу так, что не вылезешь.
На первую мировую войну отца призвали в 1914 году. Воевал он в Пинских болотах и был ранен в плечо, отчего оно было потом ниже другого. После ранения отца поставили денщиком к генералу в городе Моршанске. Как только свершилась Октябрьская социалистическая революция, отец, отлучившись на базар, сбежал от генерала и – где поездом, где пешком – добирался до Таниной горы и Гарюшек.
В 1918 году отец был мобилизован красными для разгрома мятежа чехословацкого корпуса и на другой год демобилизовался из армии.
Роста отец был невысокого, но достаточно широк в плечах. Шагал, чуть припадая на одну ногу. Почти всю жизнь проходил в лаптях, которые плёл сам. Глаза белёсы, нос почти прямой, продолговатый, лоб открытый. На лбу, щеках и шее к старости поселились морщины. Носил бороду, стригся редко, и то «под горшок». Нрава был весёлого, общительного, простого, с открытой душой, работающий до самозабвения. Не лишён был и чувства юмора. Привёз он как-то в Шамары сдавать картофель в счёт обязательных поставок. Приёмщик, увидев мелкий картофель, заартачился. Отец и говорит: «Так ведь не только картошка, но и люди неодинаковы. Вот и ты мелковат уродился». Приёмщик, рассмеявшись, не стал перечить. Курить отец не курил, только и побаловался в молодости, как он рассказывал, искурив всего-навсего двадцать папирос. Хмельным не брезговал. Пил и водку, и пиво, и брагу. Последнюю, если подходил случай и наскребал денег на сахар, готовил сам в лагуне, который после соответствующей заправки ставил на печь.
Отец рано познал нужду. Не научившись грамоте, он, как сам об этом рассказывал, тринадцати лет уже пахал землю и делал все другие деревенские работы: сеял, пилил и колол дрова, косил, копнил и метал сено, жал хлеб, клал /скирдовал/ снопы, городил огород.
Но больше всего он умел ловить рыбу и охотиться на зверя и дичь. Потому-то его звали рыбаком и лесовщиком. Бывало, весной, едва отсеется /вспашет землю, посеет овёс и посадит картофель/, его ничем дома не удержишь. Взвалит через плечо мережу /сеть/ и зашагает в Гарюшки к реке Сылве, только гольки железные бренчат да лапти лыковые скрипят. Мережу /сеть/ он никогда не покупал /не на что было/, а плёл сам и нас, ребятишек, заставлял делать то же. Покупал только нитки. Длинными зимними вечерами, пристроившись при тусклом свете керосиновой лампы к косяку окна или к стене, он часами сидел, не разгибаясь, одинаковыми движениями поддевая игленицей /специальной деревянной иглой/ петлю, а вторым резким движением завязывая узел. Этот ручной труд был до невозможности однообразен и утомителен. Но с каждым часом, с каждым вечером, вершок за вершком, аршин за аршином сеть удлинялась, а к весне, смотришь, протягивалась на несколько десятков метров.
Первым помощником отца в рыбацком деле был старший сын Пётр /или Петрован, или Петро, как называл крестивший его поп Никандра/. Пётр и мережу вязал, и помогал отцу садить /ссаживать её/, и рыбачить плавал. Рыбачил отец и с братьями своими – Савватеем, Зотеем, Лаврентием, иногда со свояком – Кирьяном Софроновичем. Другом отца по рыбацким делам был Лёвушко Минеевич Калинин – житель Кузьмичей. Рыбачить отцу доводилось не только возле своей деревни. Особый, своеобразный, только ему одному, пожалуй, понятный рыбацкий дух подсказывал, где именно должна быть рыба – возле Курей или на Дмитровском плёсе, на Сенном или под Синей горой. Там, где другой рыбак вытаскивал из мережи одного окунишка или ершишка, отец – десяток. В мереже соседа трепыхается десяток рыбёшек, в отцовской – не менее сотни. Плавал отец исключительно на лодке-долблёнке. У ней перед другими лодками были свои преимущества: легка по весу, быстра в движении, хорошо управляема. Умещались в ней и рыбаки, и сети, но и, конечно, рыба. Но такая лодка с выпуклым, словно горбинка окуня, днищем требовала сноровки, ловкости и осторожности. Ступи в лодке неаккуратно или пошатнись нечаянно – обязательно искупаться тебе в воде. Отец, плававший не один десяток лет и чувствовавший лодку всем своим телом, – и тот иногда окатывался водой.
Рыбачил отец обычно на реке Сылве, родина которой – около села с таким же названием, иногда – на Вогулке. Приток горной реки Чусовой, Сылва не уступала своей старшей сестре ни глубиной, ни причудливыми – то лесистыми, то каменистыми – берегами и перекатами. Встретясь с горой или другим препятствием, река наша, словно предусмотрительный солдат на фронте, делала обход, охват, иногда отступала, чтобы, набравшись сил, вновь вырваться на простор. Ей не удалось, например, взять в лоб те же Ивановичи. А ведь до них из Коптел – всего-навсего десять километров. Тогда умница-река, хоть и проигрывала в расстоянии, но выигрывала в силе, сделала крюк в сто с лишним километров и пробилась-таки к Ивановичам.
Чтобы попасть в верховья Сылвы, наиболее богатые рыбой, отец никогда не плыл на лодке все эти сто километров. Он просто-напросто запрягал лошадь в телегу, грузил на неё лодку, шесты, сети, кадки и другое рыбацкое имущество и через горы – перевалы, сплошь затянутые дремучим лесом, через нашумевший в народе своими страстями и ужасами так называемый Разбойничий лог буквально часа через два-три с трепетом опускал мережу в воду. Нет, отец не всегда ждал, когда рыба сама пожалует в сеть. Разве что тогда, когда мережи поставлены на самолов. Обычно, заметав сеть в воду, сразу же начинал загонять в неё рыбу. Для этого был припасён специальный гладко обструганный лёгкий деревянный шест с железным раструбом на конце. Инструмент назывался боталом, а то и фуркалом. Словно хоккеист клюшкой, ловко орудовал отец боталом, резко тыкая им в упругую воду. С силой врываясь в раструб ботала и вытесняя оттуда воздух, вода издавала прерывистый, дребезжащий, хоркающий звук, напоминавший не то урчание, не то рёв. Вероятно, потому-то прозвали ботало ещё и фуркалом. Нещадное тыканье боталом /фуркалом/ будоражило, волновало, пенило воду, заставляя рыбу шарахаться туда, куда хотелось истинно настоящему, заядлому рыбаку, – в сети.
С рыбалки из Коптел отец возвращался всегда усталый, но в глазах в такие моменты можно было без труда угадать приметы удовлетворения. За несколько дней плавания кадки были полны рыбы. Засоленная, рыба не портилась. Причалив к берегу, отец, довольный, кряхтел. Но этим рыбалка не кончалась. Надо было ещё поставить кадки с рыбой в погреб, набитый снегом. Развесить мережи на колышки-вешки. Вытащить лодку на берег. А тут, глядишь, и соседи потянулись, словно на огонек. Одни – расспросить об улове, другие – купить рыбки, третьи – просто-напросто поглазеть. Помню, как приходил сосед – житель Кузьмичей Феопент Осипович Калинин и спрашивал:
– Трофим Захарович, нет ли рыбёшки на пирожишко?
Прирождённый рыбак, отец не был жаден на рыбу. Бывало, для своей семьи только на пирог и оставит, а остальную продаст или отдаст даром. Если мама клала кому-либо мелкую рыбу, то отец, недовольный, морщился, вынимая её обратно, а вместо неё подбирал рыбу покрупнее. Или увидит, как шурьята Антон и Алексей /мамины братья/ вытаскивают удочками только одних пескозобов, наложит им полные туески окуней, чебаков, ельцов и скажет:
– Бежите домой!
Потому что знал – без рыбного пирога не будет радости в крестьянской семье, особенно в праздник. Рыба, запечённая в тесте, особенно из пшеничной муки, – настоящее объедение. Вкусна была сама рыба, ещё вкуснее, кажется, – корка пирога, пропитанная рыбным запахом. Если перевести на современные понятия, то рыбный пирог заменял в ту пору холодную закуску, причем закуску первостатейную, отменную, любимую.
Те из мужчин, которые считали себя мало-мальскими рыбаками, но которым в этом занятии не везло, пускали слухи, что отец наш знает какие-то только одному ему ведомые приметы, пользуется запусками /наговорами/ и т. п. Что до примет, то для всякого настоящего рыбака они – не последнее дело. Каждый коренной крестьянин, родившийся и выросший в деревне, знает, что если ночью на траве нет росы /«сухорос»/, то завтра обязательно жди дождя. Так почему же рыбаку не знать, где и когда удобнее всего поймать рыбу, а не мутить воду без толку. В самом деле, в пору цветения шипиги хорошо ловится карась. В другое время отец о нём забывал.
Теперь уже большинству ведомо, что рыба очень полезна для человеческого организма. Но раньше всего об этом, наверно, было известно рыбакам. Отец мой считал за честь, обязанность и необходимость, после того как разрежут пирог, первым съесть голову наиважнейшей и наикрупнейшей рыбы. Может, это тоже было своего рода приметой, причиной везения на рыбалке. Так же, между прочим, поступали и другие рыбаки. Оказавшись однажды на рыбной ловле в верховьях Сылвы, возле деревни Коптелы, отец со старшим сыном своим Петром поздним вечером зашли к отцову приятелю – рыбаку, звавшемуся не то Маруном, не то Тарелом, переночевать. Тот перво-наперво вынес на стол рыбный пирог, а затем подался в сени за брагой. Пока хозяин наклонял лагун, наливая брагу в чайник, отец мигом выковырнул вилкой рыбью голову из пирога. Перешагнув через порог и бросив взгляд на пирог, хозяин сделался белее снега. Потеряв от злости дар речи, он швырнул пирог под порог. Моему отцу и Петру не оставалось ничего другого, как уйти из гостей и ночевать под ёлкой на берегу реки.
В зимнюю пору отец ловил рыбу мордами, сплетёнными из ивовых прутьев. Те прутья /лозы/ мы срезали на берегу Сылвы зимой. Выйдя на Сылву, отец разрубал поперёк реки лед, вбивал в речное дно колья, опускал в воду нечто вроде изгороди, называвшейся езом, а в промежутки ставил морды.
В половодье не брезговал саком /сакал рыбу/. В тёмные сентябрьские ночи выезжал на лодке лучить. К корме лодки прикреплялась стойка /коза/, на которую накладывали бересту и зажигали. При свете вода просматривалась до дна. Завидев щуку или налима, отец ловко вонзал острогу /зубчатую пику/ и вытаскивал рыбину в лодку.
Хоть и много рыбачил отец, отдаваясь этому делу со всей человеческой страстью, но он ещё и строился. А строиться пришлось ему трижды. Впервые, как уже сказано, отец поселился в Гарюшках – на северо-восточном неуютном, неприветливом, несолнечном склоне Таниной горы. Того дома я не видел в глаза, так как родился в двадцатом, когда отец уже перевёз дом на новое место. Чем прельстили отца лесистые Гарюшки – доподлинно не знаю. Но думаю, что не пашня, не земля-неудобица, прочно обложенная лесом со всех сторон. Держась за соху, тяжело переступая ногами, обутыми в лапти, к которым прилипала толстым слоем сырая земля, отец за день до хрипоты в горле сотню раз «понужал» /понукал/ лошадь, хлеща её витнем /плетью/, когда она, выбиваясь из сил, тащила соху в гору, останавливаясь чуть ли не через каждые десять шагов. Скорее всего, обрадовала отца близость реки, спрятавшейся за лесистым угором. До неё, Сылвы-матушки, то молчаливой, как рыба, живущая в ней, то не в меру говорливой на перекатах, под стать деревенской женщине Фомаиде Кирьяновне, по каменному взвозику /каменистой тропке/ было рукой подать.
А вокруг – царство леса. Иди, не ленись, руби дерево, какое твоей душе любо. Одно – на стройку, другое – на дрова, третье – на жердь. В лесу, особенно на вырубках, красно малины. Под деревьями, на полянах, на кромках леса, в густой и редкой траве – всюду мигают тебе земляничные звёздочки. Есть время и желание – собирай. И хмелю вволю. А в майские дни пьянит голову черёмуха. Кажется, хлопья снега, чтобы не растаять на земле, прыгнули на нетолстые черёмуховые деревья и повисли на их сучьях. И по грибы далеко ходить не надо. Помню, как одна женщина хвалилась: «Легось мы две кадочки грибов и губ насолили».
Одно плохо в Гарюшках – до крайности мало земли. А траву тяпали литовками, где придётся – и средь деревьев, и между пней, и даже осоку возле самой воды у реки или озера. Литовки /косы/ тупились так часто, словно они подрезали не траву, а тонкую проволоку, из которой делают заячьи петли. Иной раз и брусок не помогал. Тогда отец пристраивал на пеньке наковальню, опускался на колено и начинал молотком тукать /стучать/ по литовке, словно соревнуясь с кукушкой. А захочешь пить – ключик /родничок/ рядом. Нагнёшься к нему – будто кусочек льда отведаешь.
Лет через десять после войны, приехав на родину в отпуск и бродя по первой отцовской старине, я долго плутал меж деревьев, кустов и высоченного – с человеческий рост – багульника, пока не наткнулся все-таки на спрятавшийся в траве ключик и не попробовал из него водички, ломящей зубы до боли. Но сколько ни жил отец в Гарюшках – было ему тут не по душе, не по нраву, тянуло его на другое место – к солнцу, к свету, к простору. И поселился он у подножия Таниной горы, на её восточном склоне, на горизонтальной площадке, будто специально оставленной природой для дома. Не лишённый чувства романтики, отец и вправду выбрал красивое место. То, что отлично было видно с Таниной горы, хорошо просматривалось и из окон нашего дома. Но легко сказать «переселиться». Переселению усиленно противился родной брат отца – Зотей, у которого под Таниной горой была не одна пашня. После долгих переговоров, споров, препирательств, доходивших до ругани и оскорблений, отец всё-таки переселился. А места для новой усадьбы оказалось до ничтожества мало. Колодец был вырыт, а баня построена на кромке земли, принадлежавшей тому же Зотею. Овин примостился на краю пашни дяди Савватея. Вот и живи, и крутись, как на пятачке.
Старшему сыну Петру к моменту переселения под Танину гору сравнялось пять лет. В холщовых штанишках – первых штанишках, сшитых для него, он едва поспевал за матерью, которая вела его за руку на новоселье, пока не отстал совсем. Прибежал уже один, но без штанов. Когда пошли их искать, нашли две трубочки – штанины, похожие на два меха деревенской гармошки – минорки. Оказывается, Петру дорогой захотелось покакать. Постеснявшись сказать об этом матери, он нуждишку детскую справил, не снимая штанов, а потом, расстегнув одну-единственную пуговицу /у всех штанов, сшитых из холста, обычно пришивалась только одна пуговица, лишь бы штаны не спали, не сползли/, вынул из штанин сначала одну, потом другую ногу – и был таков.
Деревянный дом наш, посаженный на мох, с виду был длинный – восемь окошек смотрело на восток, туда, где разместились другие дома деревни Кузьмичи, где была Сенихина перемена, где жил Кузьма Борисович Киряков, на Петровичи и Балабанову гору, на лес, в котором затерялась Солёная речка, на шестьдесят второй разъезд железной дороги, на Медведевскую будку, на Лазаревичи. В одной избе, наиболее утеплённой, с тремя неширокими и невысокими окошками на улицу /а вернее сказать, на поле/ мы жили зимой. У стены слева стояла деревянная лавка /скамейка/ на четырёх ножках. Такая же лавка была у окон. В углу стоял простенький деревянный стол, покрытый протёртой на углах клеёнкой. Над столом, в переднем углу, – маленький иконостас, а в нём – всего-навсего две иконы. На одной была изображена Богородица – Матерь Божия с ребёночком на руках, а на второй – Николай Угодник.
На стенах не висело ничего, что бы украшало избу: ни картин, ни фотокарточек, ни часов. Справа много места занимала сбитая из глины русская печь. На неё всегда был постлан лист железа с заклёпанными краями. На том листе железа сушили зерно, а то и грелись сами, загнанные хлёстким морозом. Перед печью – нечто, похожее на кухню, называемое середью. Слева от двери стояла лоханка /лохань/, в которую сливали помои, а потом ими поили корову или овец. Ещё стояло в избе несколько табуреток, ухват, сковородник, помело, веник, клюка. Вот, пожалуй, и всё. Деревянную кровать – единственный предмет мебели, в котором быстрее успели занять место клопы, чем мы, смастерил отцу по его заказу какой-то мужик-столяр.
Отец с матерью спали на полу, головой к окнам. Вместо матраца стлали неизвестно когда скатанный войлок, под голову клали единственную в доме подушку, укрывались тулупом. А для нас, ребятишек, – печь и полати, голбец и лавки. Устраивались кому как удобнее. О матрацах мы и не слышали. Подушек не знали. Одеял не видели. Простыни считались мечтой. Всё, что валялось на полатях, – понитки, холщовые штаны и рубахи, пестрядиновые становины, шапки, варежки, онучи и разное ношеное-переношеное ремьё /тряпьё/, называемое обносками, было для нас подходящей постелью. Клопы, тараканы и вши что есть мочи кусали нас, но, к счастью, съесть не могли. Набегавшись, намёрзшись и наголодавшись за день, мы засыпали, не чуя возни надоедливых насекомых.
На зиму ставили в избу железную печку. Нагревалась она столь же быстро, сколь быстро и остывала, потому что вторые рамы в окна никогда не вставлялись. На полатях от нагретого спёртого воздуха лежать становилось невмоготу, и мы один за другим прыгали на пристройку к русской печи – голбец, а с него по приступку – на пол. Те, кто годами помоложе, полз с полатей на печь по брусу. Часто то один, то другой, еле протерев глаза от сна, срывался с бруса и грохался на пол, подымая рёв. Мать, ворча, кричала на нас:
– Опять забазонили! Леший вас носит!
На полу лежали до тех пор, пока не выстывало в избе. И снова – юрк на полати. А иногда выскакивала из паза полатная доска, и мы вместе с ней летели на пол.
Весной, перед Пасхой, переходили жить в летнюю избу с горницей. К переходу за зиму вымерзали тараканы. Но клопы только прикидывались, что замерзли. В этой избе простора больше раза в два. К обеим избам примыкали длинные сени с окном на баню и Синюю гору. За сенями – двор с двумя хлевами. В одном зимовали овцы, в другом – теленок. Свиней, гусей, коз у нас никогда не держали. Был ещё и амбар, и так называемая «подкрыша». Между домом и амбаром – двухполотняные ворота.
Утром, встав и умывшись – иной раз с мылом, а чаще всего без мыла – из рукомойника /умывальника/, мама щепала лучину, совала её под сложенные в печь ещё с вечера поленья и затопляла печь. Отец надевал штаны, вставал перед столом лицом к иконостасу и начинал молиться богу. Заставлял молиться и нас. Полагалось в полголоса, а то и шёпотом читать молитву, креститься и кланяться в пояс или до земли /до полу/. В левой руке держали лестовицу, отсчитывая по ней число поклонов. Моленье считалось законченным, если поклонишься не менее двухсот раз. Легко ли это было –сами поймёте, если за пятнадцатиминутную нынешнюю физзарядку делается движений значительно меньше. Чтобы быстрее отделаться от однообразного, надоедливого моленья, лестовицу перебирали быстро: перекрестишься и поклонишься один раз, а отсчитаешь три. Да и молитвы надоедали. Поэтому иной раз бормочешь, что в голову придет, лишь бы отец и мать, исповедовавшие кержацкую /старую/ веру, не слышали: «Господе Исусе, вперёд не суйся, сзади не оставайся, в серёдке не мешайся».
Молились и перед тем, как сесть за стол. Завтрак почему-то звался обедом, обед – паужной и только ужин – ужином. Семеро братьев и две сестры, мы едва размещались за небольшим деревянным столом. Самых маленьких держали на коленях отец и мать. Еда была постной, простой и каждый день одинаковой, особенно в Великий пост – в марте и апреле: чёрный хлеб, варёная картошка да солёная мелко нарубленная капуста. А если появлялась на столе похлёбка, мы враз оживлялись, поблёскивая глазами. А если мама ставила на стол мясные шти /щи/, то для всего нашего большого застолья это был настоящий праздник. Хлебать похлёбку или щи начинали по сигналу отца /в этих случаях он стучал ложкой о кромку миски/. Часто разгорались драки. Слышно было, как трещали по лбам деревянные ложки. В руке оставался один черенок. Считай, что на этом твой обед заканчивался.
Зимой отец лесовал /охотился/. Для охоты припасал капканы, проволочные петли, лёгкую деревянную лопатку, лыжи. Капканы и петли ставил на зайцев, лис, куниц. Случалось, убивал и лося. Снаряжался на охоту до удивительного легко, не по-зимнему, надевая на себя обыкновенную старенькую лопотину /пальто/, а обувался, как и летом, в лапти. Кроме этого непременно пристраивал за спину крошни из лыка /вид уральского деревенского ранца/. К крошням привязывал холщёвую торбу /мешок/, в которую клал каравай хлеба, сухари, соль, картошки, спички. Не забывал и компас. Вставал на тяжёлые, подбитые кожей с мехом лыжи. Такие лыжи он называл кысовыми. Шёл на них без палок и по ровной местности, и под гору, и в гору. Лыжи эти отличались тем, что при подъёме на гору они не скатывались назад.
Как и рыбачить, охотиться отец забирался далеко от дома, на многие километры, бывало, и плутал в лесу, не возвращаясь домой по многу суток подряд. В такие дни мы подолгу не ложились спать, ожидая, что вот-вот придёт с охоты отец, войдёт в избу, гремя застывшими на морозе лаптями, и будет обрывать с усов и бороды сосульки, а они, негромко стукая, будто горошины, станут падать на пол, образуя водяные пятна. Как и с рыбалки, отец не возвращался с охоты с пустыми руками, а обязательно приносил то лису, то куницу, то пяток заячьих туш. Иногда уезжал смотреть петли и капканы на лошади. Возвращаясь, вытряхивал из саней десяток неживых белых зайчишек.
Пытался было охотиться и я, но из этого вышло мало толку. Однажды приготовил петли из проволоки, привязал их к палкам, встал на самодельные лыжи и побрёл в лесные гарюшки. Повстречав заячью тропку, я старался обойти её так, чтобы затем подкрасться и незаметно поставить петли. Оказывается, надо было решительно пересекать заячью тропу, а затем ставить петлю на заячью тропу и с одной, и с другой стороны лыжни так, чтобы заяц и не подозревал, что тут ступала нога человека. Зная, что зверь хитёр и чуток, отец, уходя на охоту, тщательно мыл и протирал руки, чтобы они буквально ничем не пахли. Шкурки зверей отец сдавал на заготпункт в Шамары.
Закадычным другом отца по охотничьим делам был маленький, юркий, любивший матькаться /ругаться матом/, а иногда и прихвастнуть Миней Григорьевич Попков, умерший в 1964 году в деревне Шамарке.
Но охота охотой, рыбалка рыбалкой, а семью, которая с каждым годом прибывала, одной рыбой не прокормишь. Как и все крестьяне нашей лесной деревни, отец, пока жил единолично, сеял овес, рожь, лён, садил картофель – словом, делал все те неизбежные в деревне работы, без которых крестьянин – не крестьянин. Собираясь на работу, отец обычно садился на крыльцо, разминал онучи /портянки/ и поднимал такую пыль, словно лошадь проскакала по дороге.
Работал отец споро, не ленясь, умеючи. Выручал его Воронко – непомерно ленивая, но проворная лошадь. Недаром про того, кто в деревне был ленив и неповоротлив, говорили «как Трофимов Воронко». Чтобы заставить его бежать рысью, приходилось самому вспотеть не один раз, выкрикивая разного рода печатные и непечатные понудительные слова. Косить ли траву, метать ли сено, жать ли овёс – всё делал отец одинаково сноровисто, споро, умело. Бывало, пойдём жать рожь серпами. Срезая серпом, который обычно держат правой рукой, стебли ржи, отец придерживал или, как говорили, захватывал левой рукой такую большую горсть стеблей ржи, что из них выходил сразу добрый сноп. Приходилось мне присматриваться к другим деревенским мужикам, но ни у кого такой хватки, как у отца, я не замечал. Шурин отца – Алексей Трофимович Калинин – рассказал мне впоследствии, что отец нажинал за день по 14 суслонов ржи /11 снопов в каждом/, тогда как он, Алексей Трофимович, самое большее – только по 6 суслонов.
Умел отец плести лапти, плести морды /род ловушки для рыбы/, вить верёвки и многое другое, без чего нельзя обойтись в деревне.
Не знаю, учился ли отец, скорее всего, – нет, потому что читать он не умел, а мог только медленно, выводя букву за буквой, расписываться. И в божественных делах, насколько я знаю, не очень-то смыслил. Несмотря на это, избрали его как-то церковным старостой. За какие заслуги он удостоился такого «почёта», по чьей инициативе был выдвинут на такую общественную должность, – трудно сказать. Знаю только, что на этом «поприще» отец наш ничем особенным себя не проявил и при первом подходящем случае был переизбран. Чему, как мне кажется, он был рад.
Однажды, по первому санному пути, запрягши лошадь в дровни, взяв лямку /холщевую сумку/ и положив в неё краюху хлеба с солью и штук пять варёных картофелин, поехал отец в гарюшки, чтобы срубить и привезти домой толстое-претолстое бревно и вытесать из него лодку-долблёнку. Прошёл целый день, а отец не возвращался. Обеспокоенная, мать послала по санному следу старшего сына Петра. Тот, когда встретил тятю, то, по его выражению, перепужался /испугался/. Оказывается, отец и подходящее дерево срубил, и очистил его от сучьев. А когда стал наваливать дерево на дровни /это один-то/, то, не рассчитав сил, угодил под дерево. С тех пор голова у отца была сплющена – тяжёлая память в столь же тяжёлой крестьянской жизни.
Лишь бы прокормить семью, отец пускался и на такое, хоть и не очень прибыльное дело, как заготовка дубкорья, благо ивовых деревьев в окрестных лесах было предостаточно. Сдирать ивовую кору он брал с собой и старшую дочь Алимпиаду, и старшего брата Петра, и меня. Занятие это не столь утомительное, сколь однообразное. Помню, повёл нас отец за Сылву, а потом за Солёную речку, к шестьдесят второму разъезду, драть это самое корьё. К тому времени хоть и было отцу за пятьдесят, шёл он, заядлый охотник, по лесу, не останавливаясь, очень ходко, по дороге и без дороги, заранее зная, где перешагнуть через речку, где обогнуть болотце, где миновать топкое место. Мы с Петром едва поспевали за ним. Мне в ту пору было лет девять-десять, а Петру – лет четырнадцать-пятнадцать.
Отшагав километров десяток, мы принялись за дело. Ивовую кору, содранную с деревьев, связывали в пучки. Драли корьё, пока не стемнело. А потом разожгли костёр, наварили картошки, поели и улеглись спать. Ещё с вечера стало заморачивать /заволакивать небо тучами/, а под утро – нещадно мочить. Надежды на прояснение – никакой. В плохой одежонке да под проливным дождём робить /работать/ не будешь – только намаешься. Взглянув ещё раз на небо и почесав там, где засвербело, отец сказал, что робить больше не будем, а пойдём домой. Но повёл он нас под Танину гору не напрямик, через лес, а по железной дороге на станцию Шамары /как поётся в одной частушке: «Вдоль по лении, по лении, по лении тропой»/, а уж из Шамар – в Кузьмичи. Как бы там ни было, а набиралось шестнадцать километров, которые для отца, исходившего по нетронутым лесам сотни вёрст, считались сущим пустяком, а для меня лично – расстоянием немалым и нелёгким. К тому же дождь делал сплошное заграждение между землёй и небом. Пережидать его не имело смысла. Встретивший нас около железнодорожной будки, называвшейся в народе Медведевской, рабочий-железнодорожник, ответив на приветствие отца, кивнул головой в мою сторону и молвил этак озадаченно:
– Ему бы дома сидеть да в бабки играть, а вы уж на работу взяли.
С трудом дошагал я своими тонкими и тощими ножонками до станции, а оттуда – до дому. К тому же к подошвам лаптей липли, словно банный лист к мягкому месту, комья грязи. Помню, на Синей горе Пётр стал потихоньку, будто надумал отлучиться до ветру, отставать от нас, а потом и совсем скрылся из виду. Куда он девался, отец не особенно забеспокоился, только мама спросила, когда вошли мы в избу.
Лишь несколько лет спустя я узнал, что ни дождь, ни усталость не помешали Петру пойти на гулянку в дом возле Синей горы. Любовь поборола усталость! Когда мы с отцом пришли домой, мама стала собирать ужинать. Уж и не помню, поел ли я, только знаю, что залез на печь и прометался в жару много дней подряд. Выжил, конечно. То хождение к шестьдесят второму разъезду показалось мне необычным, чуть ли не героическим, и я потом, когда научился мало-мальски сносно читать и писать, взял да и выпустил домашнюю стенгазету, которую повесил в простенке избы /между окнами/. Газета висела, пока вконец не пожелтела, и не стали шуршать под ней тараканы. Теперь, по прошествии многих десятков лет, я понял, что в ту далёкую мальчишескую пору я был ещё очень хил и слаб для настоящей мужской работы. Отец и мать, не скрывая радости, ещё долго показывали ту самодельную газету гостям, не очень-то грамотным, как и они сами.
Ещё занимался отец вместе со мной – это, кажется, в первые колхозные годы – заготовкой веточного корма. Мы просто-напросто портили нежные, мягкие, тёплые берёзовые сучья, отсекая их от матери-берёзы и связывая в самые обыкновенные веники, которыми зимой парятся мужики и бабы в бане. Веники за лето, конечно, подсыхали, а осенью и зимой подавались скотине и на первое, и на второе. Не знаю, нравился ли такой корм, скажем, корове, но, по-моему, она всё-таки предпочитала душистое сено.
А гости съезжались к нам на праздники каждый год, как и отгащивали у них отец и мать. Чаще всего гостили братья отца, братья и сёстры мамы, бывали и прочие родственники, дальние и близкие, и просто знакомые, с которыми отец был в хороших отношениях. Пока мать ставила на стол и разрезала рыбный пирог, подавала вилки и ложки, отец возился с лагуном. Нацедив сквозь сито в ведро или чайник браги, отец наливал её в гранёный стеклянный стакан и начинал «рядовку» /подносить стакан браги сидящим на лавке гостям по порядку/. Поднося стакан с мутной, но крепкой, настоянной на хмелю брагой, отец, как обычно, произносил:
– Отведайте, пожалуйста, Лев Минеич!
– Спасибо, Трофим Захарович!
– Да что вы, выпейте на здоровье!
– Спасибо, спасибо!
– Да выкушайте, Лев Минеич!
Только после такого диалога гость принимал стакан из рук хозяина и пригублял не более полустакана.
Диалог продолжался.
– Что же это вы, Лев Минеич, так мало?
– Спасибо, большое спасибо!
– Выкушайте ещё, если в требу!
– Нет, что вы!
– Прошу вас, дорогой гостенёк!
Гость чурпал /выпивал/ глотка два, не более, и передавал стакан отцу. Тот, видя, что треть стакана не выпита, начинал снова подносить его гостю. Тот по-прежнему вежливо отнекивался или бережно отводил стакан рукой. Тогда отец подходил к ведру или чайнику /смотря во что была налита брага/ и принимался за другого гостя. Церемония угощения вновь продолжалась минуты три. Старики об этом хорошо помнят. И видят, что теперь гость принимает кружку с брагой или стакан с водкой из рук хозяина с первого подношения и осушает, иной раз даже не поморщившись, до дна. Потому-то через час-другой гость летит с копылков долой, мирно и дружно тянущейся беседы, как бывало раньше, не получается.
Пока отец обносил рядовку, мать заканчивала выставлять угощение на стол. Среди прочих яств, припасённых ради праздника, красовался рыбный пирог в пшеничной корке. Гости не спеша занимали места за столом. Процесс угощения, хоть и с меньшими церемониями, но продолжался. Когда в избе были гости, нас, ребятишек, отсылали на полати, чтобы мы не мешались, как говорила мама, под ногами. Если кто-либо подавал голос или выдавал себя криком, мама начинала «счувать» /уговаривать/, а отец грозился «наохобачивать» /набить/. Мы на минуту замолкали, прячась в глубине полатей. Но только на минуту. Рыбный пирог, жареная рыба, шаньги, сладкие пироги тянули нас сильнее магнита, и мы вновь высовывали свои обросшие русыми волосами нестриженные головёнки, уставя шары /глаза/ на то, что лежало на столе и, казалось, само просилось в рот. Видя нашу возню и жадно раскрытые глазёнки, мать подавала через брус каждому по корке пирога или по куску пшеничного хлеба – и мы умолкали. А разговоры за столом, восклицания, смех не утихали. Потом дядя Кирьян /муж маминой сестры Прасковьи Трофимовны/, растягивал меха гармошки и сам же тоненьким /не мужским/ носовым голосом, начинал петь частушки /никто другой не мог петь эти частушки так, как их жалобно, заунывно пел дядя Кирьян/:
У мня мама дорогая
Никогда не забранит.
Приведу симпатку на дом,
Мама чаем напоит.
–
У родимой мамоньки
Спала я – высыпалася,
А у злой свекровушки
Слезами обливалася.
–
Узинька дороженька
Да вся искривулялася,
Бассинькя девчоночка
Да вся иззадавалася.
–
Где-то дожжичек дожжит,
Где-то заморачиват.
Скоро миленький придёт,
Вот уж заворачиват.
–
С беленькой котомочкой
Ночую под сосёночкой,
Ночую под сосёночкой
С бассинькой девчоночкой.
–
Миленький, женись, женись,
Приду на вечериночку,
Буду петь, буду плясать —
Не выроню слезиночку.
–
Это что за пригородка
В поле пригорожена,
Это что за ухажёрка
На кровать положена.
–
Это что за озеро
Срди зимы выбуриват?
Это что за девушка
Сидит да выкомуриват?
–
Через тёмненький лесок
Подай, милашка, голосок.
Через быстру реченьку
Подай, милашка, рученьку.
Как только он заканчивал петь, отец повторял рядовку. Между тем рыбаки и охотники который раз вспоминали забавные случаи. Женщины судили-рядили про обновы, про сыновей и дочерей, про то, у кого сколько молока даёт корова, хвалили дочерей-невест /уж шибко хороша моя девка: личико красенькое, ножки беленькие, титьки бассинькие, голяшки тугие и мохнушка есть/.
Случалось, затягивали песни и хором. Любимой песней отца была песня «На московской мостовой». Запевал он её, как правило, сам и вытягивал каждое слово с большой старательностью. Вот слова этой песни:
На московской мостовой, мостовой
Стоял парень молодой, молодой.
Вдруг парнишечке взгрустну-взгрустнулося,
И он залился слезой.
А слеза та покати-кати-катилася
По евоновой щеке,
Со щеки она скати-кати-катилася
И упала на живот.
С живота она скати-кати-катилася
Прямо в валеный сапог.
Сквозь подмётку просочи-сочи-сочилася
И упала на песок.
На песке она валя-валя-валялася,
Пока дворник не подмёл.
Дворник тот в рубашке краси-краси-красинькой
С тёмно-красным пояском.
Отец любил при гулянках музыку, пел солдатские песни, шуточные и народные, а также частушки. Особенно любил песню «Шумел, гремел пожар московский». Песню «На московской мостовой» вспомнил и спел старший сын Пётр пятого октября шестьдесят пятого года, в день своего пятидесятилетия, когда отца уже без малого двадцать лет как не было в живых.
На другой день праздника или на другой праздник отец и мать уезжали отгащивать к кому-либо из тех, кто был в гостях у нас. А мы, ребятня, выбегали кто в чём на улицу и глаза наши разбегались по снежному простору, изрезанному, исполосованному, перетянутому ниточками полозьев кошов и саней. Ещё вчера к дому нашему под Таниной горой вела снизу и сверху только одна проторённая зимняя дорога.
А сегодня дорог этих понаделано столько и в таких направлениях, что не сразу и сообразишь, зачем тут проехал человек. Одна – не иначе как пьяный съездил на лошади по пешеходной тропке прямо к колодцу. Другой – напрямик, без дороги, ударился к Нагайскому логу. Третий рванулся в лесную пикоть Гарюшек, туда, куда никто сроду на конях не езживал. Четвёртый бросился по снежной целине на крутую Танину гору. Пятый – видимо, из озорства – долго колесил вокруг одиноко стоявшей ели, пока не направил лошадь вожжами в нужную сторону. По санным следам без труда можно было читать похождения захмелевших гостей. Может быть, гостей люди принимали и потчевали как-либо по-другому, но, в общем-то, обряд такого праздника с подношением браги, рассказами, воспоминаниями, песнями, плясками оставался тот же.
Старшему сыну Петру, подраставшему с каждым годом и узнававшему вкус в праздниках, тоже хотелось побывать в гостях. Но, как назло, отец и мать не брали его с собой: как старшему среди прочих братишек ему полагалось присматривать за нами. Как-то в Рождество или на масляной неделе отец и мать собрались в гости к Трофиму Дмитриевичу, вернее, к его жене – маминой маме на Балабанову гору. Сколько Пётр ни упрашивал взять его с собой, отец с матерью не соглашались. Тогда он пустился на хитрость. Под предлогом того, что вышел на двор побегать, он спрятался за кошевой /лёгкими выездными санками/, от нечего делать высунул язык и дотронулся им до железного стержня, который был приделан к задку кошевы. Когда отец и мать уселись в кошеву и понужнули /стегнули/ лошадь, то заметили, что Пётр примостился на запятках /на кромках полозьев/.
– А ну, живо беги домой, – повелительно сказал отец.
Пётр ни с места.
– Кому говорят! – уже с нескрываемой злостью громко сказал отец.
Пётр по-прежнему не отрывался от кошевы. Тогда отец легонько ударил его витнем. Пётр отстал. Но отстала от его языка и полоска кожи, примёрзшая к железному пруту.
Знаю, что играл отец и на гармошке. Но, возвратясь однажды из гостей в сильно пьяном виде, он ни за что ни про что швырнул ту гармонь в затопленную русскую печь, и с тех пор никто не видал у него в руках гармошки.
Праздник праздником, гости гостями, но отец не забывал и нас, ребятишек, особенно после Рождества, когда в моде ряженые, по-уральски – шуликуны. Вывернув наизнанку и напялив на себя длинный, видавший не одну вошь и перенесший не один жестокий мороз тулуп, накрыв свою, настоящую, бороду бородой из кудели, подрисовав лоб, нос и щеки углем и сажей, отец садил нас, довольных и смеющихся, в сани и гнал по мягкой, но холодной снежной дороге под гору. Дом Калины Глухого оставался в стороне, влево, Кузьмы Борисовича – вправо, Гришки Ваничкина – влево, Оноса – вправо. Рады-радёхоньки, следом за тятей входили мы в избу к дяде Антону – Антону Трофимовичу Калинину. Смех соединялся со смехом, шутка – с шуткой, забава – с забавой. Кто-то чиркнул и поднёс к тятиной бороде спичку. Вместе с артистической, париковой, кудельной бородой чуть не была сожжена своя, настоящая, неподдельная борода.
Неграмотный отец выписывал «Крестьянскую газету» и журнал «Лапоть». И на сходки /собрания/ ходил, и немое кино, как только его начали показывать в деревне, смотрел.
Наступала неспокойная, переломная, небывалая в жизни крестьян пора – пора коллективизации. Несмело, с опаской и оглядкой вступали в колхоз один за другим соседи. Немудрено догадаться, какая буря бушевала в душе моего отца. Отец, дед, прадед и прапрадед – словом, все предки жили единолично. А тут на тебе – колхоз. Плохо жили до колхоза, а вдруг будет ещё хуже того? Ходил, присматривался отец к первым колхозникам, чесал затылок, думал, ворочался ночами, кашлял, кряхтел, не спал. Работящий, тихий по натуре, привыкший хоть и к скудным, но своим, десятинам земли, к ленивому, но своему Воронку, отец не решался идти в колхоз. Не жаль было отцу, кажется, только сохи да деревянной бороны. К осени, увидев, что соседи, поработав год сообща, привезли домой зерна не меньше, а больше, чем они выращивали раньше, живя единолично, отец не на шутку задумался. Может, и нам записаться в колхоз, размышлял он вслух. Куда все, туда и мы.
– Да что ты, Трофим, побойся бога. Разве пойдём мы в колхоз. Столько лет жили без колхоза, неужели не проживём и дальше? – говорила мама.
Зимним морозным утром тридцать второго года, щурясь от заглянувшего в окошко солнца, отец усадил старшего сына Петра за стол и твёрдо сказал:
– Пиши-ка, сынок, заявление, чтобы приняли нас в колхоз.
Вскорости несколько деревенских мужиков, поддавшись слухам о том, что у тех, кто вступил в колхоз, обобществят не только лошадь, но и корову, но и кур, но и овец, стали выходить из колхоза. Вышел и отец. А брат его старший – Савватей Захарович – смекнул, что не худо вообще оторваться от родного места и податься в далёкую Сибирь: авось там никаких колхозов нет. Собрав пожитки и заколотив дом, он действительно уехал в Горную Шорию, но года через два возвратился обратно и, не говоря никому худого слова, записался в колхоз.
Оказавшись в коллективном хозяйстве, отец остался верен своей рыбацкой привычке. Уже возглавляя небольшую бригаду рыбаков, он сдавал рыбу в колхоз. За это ему, как полноправному члену колхоза, начисляли трудодни. А зимой сторожил колхозный склад с зерном на бывшей усадьбе раскулаченного Еремея Ивановича Калинина.
Довоенные колхозные годы в нашей деревне не походили один на другой. Как в поговорке: то густо, то пусто, то нет ничего. Но общественная жизнь брала своё, и вскоре во всех Кузьмичах не осталось ни одного единоличника.
А годы шли. Подрастали сыновья и дочери, старели отец и мать. В сорок первом нагрянула война, убавившая нашу большую семью: вслед за Петром ушёл на фронт Антон, а затем призвали в армию и Ивана. Война не спрашивала, кому сколько лет и каково здоровье. Много лет мучившийся грыжей, как бы наградившей отца за тяжёлую многолетнюю работу, он и в военные годы, заканчивая отсчитывать седьмой десяток, не помышлял об отдыхе.
Последние две мои встречи с отцом произошли в сорок пятом – победном году. Раненный немецким снайпером пулей навылет под Кенигсбергом, я лечился в госпитале в Павлово-на-Оке под Горьким. Там и застал меня выстраданный потом, кровью и жизнями миллионов людей День Победы. А через пять дней после того, как замолчали многочисленные военные фронты, я выписался из госпиталя как выздоровевший. Велико было желание попасть на родину, встретить отца, мать, сестрёнок, братишек, родную деревню, Сылву, Танину гору и многое-многое другое. Препятствовали этому только документы. Они предписывали мне прибыть в Москву, в отдел кадров военного округа. Как значилось в предписании, я обязан был явиться туда 24 мая 1945 года. Как ни упрашивал я начальника Павловского госпиталя, коменданта Горького и коменданта станции Горький разрешить мне заехать на Урал, они остались непреклонны. Не помогло ни упоминание о том, что в моём распоряжении есть ещё десять долгих суток, ни то, что я только что выписался из госпиталя. Тогда я рискнул рвануть на родину самовольно, хотя бы дня на три, не собираясь, однако, ни на час опоздать в отдел кадров округа. На станции Горький под видом знакомого, провожающего девушку-солдатку, я, взяв её чемоданчик, благополучно вышел из вокзала на перрон и сел в вагон.
А под утро шестнадцатого мая поезд доставил меня на территорию родной Свердловской области, в край многочисленных заводов и бескрайних лесов, бурных рек и высоких гор. Майская тёмная и тёплая ночь победного года прикрывала поезд и спавших в нём пассажиров. Ещё шесть часов езды до родной станции, но мне о сне и не думалось.
Всякий раз, подъезжая к родным местам, волнуешься непременно, переживаешь обязательно, наливаешься новыми силами. Но волнение, охватившее меня в ту памятную майскую ночь, не сравнить ни с каким другим: настолько особым, неповторимым, неописуемым оно было. Хоть и не видно ничего в темноте ночной из вагонного окна, но глаза так и впиваются в мелькающие мимо силуэты елей, пихт, гор, домов, столбов. За станцией Кунгур стали попадаться места близкие, дорогие, понятные, напоминающие о родине и годах молодости. Засверкала, заблестела, зашуршала на перекатах река Сылва. Сердце ёкнуло при мысли о том, что она, прежде чем оказаться здесь, так же живо пробежала в Ивановичах, мимо окон отцовского дома. Уставившись на горную красавицу, я подумал: может, отпечатались в ней и места родные.
А по обе стороны полотна железной дороги – дремучие уральские леса. Казалось, словно зенитные орудия, вечно стоящие на страже седого Урала с его несметными богатствами. Им повезло: они не слышали шелеста снарядов, воя мин, визга пуль. Под их кронами стоял я в октябрьский вечер сорокового года, отправляясь в неведомый, героический, романтический мир – Красную Армию. Неужели четыре года прошло с тех пор! Да таких года – огненных, смертельных, военных! И все ли, кто стоял в тот вечер под этой крышей, ходят сейчас по земле! Сердце замерло, когда до ушей донесся знакомо певучий, быстрый говор женщины. Можно было не видеть ее лица, но без ошибки сказать, что женщина эта – не смоленская и не украинская, а именно уральская. Таким же голосом, так же нараспев, такими же особыми, понятными только уральцам, словами, говорила она, как и мама, не знавшая еще, что сын ее возвратился с войны и стоит сейчас, волнуясь и переживая, на родной станции.
Не было сил ждать рассвета, и я зашагал к реке Сылве, распахнувшей свои воды так, словно широкие ворота были открыты настежь. Мутная и быстрая, вода неслась без остановки. Ей тесно стало в берегах – и она раздалась вширь, затопив луга. Чтобы попасть на другой берег, надо было найти лодку. Чья она, где перевозчик – раздумывать я не стал, а столкнул лодку на воду, вскочил в неё и поплыл. Вода упорно тащила лодку вниз по течению, словно санки под гору, не очень-то повинуясь взмахам вёсел. Но минут через двадцать я был на другом берегу, втащил, насколько хватило сил, лодку на берег и, разгорячённый, побежал домой по знакомой с детства тропинке – вначале по лугам, затем взобрался на пригорок с кладбищем, опустился в овраг, вновь поднялся под самую Синюю гору, поздоровался с Таниной горой, юркнул в Нагайский лог. Бежал легко, свободно, весело, как может идти солдат в первые дни после долгой и страшной войны. Земля ещё не успела оттаять, во многих местах лежал, будто не собираясь сдаваться лету, снег. Но вот я ступаю на улицу родной деревни. Легко сказать – ступаю!
Чтобы попасть сюда, надо было пройти не восемь километров, разделявших Шамары от Ивановичей, а тысячи километров по снегам, полям, болотам, дорогам, оврагам Подмосковья, Смоленщины, Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии, не раз первым подняться из траншеи и вести солдат в атаку, десятки раз повидать во сне родные места. Может быть, поэтому мне, фронтовику, посчастливилось первому из коптело-шамарцев в первые дни после окончания Великой Отечественной войны ступить на улицу родной деревни, уже разбуженной петухами. Комок подступил к горлу, слезы покатились из глаз, когда навстречу мне попалась первая жительница деревни – двоюродная сестра Аграфена Савватеевна, муж которой, Никон Григорьевич /по-деревенски Никша/, не вернулся и не вернётся с войны.
Сердце замирало в те последние минуты, что отделяли меня от отцовского дома. Осторожно отворив калитку, я шагнул на ступеньки крыльца. Они скрипнули так же, как в тот день – день отъезда на службу военную.
Дверь в избу, в ту самую избу, в которой мы когда-то жили только летом, оказалась запертой. Я постучал.
Крючок откинула мама и, повернувшись, пошла к окну.
– Мама, ты разве не узнала меня?
Она подняла лицо и, всхлипывая, бросилась мне на грудь. Заворочался, закряхтел отец, слезая с печи. Я увидал, как на лбу и лице его стали расправляться морщины.
Мама засуетилась, чтобы покормить меня, а отец побежал куда-то. Не стоило раздумывать, куда именно. Это всяк поймёт. Через полчаса он возвратился с бутылкой, в которой было граммов триста водки. И я вспомнил в те минуты, как перед проводами меня в армию отец целую ночь пропадал, подавшись в дальнюю дорогу, только затем, чтобы купить мёду и сварить браги в честь моего отъезда в армию.
Несмотря на то, что в деревню я вошёл ранним утром и никого, кроме двоюродной сестры Аграфены, не встретил, родственники и соседи сразу потянулись к нам, как съезжались и сходились когда-то на праздник. Первым перешагнул порог сгорбившийся, низкорослый, туговатый на одно ухо дядя Савватей – старший брат отца. Едва успели мы с ним поздороваться, как распахнулась дверь и вошёл дядя Зотей – младший брат отца, с которым он рыбачил накануне. Чудом узнавшая о моём приезде, прибежала из-за реки, из деревни Шамарки, старшая моя сестра Алимпиада. Дверь избы беспрерывно хлопала. Каждому хотелось увидеть не только что живого, тёпленького солдата, прогретого и промороженного войной, но и своими ушами услышать, а какая это была война, что такое за фашисты и как это они, дойдя почти до Москвы, а до того захватив многие страны, показали всё-таки пятки и побежали назад, даже мимо Берлина.
Вопросам не было конца. Пробудь я дома не три дня, а три недели, меня, кажется, всё бы спрашивали и спрашивали. По лицам родственников и соседей я заметил, что четыре года войны для них были не четыре версты, что жилось им не легче, а, пожалуй, тяжелее, чем солдатам на фронте. Это выдавали и лица, и фигуры людей, и походка, и руки. На что уж сестрёнка Нюра, которой в первый военный год успело сравняться только тринадцать, и братишка Михаил, на год её моложе, и те пошли в войну на работу. Они плели лапти в артели «Сылва-лес». Они знали, что старшие их братья бьются на фронте, и сердце им подсказывало, что надо плести лаптей больше, и плести их как можно лучше. Потому-то и они бросали клич: «Даёшь пять лаптей!» вместо трёх по норме за день, хотя и знали, что лаптями немца не закидаешь, но рабочие, обутые из-за недостатка кожаной обуви в лапти, сделают для фронта нужные вещицы, которыми вполне можно закидать противника.
Когда я рассказывал, как били и чем били наши солдаты гитлеровских захватчиков, родственники мои и соседи охали и ахали. То у одного, то у другого нет-нет да и вырывалось:
– Ой, да это чо же еко-то! /Ой, да что же это такое!
Радость встречи с родными была омрачена только тем, что не было никаких известий от братьев /Леонида и Ивана/. К счастью, позднее мы узнали, что они живы.
Три дня свидания с отцом и матерью, родственниками и соседями пролетели вихрем. Числясь в списках наших Вооруженных сил, я обязан был явиться в Москву, в отдел кадров, для назначения прохождения дальнейшей службы. Собираясь меня провожать, отец собирался и на своё любимое занятие – на рыбалку в Коптелы. Не знал он только тогда, да и никто из нас тоже не ведал, что это будет одна из последних его рыбалок.
В июле или августе сорок пятого, когда подошла страдная пора, отец отправился со старшей дочерью Алимпиадой косить траву на вторую свою старину /под Танину гору/. Как рассказывала потом Алимпиада, день был жаркий, солнце палило что есть мочи, высекая пот не только с их лиц, но и спин. Разгорячённый, отец пошёл к заброшенному колодцу и зачерпнул полный чайник холодной-прехолодной воды. Сделает прокосево – выпьет водицы. Пройдётся ещё раз – опять выпьет. И так до тех пор, пока не осушил весь чайник. А затем спустился в низинку, к тому же колодцу, и ещё принёс чайник, полнёхонек воды. И его опростал вскорости. А когда солнце стало садиться за Танину гору, занемог. Только и успел по пути к дому зайти к Акулине Филатовне – старушке, приходившейся женой его родному брату Иуде Захаровичу, и отклепал ей литовку /косу/. Придя домой, слёг. Первое время через силу вставал, выходил на улицу. Чуял, что случилось с ним неладное, что вряд ли он поправится, но мысль о смерти гнал от себя.
В декабре сорок пятого с московских курсов усовершенствования офицеров пехоты я приехал в отпуск. Отец, конечно, узнал меня и до того рад бы моему приезду и не рад был своей неотвязчивой болезни, что, не стесняясь, заплакал. Не снимая шинели, я бросился к отцу, едва узнав его. Вместо обычно полного, хоть и морщинистого лица, вместо сильных мужских работящих рук, вместо ног, исходивших по уральским лесам не одну тысячу километров, можно было увидеть только кожу да кости. Он не мог встать сам с той деревянной кровати, которая появилась в нашем доме в тридцатые годы. А лежать недвижимо надоедало. Чтобы облегчить его положение, мы, подхватив под руки, переводили отца и осторожно поднимали на печь, а затем снова на кровать. Не любивший выпить, он при встрече со мной пригубил рюмочку водки. Но на большее, казалось, не было сил.
Врач из Шамар, навестивший отца, прописал ему каких-то таблеток и порошков, но болезнь, видимо, основательно взялась за организм отца и оставляла мало надежды на выздоровление. Прошёл отпускной месяц, и мне надо было уезжать. Отец заревел навзрыд, догадываясь, что вряд ли ещё когда-нибудь увидит меня. Та же мысль пронзила и меня. Скончался он в апреле сорок шестого года. Прах его покоится на самой макушке Синей горы, через которую он сотни раз ходил по житейским делам в Шамары и под которой он не меньшее число раз рыбачил. На плечи матери и нас, братьев и сестёр, свалилось большое горе.