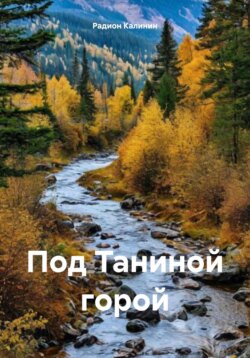Читать книгу Под Таниной горой - - Страница 6
Радион Калинин
IV. Родственники отца
ОглавлениеСамым старшим среди братьев отца нашего был Иуда Захарович, по-деревенски Юдша, высокий, тощий, быстрый на ногу, с козлиной бородкою. Когда мы, племянники, прибегали к дяде Юде в гости, он встречал нас с большим радушием и неподдельной доброжелательностью, находя те особые, дорогие нам слова, которые зароняли тепло в детскую душу. Запомнилось мне, как он на ходу умел без платка так быстро и аккуратно высморкаться, что содержимое носа отлетало на несколько метров в сторону. Как и у каждого человека, был и у него недостаток – плохо слышал одним ухом, потому и просил он разговаривать с ним погромче, в противном случае поворачивал одно ухо к говорящему или переспрашивал непонятное.
Худощавый, поджарый, беспокойный, он, казалось, не признавал плохой погоды. Зимой, бывало, в самую что ни на есть беспросветную падеру (метель) он бежит по дороге через Обскую переменку, лишь чуть нагнув голову. Его не смущало, что на мельнице завозно (много народу). Он всё равно запрягал лошадь и ехал.
Выше простенка над окнами висели в доме дяди Юды часы-ходики с боем. Меня и других братишек, прибегавших в гости к дяде Юде, завораживал этот самый бой часов. Иногда сидишь, ничего не делая, чтобы только дождаться, когда часы издадут таинственный, непонятный нам звук. Если же ждать очередного боя часов не хватало терпения, то мы просили двоюродную сестру Ненилу покрутить стрелку, что она (Ненила) и делала, утоляя наше любопытство и устраивая внеочередной часовой звон.
В зимнюю пору в избе дяди Юды часто собиралась молодёжь на вечерки. Засидевшись допоздна, многие, в том числе и мой старший брат Пётр, оставались тут же ночевать – кто на полу, кто на печи, кто на полатях – чему ни дядя Юда, ни тетка Окулина никогда не перечили.
Прибежал как-то в гости к дяде Юде малолетний сынишка соседа Тита Ивановича. Крепко заснувший, он, вероятно, не в силах был встать, чтобы справить лёгкую детскую нуждишку. Обмочился, бедный. Специфический тот запах ударил в нос дяде Юде, и он, поморщившись, но в то же время погладив парничка рукой по голове, добродушно сказал :
– От тебя что-то сегодня колонком несёт.
Романтик по натуре, дядя Юда вместе с нами, ребятишками, радовался радуге-дуге, одним концом упершейся в гору, а другим – в лес за Петровичами.
Подобно молодому человеку, любившему одну-единственную из всех девушек, Иуда Захарович любил (хлебом не корми!) гнать дёготь. На деньжонки, вырученные от его продажи, справлял одежонку и обувь семье. Иной раз купит полный короб огурцов. Как это ни покажется странным, но, в отличие от отца нашего, рыбалкой он не увлекался. Не тянуло его и на дикого зверя. Колхозное строительство надломило в уме Иуды Захаровича привычное чувство единоличной жизни, и он, заколотив двери и окна своего дома обыкновенными досками, вместе с семьёй подался в далёкую Сибирь в надежде, что там не будет колхозов. Это случилось году в тридцатом.
Года через полтора-два семья его возвратилась на родину и, как ни в чём не бывало, вступила в колхоз. Не вернулся только глава семейства: тугого на уши, его зарезало поездом на одной из железнодорожных станций Сибири. Так трагически закончилась его поездка в поисках лучшей жизни.
Давно нет в живых дяди Юды, но помнят его в деревне. Чтобы вспомнить добрым словом покойника, обычно устраивают в нашей деревне девятины, сорочины и годины. Если отбросить девятины, а справлять только хотя бы раз в год сорочины и годины, то, пожалуй, получилось бы в память о дяде Юде уже без малого сорок сорочин и сорок годин.
Жена Иуды Захаровича – маленькая, коротенькая, но подвижная и бойкая Окулина (Акулина) Филатовна происходила из того семейства Филатовичей, чей достаток (вернее, недостаток) пищи вызывал иронию («Пища-то у нас не как у Филатовичей»). Окулина Филатовна умерла лет через десять после войны в тех самых Ивановичах, в которых она прожила всю жизнь.
Старший сын Иуды Захаровича – Ондрон (Андрон) родился в начале этого века. Невысокий ростом, некрепкий здоровьем, часто скудавшийся сердцем, он всю жизнь занимался по счётной и бухгалтерской части.
Женившись, он жил в деревне Ижболде, затерявшейся в дремучих лесах между Коптело-Шамарами и Сылвой. Умер он от сердечного заболевания в начале сороковых годов.
Второй сын Иуды Захаровича – Марк, по-древнерусски Марушко, заканчивающий отсчитывать шестой десяток, живёт на станции Вогулке Свердловской железной дороги. Ростом выдался в мать. Как обладающего неплохими организаторскими способностями его много раз избирали членом (депутатом) сельского Совета.
У Иуды Захаровича родились три дочери: Анна, Ненила и Александра. Анны и Александры нет в живых. У Анны, выходившей замуж, было два мальчика, наша родня, потому-то мы и дружили с ними и не раз играли возле дома Иуды Захаровича, залезая и скатываясь с соломенного, приятно пахнувшего хлебом омёта. Звали тех ребят по-чудному: одного – Полиертом, другого – Полиешкой. Где они сейчас, друзья далёкого милого детства, и живы ли, к сожалению, не знаю. Ненила (Нина) с дочерью, зятем и внуками живёт тоже на станции Вогулка.
Этим, собственно, и можно было бы закончить рассказ о дяде Юде и его семье. Но мне почему-то захотелось упомянуть об именах: Юда, Окулина, Ненила. Среди людей, родившихся, скажем, после войны, таких имён днём с огнём не сыщешь ни в городе, ни тем более в деревне. Что касается Иуды, то ещё можно подумать, что это еврейское имя. Но дядя Юда, насколько я знаю, близко от еврея не стоял, живого еврея в глаза не видел. А если учесть божественное прошлое Иуды (не нашего дяди), то и совсем никому не захочется носить это имя.
А Акулина, по-деревенски Окулина, Окуля? Не слыхал я что-то последнее время, чтобы в загсовских книгах было написано такое имя.
– Не баское, – скажут в деревне.
– Не подходящее, – изрекут в городе.
Одна из женщин, родившихся и выросших в глухой деревушке Шамарке, чуточку знавшая меня, летом шестьдесят шестого года, встретив меня, этак смешливо-пренебрежительно представилась: «Окулька». Хотя её в действительности не звали Окулькой. Ей казалось, что я засмеюсь, надорву живот, буду вне себя от её открытия. Ничего подобного она не увидела и не услышала. В самом деле – зачем насмехаться над именем, может, и неблагозвучными именами людей, чья жизнь чиста, как капелька воды на траве?
А Ненила? Помнится, у Некрасова встречается такое имя. Значит, оно старинное, выдержавшее проверку временем. Тем не менее нашу двоюродную сестру Ненилу зовут Ниной, считая, что делают ей приятное. А чем плоха, собственно говоря, Ненила? Что в этом имени зазорного, режущего ухо, непривычного? Да ровном счетом ничего. А вот показалось же оно кому-то неподходящим, не ласкающим слуха, «небассиньким», и ни за что ни про что вынудили женщину в годах рекомендоваться Ниной и звать её Ниной.
На мой взгляд, с именами в последнее время большой непорядок. Вначале стали зазорны имена Иуда, Акулина, Ненила /про Полуэкта и Полиерга я уже не говорю/. А теперь – кто бы раньше подумал?! – даже Иван многим кажется несовременным, хотя, если посчитать всех Иванов в нашей стране, они займут, по сравнению, скажем, с Сергеями, Николаями, Петрами, первое место.
Следующим по старшинству братом отца считался Савватей Захарович, попросту – Савотьша, носивший, как и каждый житель нашей деревни, кличку, причём кличку довольно странную – «Манана». Невысокий ростом, бородатый, в меру набожный, припадающий при ходьбе на одну ногу, беспокойный, всю жизнь возившийся с ульями и пчёлами – таким мне запомнился Савватей Захарович. Умер он в середине грибного лета в 1956 году после сердечного приступа, случившегося с ним на угоре возле конного двора в пути к пчелиным семьям, жившим в чурках на деревьях в Гарюшках.
Насколько помнится, он был строг, порою беспощаден к детям, бережлив, умел постоять за себя, не всегда уступал другому. Как-то /это было в начале тридцатых годов, когда ещё жили единолично/ три семьи – Иуды Захаровича, Савватея Захаровича и Трофима Захаровича – жали овёс жаткой-самосброской между Курьями и Изволоком на лесном поле, со всех сторон загороженном берёзами и поровну разделённом между тремя братьями. Поскольку жатка принадлежала Иуде Захаровичу, сперва жали /косили/ и вязали снопы на его полосе. А рядом – полоса нашего отца. Казалось, чего проще, как приступить к ней. Но Савватей Захарович настоял на том, чтобы жатку перегнать на его полосу, а уж что до нашей – то в последнюю очередь. Короче говоря, брат – братом, а полоса – полосой, словно своя рубашка. А она, как известно, ближе к телу.
Как и отец наш, Савватей Захарович не отказывался от рыбалки. Плавал и один, и с моим отцом, а иногда и втроём, то есть с Лаврентием Захаровичем. Запомнилось, как делили улов на травянистом берегу реки. Рыбу не взвешивали, хоть и был заржавленный безмен. Вместо этого подбирали на глаз три одинаковых рыбины, скажем, три чебака, клали их рядышком, убеждались, что никто не обижен и каждая рыбина шлёпалась в свою кучу /три рыбака – три кучки/. Как уже было сказано, Савватей Захарович тоже ездил в Сибирь, тоже возвратился обратно и до конца дней своей жизни состоял в колхозе. Под старость помогал колхозу, чем мог: то верёвку совьёт, то хомут починит. Поражался он тем невероятным, уму непостижимым переменам, которые на его глазах произошли в деревенской жизни:
– Даже картошку – и ту садят и убирают машиной, – удивлялся он.
Дядя Савватей пожил на свете белом немало – лет восемьдесят с гаком. Было это году в пятидесятом или пятьдесят втором. Стояла поздняя осень. Глубокая осень наступила и в жизни дяди Савватея. И без того низкого ростом, годы нещадно гнули его к земле. Но скажите, пожалуйста, кому хочется умирать? Ни тому, у кого за плечами двадцать, ни тому, у кого двадцать уже без ошибки помножены на четыре. Я как раз находился в отпуске и жил в родных Кузьмичах, смешавшихся теперь с Ивановичами, как слились впоследствии деревни Кузьмичи, Ивановичи, Петровичи, Шамарка и Дубровка и стали теперь называться Коптело-Шамарами.
– Ничего, дядя Савватей, ещё поживёте, – говорил я ему при встрече, стараясь, насколько в моих силах, подбодрить его.
– Чего уж там – ничего, плохо дело станет, – с оттенком отчаяния ответствовал он.
В тот октябрьский промозглый месяц родился восемь десятков лет тому назад дядя Савватей. То бывают именины, а тут день рождения. Пока я жил малолетком в Коптело-Шамарах, я не помнил, чтобы отец мой или мать, его сёстры или братья или другие жители деревни справляли этот день. Единственный признак, по которому этот день не забывался, – это в честь тебя молились, да и тебя самого заставляли делать то же. Надумал помолиться в честь дня своего рождения и дядя Савватей. И помолиться не кое-как, а по всем правилам – с попом. А где поп – там и кадило, и фимиам, и протяжный певческий голос, и молитвы разные большей частью нараспев, и бесчисленные поклоны. Хоть и не ахти какой я помощник в этом деле, но пригласил дядя Савватей на день рождения и меня. Не молиться, конечно, а отпраздновать не последней важности дату в его жизни. Я не отказался. Пока поп Никандра справлял соответствующий тому случаю торжественный ритуал, я молча сидел в сторонке, выходя временами в сени покурить. А потом сели за стол. Принялись за пирог из самолучшей рыбы. Отведали медовой бражки. Вспомнили и отца нашего, и сына Савватея – Дементия, погибшего на фронте. Беседа закончилась умеренной тяжестью в желудке и приподнятостью общего настроения.
После того дня прожил дядя Савватей ещё несколько лет. Видимо, старые кости не грело, и он в жару ходил в овчинном полушубке. Тому, кто с недоумением поглядывал на него, он решительно, хоть и негромко, отвечал:
– Жар кости не ломит, а вошь тепло любит!
Жена Савватея Захаровича – Зинаида Григорьевна – была женщиной красивой, но строгой, скупой, своенравной. Под старость болела нервным заболеванием, от чего беспрестанно тряслись её руки и губы. Умерла она вскоре после смерти мужа. Похоронена на Синей горе, рядом с моим отцом и матерью.
У Савватея Захаровича и Зинаиды Григорьевны /тетки Зены, как мы её называли/ родились дочери Екатерина, Аграфена, Агафья, Зинаида, сыновья Пётр и Дементий. А всего, кажется, родилось не менее 20 детей, но большинство из них умерло в малом возрасте.
Как истинно уральский житель, выросший среди дремучих лесов, впитавший в себя язык прадеда и деда, отца и матери, дядя Савватей говорил тем ивановичевским и кузьмичевским простонародным языком, который был
присущ каждому жителю этих небольших деревень. Дядя Савватей очень часто произносил слово «взаболь», означавшее «в самом деле». Запамятовав на минуту название вещи или предмета, он непременно вставлял слово «то-воно». Увидев, что Калина глухой пошёл зачем-то под утор, дядя Савватей изрекал: «Опять его по чё-то понесло туды» /опять его зачем-то понесло туда/. Хворая и отвечая на вопросы о своём здоровье, он отвечал: «Старость, видать, подошла». Удивляясь тому, что некоторые сбривали литовкой всё подряд, что росло возле озера и в озере, он удивлённо заявлял: «Что-есь осоку и тину – и ту выпластали» /скосили/. Про тех, кто не жалел сил на работе, он с восхищением и некоторой завистью произносил: «Бьётся, колотится что мога». На вопрос: «Чем, дядя Савватей, занимаешься?» он негромко пояснял: «Да так, шышляюсь коло дому помаленьку». Того, кто тихо говорил, он просил: «Пошибче говори, а то я еть плохо чую». Радуясь большому улову рабы, он чистосердечно, от души восхищался: «Да, фартнуло нам, ребята, сёдни». Когда снег переметал дорогу и лошадь еле ступала наощупь, дядя Савватей задумывался: «Незнатко даже следа». Накосив травы, попавшей под дождь, он сокрушался: «Кабы знатье, отложить бы косьбу на денёк». Нередко вырывалось у него и междометие «у, дак» – знак уверенности и несомненности в том, что ничего трудного в том деле нет и не было. Если кто-либо начинал говорить не дело, нести околесицу, дядя Савватей, широко раскрыв глаза, останавливал говорившего: «Твори молитву». Сожалея о чём-то, он ронял: «Уть ты трою». Зная, что Ивана Александровича и его сына Тита по-деревенски звали коточиками, дядя Савватей шутил: «Коточик крепок, да лыка нет». Другой раз и загадку загадает: «Кабы не дедушкин шунтик-мунтик, заросла бы у бабушки шунтя-мунтя».
– Да сиди уж ты со своим шунтиком-мунтиком, – метнув недобрый взгляд, ворчала его жена Зеновья.
– Да это же про пешню я говорю, которой лёд в проруби долбят.
Умел дядя Савватей читать и писать и в Священном писании кое-что смыслил. Само собой разумеется, что и богу молился так же исправно, как исправно выполнял десятки неотложных деревенских дел.
Пётр Савватеевич живёт и работает в Шамарах. Растит и воспитывает девятерых или десятерых детей.
Дементий Савватеевич, родившийся в 1921 году, уходил на военную службу и затем на фронт вместе со мной. Погиб при наступлении на город Гжатск зимой 1942 года /около деревни Долгинёво/.
Екатерина была замужем за портным Горбуновым Матвеем Дмитриевичем /Матюгой/. После его смерти живёт в Шамарах. Аграфена ещё задолго до войны выходила замуж за Никона Григорьевича Калинина, погибшего на фронте. После войны вторично была замужем, но неудачно. Теперь живёт на станции Шаля.
Агафья, шадровитая лицом, замужем была тоже не однажды и живёт также в Шале.
Зинаида замужем за Гаврилом Фотеевичем Горбуновым, долгое время работавшим в органах МВД. Живут в Шале. Воспитывают немалую семью – семерых или восьмерых сыновей и дочерей.
К дяде Савватею сбегались мы, его племянники, во все времена года то в карты сыграть, то на качулях покачаться, то в «окорукольцы» сыграть, то просто посидеть в избе или под крышей, где в молодости сидели отец и его братья, дед и его братья. Дядя Савватей привечал нас, как мог. Обращаясь к жене своей, он говорил:
– Тот воно, надо бы робят мёдом угостить.
Та доставала блюдечко и шла в сени, наклонялась над дуплянкой, выковыривая из неё крепкий, упругий, ароматный мёд. Иногда нас угощали здесь шаньгами, сладкими пирогами, а то и сдобными кральками. Сидя за столом и с удовольствием поглощая сладкий мёд с пшеничным хлебом, мы старались сидеть по возможности смирно, как полагается находиться в гостях, руками о стол не облокачиваясь, ибо это считалось нехорошей привычкой.
Между домом дяди Савватея и дяди Юди находился широченный, крытый соломой, с множеством столбов и подпорок сарай, по-деревенски звавшийся гумном, а неподалёку от него, на склоне оврага, – овин. На гумне стояла конная молотилка, в дни работы заглатывавшая своим барабаном целые снопы. На гумне том чего только не было – и зерно, и охвостье, и мякина, и солома, и мешки, и снопы, и лопаты, и вилы, и грабли – целое царство мужика. Заходишь на гумно и вмиг окунаешься в хлебный запах, словно ты зашёл в избу на середь, где лежат караваи только что испечённого хлеба.
Снопы в барабан молотилки подаёт всегда мужчина, делая это с толком, сноровисто, так, чтобы не сунуть по ошибке свою руку или какой-либо железный или деревянный предмет. Тогда неизбежны поломки барабана и остановка молотилки. Машинисту в его важном деле помогала какая-либо из женщин, быстро разрезая ножом соломенную опояску снопа с другой стороны молотилки, от того места, где вместе с соломой вылетало из барабана зерно и почти до самого выхода из гумна стояла стайка женщин. Они отгребали солому, трясли её, чтобы вместе с ней не ушло в омёт и зерно. Молотьба – это интересное, дух захватывающее зрелище. Молотилка гудит, заставляя дрожать землю, пропитывая гуменный воздух запахом хлеба, вихрем пыли, долго не оседавшим на землю. Тут же, в гумне, поодаль стояла веялка, а то и сортировка. Вымолоченное зерно попадало впоследствии сюда, в женские руки, и продолжало свой неизбежный длинный путь до того, пока окажется чистым, ссыпанным в мешки, высушенным, а затем свезённым на мельницу. В дни молотьбы хватало дел и ребятишкам-малолеткам. Они гоняли лошадей, пристёгнутых к вагам. Поскольку молотилка была конной, без лошадей обойтись никак нельзя было. В перерыв отдыхали, паужная /обедая/ тут же, на только что обмолоченной, ещё теплой соломе. Ребята и девчата лет пятнадцати-двадцати от роду начинали неизбежную в этих случаях возню, перекидывая друг через друга и оглашая гумно взрывом необыкновенного смеха в тех случаях, если, перевернув девушку вверх ногами, увидят, что она в штанах /теперь бы, наверное, засмеялись, если, наоборот, увидели без штанов/.
Агафья и Дементий, самые молодые из сыновей и дочерей дяди Савватея, постоянно дружили с нами, двоюродными братьями и сёстрами. Вместе ходили в школу, по ягоды, по рябину, на реку, на озеро, на болото, на покос, на станцию.
Лаврентий Захарович несколько моложе нашего отца. Восьмидесятилетний, он один остался в живых из отцовских братьев или, как говорят в деревне, из «Калиновщины». Жил он раньше под Таниной горой, а после переселился в деревню Ивановичи. Живёт в новом добротном доме, построенном сыном Прокопием. Лаврентий, когда-то очень статный, высокий, красивый, носивший по праздникам шляпу, в молодости бегавший в начальную школу в Урмы почти за тридцать километров, стал сед, бледен, сутул. Он уже едва передвигается по избе, иногда выходя на улицу, посматривая на реку: ведь он, как и наш отец, многие десятки лет посвятил рыбатству. Действительную военную службу нёс во Владимире вместе с братом Зотеем.
Женой Лаврентия Захаровича была Екатерина из Тепляков – женщина полная, хитрая и завистливая. Полнота являлась, конечно, не признаком здоровья, а признаком болезни. Сыновья и дочери Лаврентия Захаровича: Василий, Фёдор, Пётр, Прокопий, Григорий, Акулина, Зинаида, Настасья, Екатерина. Насколько помнится, Василий, уже будучи женатым, в начале тридцатых годов попал под поезд и скончался. Похоронили его на Синей горе. Дядя Лаврентий на похоронах Василия подал мне медный пятак.
Фёдор, или Федюньша, здоровый, высокий, носатый, забияка и драчун, друг детства моего брата Петра, погиб в годы войны.
Идя из шамарской школы, поравнялись мы с баней Наума Дмитриевича Горбунова.
Федюнька ни с того ни с сего – хлесь кулаком по оконному банному стёклышку – и то разлетелось вдребезги.
В бане заохали, запричитали, заревели.
Братик Фёдора Пётр, которому перевалило уже за сорок, обзавёлся немалой семьёй, женившись на дочери Калины Глухого. Живёт в Шамарах.
Помнится, в первые тридцатые годы, после того как умерла заведующая коптело-шамарской школой и учительница Антонина Степановна Дроздова, стала учительствовать некто Сарафанова со своим сыном Борисом Александровичем. Он, не знаю почему, но с уважением относился ко мне и моему брату Петру. Может быть, в его глазах мы вставали хорошими учениками или учениками хорошего поведения. К сожалению, Борису Александровичу учительствовать пришлось недолго. Вместе с матерью их перевели в другое место. Полюбившийся и полюбивший нас учитель не выходил из головы. Мы стали писать друг другу. Но иногда писем от Бориса Александровича не было подолгу. Мы начинали беспокоиться, не переставая посылать свои детские, непосредственные. Однажды летом приходит от Бориса Александровича открытка. Адрес как адрес. Только в графе «Кому» было проставлено: «Калинину Петe и его брату Родиону». У меня с Петром, родным братом, капельки сомнения не закралось, что это письмо нам. А вот Настасье Лаврентьевне /двоюродного брата Петра/ показалось, что письмо это написано именно её родному брату и одновременно – мне, её двоюродному брату. Право, странный способ заменить недостаток знаний и признания!
Аналогичный случай произошёл с другим его братом Фёдором и моим братом Петром. Оба ставили проволочные петли на зайцей /зайцев/ на Таниной горе, в Гарюшках, под Синей горой, за Курьями. В петли того и другого изредка заскакивали косые. Ребятишкам лестно, что они поймали зайчишку. А тут надо же было случиться такому, что тот и другой стали доказывать, что эта петля, поставленная именно им, что заяц бежал именно в его петлю. /Как будто зайчишке есть разница, чья петля затянет его шею, лапы или туловище/. Не помню уж, чем закончился тот спор, только история с теми зайцами наделала шуму чуть ли не на все Кузьмичи и эхом донеслось до Шамар, потому что шкурка того злополучного зайца была в конце концов сдана в шамарский магазин.
Прокопий живёт с отцом в Ивановичах. На вопрос, кем он работает, ответил: «Скрывать неудобно и сказать стыдно». Но ничего неудобного и стыдного в том, что он работает пастухом, нет. Семьёй не обижен, растит семерых.
Младший брат Григорий, окончив военное училище, служит офицером в органах охраны общественного порядка.
Акулина не однажды выходила замуж. Сказывали, что умела приворожить, присушить человека. Один из зятей, зарубив, отправил её на тот свет.
Настасья и Екатерина долгое время работали продавцами в Шамарах. Живут там же.
Где находится их сестра Зинаида, выходившая замуж за тепляковского мужичка Агея Алимповича Перина, точно не знаю.
Малышами бегали мы в гости и к дяде Лаврентию под Танину гору, то играя на большой зелёной поляне под окнами, то читая в журнале «Лапоть» про Ерёму и Фому.
Куплетов-четверостиший про Ерёму и Фому было великое множество. В основе их лежали противоположные характеры этих мужиков. Запомнил я лишь некоторые куплеты:
Говорит Фома: пожар,
А Ерёма: на базар.
Говорит Фома: бежим,
А Ерёма: полежим.
Говорит Фома: пойду,
А Ерёма: посижу!
Говорит Фома: давай!
А Ерёма: помогай!
Но к дяде Лаврентию тянуло нас не так, как к дяде Савватею: то ли встречали нас здесь не с таким радушием, то ли просто-напросто боялись мы тучной, толстой, грузной тетки Катерины, смотревшей на нас мутными, казалось, недобрыми глазами.
Пока жили единолично, каждый мужик знал, какой площади каждое его поле /три десятины, полтора переезда/. А когда стали работать в колхозе, надо было каждый день замерять вспаханный каждым колхозником участок и подсчитывать в гектарах и сотых гектара /сотках/. Помнится, тятя и дядя Лаврентий в первую колхозную весну не один час простояли под весенним солнцем на дороге под Таниной горой, ломая голову и кумекая, как десятины и переезды перевести в сотки, пока не подошёл я, заканчивающий четвёртый
класс, и не перемножил длину участка в метрах на ширину. Площадь пашни отца стала известной. С тех пор не раз подзывали меня колхозники подсчитать площадь вспаханного или засеянного.
В одно из первых колхозных лет дядя Лаврентий был приставлен к нам, малолеткам, старшим борноволоком. Ему показалось, что я уже перерос своих сверстников, вышел из того возраста, в каком можно сидеть верхом на лошади, держать за узду. И велел он мне боронить не верхом, а на вожжах, что я и сделал. Надоедает сидеть верхом на лошади, а разве не надоест день-деньской держать длинные вожжи, ходить рядом с бороной и лошадью, управляя, а чаще – нахлёстывая её? Дали мне однажды кобылёшку до того своенравную, вероятно, нервно-психическую, что терпения надо было огромнейшего, чтобы стронуть её с места. И терпения того у меня не хватило. Я стал бить её вожжами так долго и так часто, насколько хватило у меня сил. А кобылёшка та – ни с места. Хоть реви! Но, видимо, один мой удар пришёлся ей не то что не по нраву, а, вероятно, достался по очень чувствительному месту, и лошаденка мигом, развернувшись, как говорят, на сто восемьдесят градусов, бросилась на меня, сбила с ног, а сама отбежала в сторону. Произошло это столь молниеносно, что я не сразу сообразил, что стало со мной. Я удивлялся потом только одному: как это перевернулась борона вверх зубьями. Не перевернись она – быть бы мне покалеченным, исцарапанным до крови зубьями известной ныне всем бороны «зиг-заг».
Самым молодым из братьев отца и самым малосемейным был Зотей Захарович /Зотьша/. Скончался он в 1963 году и похоронен тоже под высокими соснами на Синей Горе – рядом с двумя старшими братьями и их жёнами. В отличие от других семей, семья Зотея Захаровича была исключительно чистоплотна. Упаси боже, чтобы Зотей Захарович или кто-нибудь из соседей зашёл в избу, не сняв лаптей, сапог или валенок. Когда приходил к ним кто-нибудь из моих братишек, Екатерина Даниловна – жена Зотея Захаровича – щупала рукой подошвы обуви, убеждаясь, не грязны ли они. Это вызывало улыбку, а иногда и насмешку. Теперь же все знают, что чистоплотность никогда не была свидетельством плохого обычая. Зотей Захарович всю жизнь пахал, сеял, косил, причем никогда не жалуясь на здоровье, делал всё это умело, сноровисто, легко. Последние годы, уехав из деревни, жил в посёлке Шамары. Единственная их дочь Анастасия живёт тоже в Шамарах.
Не обременённый семьёй, не мыкавшийся до упаду на рыбалке, тем более не увлекавшийся и охотой, дядя Зотей лучше других братьев сохранил своё здоровье. Удерживаемый женой своей Екатериной Даниловной, он и не терял никогда своей головы, хоть и напивался по праздникам. За какое бы дело он ни брался – всё спорилось в его сильных, крепких мужских руках. Табачного дыма он не терпел. Крестился по мере необходимости. Матерное слово считал грехом. Не видел я, чтобы он ввязался с кем-либо в драку. Запрячь ли лошадь, отклепать ли литовку, починить ли хомут – всё делал он исключительно старательно, вдумчиво, умело. В перебранки с мужчинами, а тем более с женщинами, никогда не вступал. На собраниях обычно сидел молча. Вопросов не задавал. Выступать в прениях было выше его сил. В год смерти мамы нашей он по моей просьбе поделился некоторыми воспоминаниями о жизни своей и своих братьев, воспоминаниями, которые я, с благодарностью к дяде Зотею, и использовал в настоящих очерках.
Дядя Зотей застал меня однажды за не совсем обычным занятием: я сидел под разлапистой елью, росшей на краю его поля, и писал стихотворение.
Сестёр отца нашего – Онисьи и Домны – давно нет в живых. Одна из них жила замужем в Сушниках, а другая – на Шоломке.
Если же подсчитать всё потомство братьев и сестёр отца – сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек, то получится внушительная цифра в несколько сот человек – богатейшее наследство «калиновщины».