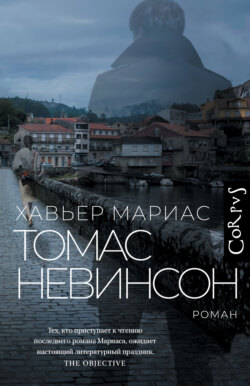Читать книгу Томас Невинсон - - Страница 2
I
ОглавлениеЯ был воспитан в старых правилах и даже вообразить себе не мог, что когда‐нибудь мне прикажут убить женщину. Женщин нельзя обижать, их нельзя бить, нельзя оскорблять – нельзя, и всё тут, ни действием, ни словом. Более того, их надо защищать и уважать, им надо давать дорогу и всячески помогать, если они несут ребенка во чреве, или на руках, или везут в коляске, им надо уступать место в автобусе и в метро, а на улице удерживать подальше от проезжей части или, как это было в прежние времена, следить, чтобы на них ничего не свалилось с балконов; при кораблекрушении положено в первую очередь сажать в спасательные шлюпки женщин с маленькими детьми (ведь дети принадлежат больше женщинам, чем мужчинам). Когда происходят массовые расстрелы, женщин иногда отводят в сторону, то есть им даруют жизнь, отнимая у них мужей, отцов, братьев и даже сыновей-подростков, не говоря уж о взрослых сыновьях, то есть им, обезумевшим от горя, похожим на тени, позволяют жить дальше, и они считают годы и стареют, прикованные к воспоминаниям о том мире, который когда‐то принадлежал им и которого их лишили. Женщины волей-неволей превращаются в хранительниц памяти, ведь только они остаются, когда кажется, будто больше вообще никого не осталось, и только они могут засвидетельствовать то, что кануло в небытие.
Короче, все это мне внушили еще в детстве – и так оно и было в прежние времена, хотя отнюдь не всегда, то есть не всегда подобные правила выполнялись неукоснительно. Да, так полагалось вести себя, но скорее в теории, чем в жизни. Достаточно вспомнить, что в 1793 году на гильотине казнили французскую королеву, а очень многих женщин еще раньше сожгли на костре, обвинив в ведовстве, не говоря уж о бесстрашной Жанне д’Арк, – эти примеры всем хорошо известны.
Иными словами, женщин убивали во все времена, но это вроде бы шло вразрез с традиционными устоями и нередко вызывало возмущение. Сейчас трудно с уверенностью сказать, почему Анне Болейн была оказана особая милость: ее не отправили на костер и голову отрубили мечом, а не старым тупым топором, – потому, что она была женщиной, или потому, что была королевой, или потому, что была молодой, или потому, что была красивой, красивой, по меркам той эпохи и согласно легенде, а легендам никогда не стоит слишком доверять, как и рассказам прямых свидетелей, которые все видят и слышат вполглаза и вполуха, часто либо ошибаются, либо просто лгут. На картинах, запечатлевших казнь королевы, она стоит на коленях в молитвенной позе и держится прямо, с высоко поднятой головой; а если бы голову отсекали топором, ей пришлось бы прижать подбородок или щеку к плахе и принять более унизительную и неудобную позу, то есть лечь на эшафот, откровенно явив свою заднюю часть взорам публики, взорам тех, кто наблюдал за казнью, пробившись в первые ряды. Хотя странно, конечно, рассуждать об удобстве или неприличии позы в последний миг пребывания человека в нашем мире, о ее изяществе или благопристойности – какое значение все это имело для королевы, которая была, по сути, уже покойницей и должна была вот-вот исчезнуть с лица земли и, разрубленная на две части, найти себе пристанище в той же самой земле. На этих картинах можно увидеть и “мечника из Кале” – именно так его называли, чтобы отличить от обычного палача, – которого специально доставили из Франции, выбрав за особую опытность и сноровку, а возможно, и по просьбе самой королевы. Он всегда изображался у нее за спиной, ни в коем случае не перед ней, чтобы Анна его не видела, словно заранее было условлено или решено избавить несчастную от зрелища занесенного над ней меча, и чтобы она не могла проследить взглядом за тем, как меч опускается вниз, хотя движется он слишком быстро и неудержимо – подобно случайно сорвавшемуся с губ свисту или подобно порыву ветра (у королевы на паре картин завязаны глаза, но чаще ее рисовали без повязки); а еще чтобы она не знала, в какой точно миг образцовый удар отсечет ей голову и та упадет на эшафот лицом вниз, или вверх, или боком, или на макушку – заранее никто этого не ведает, тем более сама королева; но удару надлежало обрушиться неожиданно, если можно говорить о неожиданности, когда человеку известно, зачем его сюда привезли, зачем поставили на колени и сняли плащ – в восемь часов холодным майским утром. Анна стоит на коленях именно для того, чтобы облегчить задачу палачу: ведь он любезно согласился пересечь Ла-Манш и исполнить приговор, к тому же, возможно, был не очень высок ростом. Вероятно, королева убедила судей, что для ее тонкой шеи будет достаточно и меча. Наверняка она не раз обхватывала свою шею руками, чтобы проверить это.
В любом случае с Анной Болейн церемонились больше, чем два века спустя с Марией-Антуанеттой, и в роковом для нее октябре с ней обращались куда хуже, чем с ее супругом Людовиком XVI в роковом для него январе – а он попал на гильотину примерно на девять месяцев раньше жены. Революционеры не посчитались с тем, что она женщина, или, скорее всего, не придали значения полу своей жертвы, поскольку, по их соображениям, такой взгляд на вещи сам по себе противоречил принципам революции. Некий лейтенант де Бюн, который во время слушания дела отнесся к ней уважительно, был арестован и заменен другим, более суровым, тюремщиком. Королю связали за спиной руки лишь у ступеней эшафота, а к месту казни привезли в закрытой карете, принадлежавшей, насколько я знаю, мэру Парижа; Людовик смог сам выбрать себе священника для последней исповеди (и выбрал одного из тех, кто не только отказался принести присягу верности Конституции и новому порядку, но и осуждал этот порядок). А вот его вдове, австриячке, руки связали за спиной еще до того, как посадили в позорную телегу, откуда она легко могла видеть лютую злобу на лицах зевак и слышать их глумливые вопли; ей прислали священника, присягнувшего Республике, но она вежливо отказалась от его услуг. Согласно хроникам, во время своего царствования королева не отличалась любезностью, зато в последние минуты жизни искупила это: она так стремительно взошла на эшафот, что споткнулась и наступила на ногу палачу, перед которым тотчас извинилась, словно только так всегда себя и вела (“Извините, месье”, – сказала она).
У гильотины тогда был свой обязательный позорный ритуал: приговоренным не только связывали руки за спиной, но уже на эшафоте им крепко обматывали верхнюю часть тела тугой веревкой, вроде как уподобляя веревку савану; и человек почти не мог свободно двигаться, не мог обойтись без посторонней помощи, поэтому двое подручных палача поднимали его как мешок (позднее так в цирке поступали с карликами, которыми выстреливали из пушки), а затем либо плавно, либо резко опускали лицом вниз, чтобы шея попала в специальную выемку. В этом Марию-Антуанетту полностью уравняли с супругом: оба в последний миг почувствовали себя вещью, с ними обращались как с мешками, или как с торпедой на старой подводной лодке, или как с тюками овечьей шерсти, из которых торчали лишь головы, и эти головы вскоре покатились непонятно куда, пока палач не схватил их за волосы и не показал толпе. Однако совсем небывалая история случилась со святым Дионисием во времена гонений на христиан при императоре Валериане: он, по свидетельству одного французского кардинала, претерпев муки и будучи обезглавленным, поднял свою отсеченную голову и прошествовал с ней от Монмартра до храма, где его погребли (то есть избавил от лишней работы носильщиков) и где позднее выросло аббатство Сен-Дени. А пройденное им расстояние составляло, кстати сказать, девять километров. Это чудо лишило кардинала, по его словам, дара речи, хотя на самом деле оно, наоборот, позднее сделало его речь неудержимо пламенной. А некая остроумная дама, выслушав кардинала, быстро перебила его и одной-единственной фразой умалила подвиг святого: “О Господи! Хотя, думаю, в подобных делах по‐настоящему трудно дается лишь первый шаг”.
Да, по‐настоящему трудно дается лишь первый шаг. И так можно сказать о чем угодно: о том, что требует немыслимых усилий, и о том, что совершается против воли, или с отвращением, или с оговорками, а люди обычно очень мало что делают без оговорок, почти всегда находя удобный повод, чтобы отказаться именно от первого шага – чтобы не выйти из дому, не тронуться с места, не заговорить с кем‐то, не ответить кому‐то и не посмотреть на кого‐то… Иногда я думаю, что вся наша жизнь – даже у тех, кто наделен душой тщеславной, беспокойной, неистовой и ненасытной, кто мечтает повлиять на судьбы мира или поуправлять миром, – сводится к тщетному, по сути, желанию, исполнение которого мы вечно откладываем на потом, к желанию снова стать совсем незаметными, какими были еще до рождения, невидимыми, неслышимыми и не излучающими тепла; к желанию молчать, не двигаться, пройти в обратном направлении уже пройденный путь и перечеркнуть уже сделанное, хотя перечеркнуть его никогда не удастся – в лучшем случае о сделанном можно забыть, если, конечно, повезет и никто не напомнит о нем вслух; к желанию стереть любые следы, которые рассказывают не только о нашем прошлом, но, к сожалению, о настоящем и будущем. Однако это желание остается всего лишь желанием, и мало кто готов признаться в нем даже себе; исполнить же его под силу лишь людям храбрым, сильным и наделенным почти нечеловеческой волей – тем, кто способен на самоубийство, кто способен отойти в сторону и ждать своего часа, кто исчезает не попрощавшись, скрывается по‐настоящему, то есть навсегда. Такими были древние анахореты и отшельники, таковы те, кто выдают себя за других (“Я – это уже не мое прежнее я”), присваивая себе чужую личность и без колебаний к ней прирастая (“Идиот, с чего ты взял, что знаешь меня!”). Это дезертиры, изгнанники, узурпаторы и люди, потерявшие память, если они и вправду не помнят, кем были, и уверенно приписывают себе чужие детство и юность, не говоря уж об обстоятельствах появления на свет. Я говорю о тех, кто никогда не возвращается.
Нет ничего тяжелее, чем убить человека. Это избитая истина, которую любят повторять те, кто в жизни своей никого не убил. Они повторяют ее, потому что не могут даже вообразить себя с пистолетом, или с ножом в руке, или с удавкой, или с мачете, и не понимают, что преступления по большей части – отнюдь не секундное дело, они требуют физической силы, когда случается схватка один на один, и весьма опасны (если у тебя отберут оружие, прикончат тебя самого). Но люди уже насмотрелись в кино на ружья с оптическим прицелом и усвоили: чтобы попасть точно в цель, достаточно нажать на спусковой крючок. Чисто, безопасно и почти никакого риска. Мало того, сегодня мы узнаем, что можно управлять дронами с расстояния в тысячи километров и, отняв жизнь или несколько жизней, воспринимать убийство как событие не совсем реальное, а скорее даже воображаемое – или как участие в видеоигре (поскольку за результатом легко проследить на экране). Ведь в подобных случаях кровь не брызнет убийце в лицо.
А еще, по общему мнению, тяжело убивать человека, так как это означает нечто необратимое, абсолютный конец: мертвый – он уже никто, мертвый больше ничем себя не проявит, не сможет ни спорить, ни что‐то придумать, не сможет ничего изменить и сам не будет меняться, не оплатит долги и не уступит в споре; он навсегда замолчит, перестанет дышать и видеть, станет безвредным, а главное – вообще ни на что не пригодным, как сломанный пылесос, который только занимает место в доме и который надо поскорее выбросить. Большинство людей воспринимают это трагично, чересчур трагично, им хочется верить, будто каждому надо дать шанс на спасение, будто все мы способны исправиться и заслужить прощение, а эпидемия чумы утихнет как‐нибудь сама собой и незачем с ней бороться. К тому же любой человек вызывает абстрактную жалость: разве могу я лишить кого‐то жизни? Однако жалость сникает перед лицом конкретных фактов, если вообще не испаряется, иногда и в мгновение ока. Или мы сами с корнем вырываем ее из сердца.
Я помню фильм Фрица Ланга 1941 года, снятый в самый разгар Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты в нее еще не вступили и казалось невозможным, что Англия одна выдержит натиск Германии: большая часть Европы была уже завоевана, а другая ее часть послушно плясала под дудку Гитлера. Начинался фильм так: человек в охотничьем костюме – шляпа, галифе, гетры (его роль исполнял Уолтер Пиджон) – со снайперской винтовкой в руках оказывается у какого‐то земляного вала или насыпи; дело происходит 29 июля 1939 года, всего за тридцать шесть дней до начала войны; там, в Баварии, в Берхтесгадене, у Гитлера была резиденция, куда он часто уезжал, и на это время она становилась самой охраняемой территорией страны. Охотник ложится в густую траву на краю обрыва, который напоминает защитный ров, какими обычно окружали старинные замки, и смотрит в бинокль. На его лице вспыхивают удивление и лихорадочное возбуждение, он достает из кармана куртки оптический прицел, устанавливает на винтовку и наводит на расстояние в пятьсот пятьдесят ярдов, то есть чуть меньше пятисот метров. И видит фюрера собственной персоной, который расхаживает по террасе и беседует с высоким офицером гестапо в монокле (мне запомнилась его странная, наполовину английская фамилия – Куив-Смит, эту роль исполнил Джордж Сандерс), на нем белый мундир и темные брюки; очень похожую униформу вплоть до семидесятых годов носили прокуроры при дворе Франко, упорно сохранявшие верность нацистскому стилю.
Сначала Куив-Смит стоит так, что загораживает собой Гитлера, поэтому охотник не может прицелиться в него и нервно вытирает пот со лба. Но вскоре гестаповец уходит, и Гитлер остается один. Теперь охотнику уже ничего не мешает, и он берет фюрера на мушку. Подносит палец к спусковому крючку и после мгновенного колебания нажимает на него. Слышен слабый щелчок – винтовка не заряжена. Уолтер Пиджон смеется и шутливо касается рукой полей своей шляпы, словно посылая Гитлеру прощальный привет. Но зритель уже знает, что поблизости появился охранник, который патрулирует территорию, однако пока еще не видит спрятавшегося в зарослях чужака.
Я понятия не имею, как все это объясняется в романе, по которому снят фильм[1], но экранный Пиджон после неудачного выстрела вдруг понимает, что может на самом деле убить Гитлера, – мало того, мысленно уже выстрелил в него. Тогда он поспешно вставляет патрон в патронник и снова прицеливается. Фюрер все еще там, еще не ушел с террасы, и грудь его – отличная мишень. Позднее, когда охотника хватают и допрашивают, он уверяет Куив-Смита (или Сандерса), что стрелять не собирался, а хотел лишь убедиться, что это вполне реально, коль скоро его до тех пор никто не обнаружил и не задержал. Охотника охватил так называемый азарт выслеживания. Чтобы поразить намеченный объект, нужен только точный математический расчет, если этот объект досягаем и правильно наведен фокус. Нажать на спусковой крючок легче легкого, но на самом деле Пиджон уже давно решил никогда больше на крючок не нажимать, даже если речь пойдет о кролике или куропатке. Однако, чтобы игра выглядела серьезной, а не шутовской, винтовка должна быть заряжена. “Вы определили дистанцию с поразительной точностью… – не мог не признать Куив-Смит, сам заядлый охотник, и, как он уже проверил, прицел был установлен на расстояние всего на 10 футов короче реального, еще три метра – и цель была бы поражена. – Такого человека, как вы, нельзя оставлять в живых”, – добавляет он. Но эта реплика Сандерса воспринимается зрителем неоднозначно. В фильме Пиджон играет роль капитана Алана Торндайка, всемирно знаменитого охотника, о котором гестаповец много слышал и которым восхищается, зная, какие подвиги тот совершал в Африке. Можно допустить, что ошибка в три метра была намеренной, а значит, Пиджон говорит правду: он не собирался стрелять Гитлеру в сердце. Действительно не собирался.
Но, как выясняется из дальнейшего, эти слова тоже не следует без оговорок принимать за чистую монету: трудно поверить, будто Торндайк случайно наткнулся на резиденцию фюрера, а не искал ее специально. Такая случайность все‐таки маловероятна. Однако складывается впечатление, что мысль об убийстве появляется у него только в тот миг, когда он увидел Гитлера и понял, кто именно взят им на мушку. А может, и нет. В любом случае эта мысль возникла у Торндайка далеко не сразу. После холостого выстрела, после щелчка незаряженной винтовки и после того, как охотник сделал прощальный жест, коснувшись рукой полей своей шляпы и весело рассмеявшись, он вроде бы и вправду решил убраться оттуда подобру-поздорову, как поступил бы человек, который выполнил свой план и которому больше нечего делать здесь, неподалеку от знаменитой резиденции в Берхтесгадене. Но вдруг выражение его лица меняется, становится строгим, серьезным и более решительным (не слишком, а лишь более), чем раньше, словно до него доходит, что времени у него в обрез. Впечатление такое, что именно в тот миг он начинает понимать: то, что до сих пор было лишь репетицией, игрой, развлечением и данью охотничьему азарту, можно превратить в реальность и тем самым изменить ход событий. От его руки и движения пальца зависит, окажет он или нет огромную услугу своей стране, да и целой половине мира, хотя 29 июля 1939 года еще никто и вообразить не мог, насколько огромной стала бы эта услуга. А что случится потом с ним самим, не имеет значения, ведь он вряд ли сумеет скрыться и наверняка погибнет. И вот тогда Торндайк заряжает винтовку, вставляет патрон в патронник, всего один, так как не сомневается, что легко попадет в цель и не промажет, то есть второй выстрел не понадобится. Он снова гладит пальцем спусковой крючок и готов нажать на него – что на сей раз имело бы явные последствия как для него самого, так и для истории. Один лишь миг – и фюрер будет мертв, будет лежать в луже крови, будет стерт с лица земли, которую готов вот-вот покорить и разрушить, он будет валяться на полу, как никчемный мусор, грязный хлам, обычный труп. И его выкинут вон, как выкидывают дохлую кошку с выпущенными кишками. До чего же ничтожно расстояние между “все” и “ничто”, между свирепой жизнью и смертью, между страхом и милосердием.
Я не читал романа, по которому был снят фильм, но из фильма мы так и не узнаем, какой была истинная цель у охотника Торндайка, поскольку сделанным считается лишь сделанное, доведенное до конца, когда итог очевиден и необратим. И вот тут с дерева падает лист – прямо на прицел. Пиджон досадливо смахивает его, на миг отведя глаз, и принимает прежнюю позу. Он должен снова прицелиться в Гитлера, должен снова отчетливо увидеть его, навести на него перекрестие прицела. Если в расчет вкрадется хотя бы небольшая ошибка, фюрер останется целым и невредимым, будет строить свои зловещие планы и плести свои интриги. Но Торндайк опоздал – одного упавшего листочка оказалось достаточно, чтобы время остановилось: охранник уже обнаружил охотника и бросился на него – а единственная пуля улетела невесть куда, пока эти двое дрались.
А кто на месте Торндайка повел бы себя иначе, кто бы не испытал сомнений, поглаживая спусковой крючок и чувствуя соблазн хладнокровно выстрелить? “Да, всего лишь убийство…” – написал классик, лишая подобный поступок особого значения[2]. Кто повел бы себя иначе, если бы в 1939 году смог прицелиться в грудь Гитлера – по чистой случайности или намеренно, после долгих поисков? И если бы произошло это гораздо раньше и в реальной жизни, а не в фильме Фрица Ланга.
Фридрих Рек-Маллечевен никогда не был леваком, как не был ни евреем, ни цыганом, ни гомосексуалом. От двух браков у него было шестеро сыновей и дочка. Он родился в 1884 году (то есть был на пять лет старше Гитлера) в семье прусского политика и землевладельца. Фридрих изучал медицину в Инсбруке, затем служил офицером в прусской армии, но из‐за диабета оставил военную карьеру. Недолгое время был судовым врачом и плавал в американских водах. Переехал в Штутгарт, где занялся журналистикой и театральной критикой, позднее поселился в окрестностях Мюнхена. Начал писать приключенческие романы для детей, и один из них, “Бомбы над Монте-Карло”, был настолько популярен, что его четырежды экранизировали. Судя по всему, Рек-Маллечевен слыл человеком довольно уравновешенным, не склонным ни к протестам, ни к подрывной деятельности. Но был достаточно образованным и достаточно здравомыслящим, чтобы презирать и ненавидеть нацистов и Гитлера, как только они стали открыто заявлять о себе. В мае 1936 года он начал вести секретный дневник и вел до октября 1944‐го, хотя уже с 1937‐го из осторожности прятал его в лесу и часто менял место тайника, опасаясь слежки, ведь если бы власти обнаружили дневник, это наверняка стоило бы автору жизни. Записи Река-Маллечевена опубликовали лишь в 1947 году, уже после его смерти, под названием “Дневник отчаявшегося”, но тогда на немецком языке он прошел почти незамеченным – наверное, было еще рано для таких воспоминаний о совсем недавних событиях. Почти двадцать лет спустя, в 1966‐м, его переиздали в мягкой обложке, а в 1970‐м перевели на английский (Diary of a Desperate Man), по‐английски я этот текст и прочел.
Рек-Маллечевен называл нацистов “ордой свирепых обезьян”, чувствовал себя их пленником и, хотя в 1933 году стал католиком, признавался, что все его существо пропитано ненавистью: “Скоро пойдет пятый год моей жизни в этом болоте. Больше сорока двух месяцев все мысли мои дышали ненавистью, я ложился спать с ненавистью в сердце, мне снилась ненависть, и я просыпался с ненавистью”. Рек-Маллечевен четыре раза видел Гитлера воочию. Однажды – “за стеной охранников”, и тогда фюрер показался ему не человеческим существом, а “фигурой, вышедшей из сказок про привидения, настоящим Князем Тьмы”. В следующий раз, увидев его “сальные волосы, падающие на лицо, пока он разглагольствовал” в какой‐то пивной, не давая автору дневника спокойно съесть сардельку и котлету, Рек решил, что “у фюрера вид человека, который пытается соблазнить повариху”, и человека “безнадежно глупого”. Уходя, Гитлер кивком попрощался с ним. И теперь был похож на “официанта, который украдкой принимает чаевые, быстро пряча их в кулак”. Его глаза, “унылые и черные, как у рыбы”, автор сравнил с “двумя сушеными сливами, вдавленными в круглое как луна лицо цвета какой‐то серой студенистой мерзости”. Но впервые Рек наблюдал Гитлера намного раньше, примерно в 1920‐м, в частном доме, куда тот заявился, по сути, без приглашения (вместе со своими дружками), где произнес пылкую речь и где сразу после ухода незваного оратора (слуги очень переживали, решив, что кричит он на хозяев дома и готов кинуться на них с кулаками) пришлось спешно открывать окна, чтобы свежий воздух рассеял “ощущение опасности и гнетущего напряжения”. По словам Река, “впечатление было такое, будто помещение отравлено не только запахом грязного тела… но и чем‐то более опасным: грязной сутью человеческой чудовищности”. Несмотря на фантастически стремительный взлет фюрера за те двадцать лет, что прошли между первой их встречей и последней, Рек писал: “Мое отношение к нему осталось неизменным. В фюрере и на самом деле нет ничего приятного, и он ненавидит самого себя”.
Последняя цитата, как и предыдущая, относится к записи от 11 августа 1936 года (эта дата отмечена многими событиями), и в ней Рек-Маллечевен вспоминает 1932 год, когда он сидел в мюнхенской “Остерии Бавария”, куда Гитлер пришел, как ни странно, один, без своих обычных телохранителей-головорезов (к тому времени он уже стал знаменитостью), пересек зал и сел за столик, соседний с тем, который занимали Рек и его друг Мюкке. Заметив, что они неодобрительно поглядывают на него, Гитлер рассердился, “и на лице его вспыхнула досада, как у мелкого чиновника, который отважился заглянуть в заведение, куда обычно не ходит, но теперь, коль уж он здесь оказался и платит деньги, требовал, чтобы его обслуживали и относились к нему так же, как к постоянным клиентам”. В том сентябре на улицах было уже небезопасно, добавляет Рек, и поэтому он, отправляясь в город, всегда имел при себе заряженный пистолет. И вот этот убежденный католик, мирный отец семерых детей, автор детских и юношеских книг, образованный буржуа и человек северного темперамента пишет недрогнувшей рукой следующее: “В почти пустом ресторане я мог легко выстрелить в него. Если бы хоть в малой степени догадывался, какую роль этот мерзавец будет играть и сколько лет страданий он нам принесет, я сделал бы это не задумываясь. Но он казался мне едва ли не персонажем комиксов, и поэтому я не выстрелил”.
Одиннадцатого августа 1936 года Рек видел еще мало страданий и ужасов по сравнению с теми, которые обрушились на мир позднее, и тем не менее он думает, что без колебаний и хладнокровно пристрелил бы этого карикатурного человечка, если бы знал тогда то, что узнал четыре года спустя, за восемь с небольшим лет до своей смерти в концлагере Дахау. И когда Гитлер был уже совершенно вне его досягаемости, как и вне досягаемости любого смертного, Рек, рассуждая об упущенной в “Остерии Бавария” возможности, записывает в своем дневнике пророческие слова: “Это ничему бы не помогло, в любом случае ничему: суд Всевышнего уже назначил нам эти страдания. Если бы в тот час я схватил Гитлера и накрепко привязал к рельсам на железной дороге, поезд сошел бы с путей, не дойдя до него. Ходит много слухов о попытках убить его. Попытки проваливаются и будут проваливаться. Вот уже много лет (на этой земле торжествующих демонов) Господь Бог, наверное, спит”. Надо полагать, консервативно настроенный христианин должен был дойти до крайней степени отчаяния, чтобы бросить в лицо Богу обвинение в том, что Он не помог людям уничтожить одно из Его творений, не дожидаясь Страшного суда. Что Он не допустил убийства – да что там не допустил! – не помог совершиться убийству в нужное время.
Река-Маллечевена, чьи предки, как он утверждал, на протяжении многих поколений были военными, арестовали 11 октября 1944 года, обвинив “в подрыве морального духа вооруженных сил”, поскольку он, сославшись на грудную жабу, избежал призыва в фольксштурм (наряду с подростками и стариками), народное ополчение, созданное, по словам Геббельса, для отражения натиска русских на востоке (такое уклонение каралось казнью на гильотине), а еще ответил “Слава Господу!” вместо обязательного “Хайль Гитлер!” (даже проститутки были обязаны выкрикнуть это дважды в течение своего сеанса – в самом начале и под конец, изображая оргазм). Обвинили Река и еще в каких‐то опаснейших пустяках. Несколько дней он просидел в тюрьме, ожидая худшего, но после фиктивного слушания дела был освобожден благодаря необъяснимому заступничеству некоего генерала СС, который, будучи на десять лет младше, лишь мягко пожурил его (Реку уже исполнилось шестьдесят) и которого Рек в своих последних записях называет “генерал Дтл”. Рек вернулся домой и успел описать в дневнике свой тюремный опыт.
Снова его арестовали 31 декабря, и теперь обвинение звучало еще более гротескно: “оскорбление немецкой валюты”. Видимо, поводом стало письмо к издателю, в котором Рек жаловался, что из‐за высокой инфляции его авторские гонорары значительно обесценились. На сей раз таинственный “генерал Дтл” не появился и не помог арестованному выйти на свободу, а 9 января Река отправили в Дахау, где бушевали эпидемии и где он очень скоро заболел. Некий голландский узник, сидевший вместе с ним, оставил воспоминания, описав Река как жалкого и растерянного старика, издерганного и ослабевшего от голода, которого ничему не научили пережитые им события. У меня в памяти накрепко засела банальная подробность – из тех, что почему‐то лучше запоминаются: Рек был одет в коротковатые брюки и итальянскую военную куртку зеленого цвета без одного рукава.
В свидетельстве о смерти говорится, что Фридрих Рек умер от тифа 16 февраля, но, согласно другим источникам, на самом деле в этот день его убили выстрелом в затылок, и, возможно, это была та самая пуля, которую сам Рек в сентябре 1932 года не истратил на мерзавца, похожего на мелкого чиновника. Тогда проголодавшийся Гитлер от выстрела спасся – вероятно, потому что показался слишком карикатурным персонажем его возможному палачу, недальновидному и снисходительному.
Нельзя быть недальновидным и снисходительным, нельзя упускать удачный случай, поскольку другой, как правило, уже вряд ли представится, и не исключено, что ты жизнью заплатишь за свою совестливость, или за свои сомнения, или за жалость, или за боязнь получить несмываемое клеймо: “однажды я совершил убийство”; в идеале хорошо было бы уметь заглядывать в будущее и заранее узнавать, что когда‐нибудь совершит и кем станет тот или иной человек. Но если мы так мало знаем даже о том, что уже произошло, как поверить мутным предвидениям? А раз Рек-Маллечевен не решился выстрелить в фюрера в ресторане, то уж тем более не был бы способен убить австрийского мальчишку по имени Адольф у дверей школы в Штайре, училища в Линце или, когда тот еще и в школу не ходил, швырнуть в реку в крепко завязанном мешке, набитом камнями, – как поступают с ненужными котятами, – или придушить подушкой в колыбели в Браунау, где тот родился. Рек-Маллечевен не был бы на такое способен, даже если бы ему подвернулся подобный шанс и если бы он, естественно, был гораздо старше. Нет, такое ему и в голову не пришло бы, какие бы знаки ни посылали ему небеса и сколь полную картину грядущего ни нарисовал бы ему Всевышний. Убить мальчишку или младенца из крошечного австрийского городка на границе с Германией, откуда этому мальчишке или младенцу и выбраться‐то будет нелегко; убить, ссылаясь на то, что, выжив, тот уничтожит миллионы, завоюет и зальет кровью огромные территории, – задумай Рек такое, все приняли бы его за сумасшедшего, или за религиозного фанатика, или за маньяка-душегуба, да он и сам бы так решил, несмотря на открывшуюся ему картину и надежное знание того, какие жуткие вещи вызревают внутри у этого невинного ребенка и какую кашу он заварит, оказавшись в Мюнхене, Нюрнберге и Берлине.
Однако теперь‐то нам уже очевидно, что в убийстве нет ничего из ряда вон выходящего, трудного и беззаконного, если известно, какие преступления этот человек совершил или способен совершить, от скольких бед будут избавлены люди, сколько невинных жизней можно спасти благодаря одному-единственному выстрелу, одной петле или трем ножевым ударам: несколько секунд – и готово, кончено, сделано, а жизнь продолжается – жизнь почти всегда продолжается; иногда таких упреждающих мер хватает надолго, ведь полностью ничто и никогда не останавливается; бывают случаи, когда люди с облегчением переводят дух и сделанное одобряют, понимая, что с их плеч сняли чудовищный груз, люди испытывают благодарность и ликуют, получив свободу ценой убийства, – иными словами, они хотя бы на время почувствуют себя счастливыми.
И все равно – трудно сделать первый шаг: ни Торндайк в истории выдуманной, ни Рек в истории реальной в нужный момент не нажали на спусковой крючок, хотя оба уже хорошо знали, что могут уничтожить нечто ужасное и безумное, нечто смердящее и гнилое – с “круглым как луна лицом цвета какой‐то серой студенистой мерзости, воплощение кошмара и зла”. Да, они это понимали, но ведь еще не случилось самого худшего, невообразимо худшего. Мы никогда не учимся на ошибках: надо, чтобы зло перешло все границы, – и только тогда мы рискнем начать действовать; надо, чтобы кошмар стал необратимым, – и только тогда мы примем решение; нам надо увидеть поднятый топор или топор, чье лезвие уже падает на людские шеи, – и только тогда мы осознаем, что пора уничтожить тех, кто держит топоры в руках, доказать, что те, кто казались палачами, – они и на самом деле палачи, а их жертвами неизбежно станем мы сами. То, что еще не произошло, вроде как не заслуживает внимания и не внушает страха, и мало что значат прогнозы и неотвратимость преступлений, ведь никто никогда не слушал пророков, нам нужны доказательства в виде кошмарных фактов, когда уже поздно что‐то предпринимать, когда нельзя ничего исправить и повернуть ход событий вспять.
Вот тогда, как это ни абсурдно, вспоминают о наказании или мести, хотя решиться на них еще труднее и они имеют совсем иную окраску, поскольку речь идет уже не о предотвращении грядущих бед или гнусностей, что в огромной степени помогает оправдать убийство, то есть сам акт убийства (помогает уверенность, что ты предотвращаешь рецидив, повторение, останавливаешь новые трагедии). Правда, тут возможен и другой вариант: а вдруг тот, кто совершил преступление, предательство или выдал своих соратников, впредь не намерен никому и никогда причинять зла; вдруг он больше не опасен, а в прошлом действовал под влиянием страха или помутнения рассудка, слепо идя у кого‐то на поводу, то есть жестокость не была свойственна ему изначально? Если речь идет о мести, убивать заставляют принцип око за око, жгучая ненависть, гнев или нестерпимая боль; если же речь идет о наказании, то это скорее расчетливое предупреждение для других: терпеть подобное впредь мы не намерены. Так действует мафия, никогда не прощающая даже мелких прегрешений и долгов, чтобы не создавался прецедент, чтобы все понимали, что подчиняться следует беспрекословно, нельзя врать, нельзя предавать, нельзя воровать у своих – мафию надо бояться. И точно так же, по сути, действуют государство и государственное правосудие, но они, как правило, все‐таки соблюдают узаконенный ритуал и узаконенные церемонии, хотя иногда ими пренебрегают – в крайнем случае, когда все нужно провернуть в тайне. Суд выносит приговор тому, кто уже совершил преступления, и тем самым предупреждает других о неотвратимости кары.
Я получил задание именно такого рода – наказать или отомстить, а вовсе не предотвратить некое единичное преступление или крупный теракт (по крайней мере в ближайшее время ничего подобного не ожидалось), и поэтому мне было так трудно его выполнить. Если в данном случае речь и шла о мести, то ничего личного я бы в нее не вкладывал. Я получил задание, вернее приказ – а в структурах, построенных на строгой иерархии, приказы привыкаешь выполнять без обсуждения: с самого начала службы ты готов к этому, какие бы сомнения или даже отвращение приказ у тебя ни вызывал (ты в праве и то и другое чувствовать, но ни в коем случае не должен демонстрировать свои чувства и делиться ими с кем‐то). Сегодня многие, оглядываясь назад, с беспечной легкостью судят самого мелкого из пехотинцев, не понимая или не считая нужным подумать, что стало бы с этими пехотинцами, откажись они выполнять приказы. Любого постигла бы не менее жестокая участь, чем их предполагаемых противников, особенно во время войны, а на место бунтовщика мгновенно поставили бы другого, и другой выполнил бы задание, то есть результат получился бы тот же. Бывают смерти, которые уже “предрешены” на небесах, а может, и в преисподней, как сказал Рек-Маллечевен о страданиях немцев. В периоды мира – или перемирия – легко высокомерно изрекать из настоящего, которое с презрением взирает на любое прошлое, из “сейчас”, которое считает себя лучше любого “прежде”: “А вот я бы отказался это делать, я бы взбунтовался”, – и чувствовать себя честным и порядочным. Легко осуждать и клеймить позором того, кто накинул на другого удавку, нажал на спусковой крючок или пустил в ход нож, но люди не желают задуматься, а кем был убитый и сколько невинных жизней такое убийство спасло или сколько невинных погибло по его указке, после его пылких речей и злобных проповедей (такие типы, как правило, сами рук в крови не марают, а грязную работу перекладывают на своих верных приверженцев, на тех, кому по капле вводят в душу яд, а этого достаточно, чтобы заставить их действовать и совершать дикие преступления). Правда, не все и не всегда рассуждают именно так.
Я ушел со службы какое‐то время назад, потому что выгорел, как обычно говорят про тех, кто прежде был полезен, но вдруг перестал быть полезным, кто долгие годы рисковал своей жизнью и за те же годы изрядно порастратил силы, кому против воли пришлось некоторое время “простоять в сухом доке”, а значит, утратить нужные навыки, смекалку и рефлексы, кто, скажем проще, заржавел. Я был отправлен в отставку, и меня это в какой‐то мере даже устраивало. Как нарочно, тогда же я случайно обнаружил, что в самом начале стал жертвой обмана (почему и согласился на эту судьбу, будучи слишком молодым, чтобы возроптать и отказаться), а ловушку мне подстроил мой вербовщик, ставший затем моим куратором и непосредственным шефом, Бертрам Тупра, позднее – просто Берти, который одновременно мог носить имена Рересби, Юр, Дандес, Наткомб, Оксенхэм и наверняка другие, как и сам я звался по‐разному за долгие годы оперативной работы: Фэй, Макгоурэн, Авельянеда, Хёрбигер, Рикардо Бреда, Ли, Роуленд и совсем короткое время – Кромер-Фиттон. Были и еще какие‐то фамилии, но их я уже позабыл, хотя, конечно, вспомню, если напрягу память, ведь любое зло возвращается, а в моих скитаниях было много зла, хотя теперь я стал по ним тосковать, как тоскуют по всему, что осталось в прошлом, – по радости и печали, азарту и даже страданиям, по всему, что раньше заставляло рваться вперед, а потом вдруг разом исчезло.
Я вернулся в Мадрид – к своим истокам, к жене и детям, чье детство пролетело мимо меня и в чью раннюю юность я теперь пытался вписаться – очень осторожно, словно прося у них на то позволения. Жена не отвергла меня безоговорочно после моего отсутствия длиной в целых двенадцать лет, что я воспринял как чудо, – а ведь я не просто отсутствовал, но и не подавал признаков жизни, был вынужден скрываться и сильно бы рисковал, если бы вздумал установить связь с родными, поскольку все должны были считать меня умершим, навсегда выпавшим из игры; и моя жена Берта в мою смерть поверила – покорно, хоть и не до конца, то есть временами верила, а временами нет. Но еще большим чудом было то, что она, считая себя вдовой – поначалу будто бы вдовой или вдовой de facto, а потом и официально признанной, то есть уже совершенно свободной, – не вышла повторно замуж и не выбрала себе нового спутника жизни, иными словами, не похоронила меня насовсем и не заменила кем‐то другим, хотя глагол “заменить” здесь вряд ли уместен. Не потому, что не пожелала устроить свою жизнь или не ставила перед собой такой цели (попытка наверняка увенчалась бы успехом), просто отношения с другими мужчинами у нее почему‐то не складывались, хотя сам я ни о чем подобном Берту никогда не спрашивал, поскольку не видел за собой такого права, к тому же это меня не касалось, как и Берту не касались мои отношения с другими женщинами за годы отсутствия, а ведь у меня даже появилась дочь, которую я оставил в Англии. Больше я девочку не видел и никому не признавался в ее существовании, хотя имя и лицо Вэл, которое для меня не меняется, навсегда останется лицом маленького человечка и часто является мне в грезах и сновидениях. Зовут ее Вэл – или Вэлери. Вэлери Роуленд, надо полагать, если мать позднее не сменила ей фамилию, чтобы наказать меня за бегство; однако, как ни суди, Джеймс Роуленд был лишь призраком, перелетной птицей, вечным странником, который ни на одной станции подолгу не задерживался, да и существовал только в фальшивых документах.
Теперь мы с Бертой не жили вместе – это было бы затруднительно после столь долгой разлуки и моей выдуманной смерти; если говорить честно, человек привыкает к тому, что никто не присутствует при его утренних пробуждениях и нет свидетелей его каждодневной рутины. Но поселился я на улице Лепанто, совсем близко от нашей старой квартиры в доме, расположенном на улице Павиа за Королевским театром, и чтобы дойти от меня до Берты, не надо было даже переходить дорогу. Мне позволялось бывать у них, то есть время от времени наведываться в гости и оставаться ужинать – с детьми или без них, и порой мы с Бертой даже спали вместе, как это бывает у случайных любовников, но скорее по привычке или в память о прошлой любви, чем из желания оживить страсть, а еще потому, что для таких соединений не требовалось утруждать себя ни робкими ухаживаниями, ни пылкой настойчивостью. Я не исключал, что она может прогнать меня и променять на другого мужчину – в любой момент, хоть завтра, ведь в ее нынешней жизни я не занимал важного места, да она и не стала чувствовать себя менее свободной из‐за моего возвращения. Сам же я, откровенно признаюсь, даже не рассматривал для себя возможности начать что‐то новое. Как если бы многие годы чисто утилитарного отношения к женщинам исключили искренний интерес (слишком долго я видел в них лишь инструмент) и сделали меня равнодушным ко всему, кроме физиологии и постельной механики. Я относился к сексу лишь как способу снять напряжение, а в эмоциональном плане отупел и высох. Хотя знал, что в реальности играют свою роль разного рода иллюзии, и наблюдал их – скажем, у своих детей, больше у Элисы, чем у Гильермо, – но иллюзии были свойственны другим, и сам я когда‐то тоже принадлежал к числу этих других, правда, в далекие наивные времена и в совсем иной жизни, которая теперь казалась выдуманной и словно бы не моей.
Когда я вернулся в Мадрид, мне еще не исполнилось сорока трех, и было это в 1994 году, хотя даты все больше и больше путаются у меня в голове, как бывает у столетних стариков, или, хуже того, будто я стал одним из тех покойников, которые исхитряются не исчезать насовсем и вроде бы следят за происходящим на этом свете. Я, конечно, имею в виду лишь эмоции и надежды, а не секс или природные инстинкты. А может, в душе я был настолько рад, когда нам с Бертой удалось хотя бы условно восстановить отношения (пусть лишь как жалкую копию былого, как пародию, эскиз, намек на него, пусть хоть что‐то – какая разница), что мне и в голову не приходило претендовать на большее и вполне хватало ее глаз и тела. Правда, на первых порах я не осмеливался столь однозначно определять для себя ситуацию, но, скорее всего, воспринимал ее именно так.
Да, меня отправили в отставку, а я не возражал, то есть это устраивало обе стороны. Я был разочарован, измотан и открыто заявил о своем отступничестве, или дезертирстве, или как еще такой шаг называют у них в МИ-6, МИ-5, да и в секретных службах любой республики и любого королевства, – и меня списали подчистую, решив, что все соки из такого агента уже выжали: “Теперь обойтись без тебя нам будет легче, чем несколько лет назад, ты слишком долго оставался не у дел, и теперь ничто не мешает тебе вернуться домой”. Так сказал мне Бертрам Тупра, человек в общем‐то симпатичный и порой легкомысленный, а благодаря этому, как мне кажется, ко многому еще и безразличный. Он делал то, что считал нужным, ничему не придавал особого значения, шел вперед, набросив пальто на плечи и не заботясь о том, что полами играет ветер и они реют сзади подобно мантии, живут своей жизнью и могут кого‐то задеть. Он оставлял за собой кучу случайных жертв и никогда не оборачивался, чтобы кинуть на них взгляд, поскольку внушил себе, что таков порядок, царящий в мире – или по крайней мере в той части мира, с которой связана его работа.
Я не ожидал, что снова увижу Тупру или услышу его голос, когда, прощаясь с ним в Лондоне, отказался пожать ему руку, которую он опрометчиво мне протянул (люди, кого‐то обманувшие или оскорбившие, редко комплексуют по этому поводу; больше того, они часто полагают, что о том случае не стоит и вспоминать, поскольку свою вину обычно приуменьшают, а вот обиды, нанесенные им самим, раздувают и долго носят в себе). Тупра как ни в чем не бывало свою руку отдернул и закурил сигарету, словно и не думал о рукопожатии, поэтому мой презрительный жест его ничуть не задел. Я находился у него в подчинении два десятка лет, но теперь ситуация изменилась, прошлое можно было забыть и перечеркнуть; отныне в его глазах я стал рядовым испанцем или просто незнакомцем, на чье поведение не стоит обращать внимания и уж тем более принимать близко к сердцу. Однако и за отправленным в отставку агентом следовало приглядывать: чтобы не распускал язык и не болтал лишнего. Правда, это правило всем нам хорошо известно, и мы обычно помним о таких запретах и держим себя в узде, хотя некоторые все же срываются: начинают пить, подсаживаются на наркотики, впадают в депрессию, каются, жаждут искупления либо возмездия, увлекаются игрой, залезают в чудовищные долги или ищут спасения в религиях – традиционных и новомодных, порой самых низкопробных и, как правило, абсурдных; а порой и просто хотят поважничать, непременно похвастать своими былыми подвигами, не умея смириться с тем, что эти подвиги не упоминаются ни в каких реляциях. Любые секреты, по их мнению, обретают значение лишь тогда, когда наконец перестают быть секретами, то есть по крайней мере однажды их надо раскрыть – хотя бы перед смертью. И часто случается так: человек готовится к смерти (а с некоторыми это бывает по многу раз), поэтому ему уже плевать на последствия того, что он сказал и сделал на краю могилы, ведь сегодня мало кто надеется на хвалебные загробные речи о себе или на лестные посмертные воспоминания. Как хорошо известно, их мало кто удостаивается по прошествии самых первых скорбных часов, пока главную роль играют эмоции и смятение, а не реальное подведение итогов и внятные оценки.
Поэтому я страшно удивился, когда Тупра позвонил мне в мадридское посольство Соединенного Королевства, куда меня опять сразу же приняли после многолетнего отсутствия. И на более высокую, надо отметить, должность – в награду за прошлую самоотверженную службу. Память у меня остается хорошей, но она уже не та, какой была в годы оперативной работы, когда приходилось состыковывать одну ложь с другой и менять маски, избегая опасных оплошностей и противоречий. Поэтому, видно, я и забыл то, что услышал от профессора Питера Уилера еще в ранней юности, когда учился в Оксфорде, а на каникулы возвращался в Мадрид к родителям и к своей невесте Берте. Уилер первым попытался соблазнить меня службой в этих органах, поняв, какую пользу там может принести моя способность легко усваивать разные языки, а также имитировать любые акценты и говоры – по общему мнению, это было настоящим талантом, что, наверное, звучит слишком пафосно для человека, наделенного им с раннего детства. Именно профессор Уилер свел меня с Тупрой, но сам сразу же отошел в сторону и, по сути, отдал меня в руки этого типа – так охотничья собака приносит дичь хозяину. Еще прежде, зондируя почву, Уилер коснулся слухов о своей собственной службе в качестве секретного агента в годы Второй мировой войны и упомянул, что до сих пор время от времени оказывает органам определенного рода услуги – скорее всего, это касалось выискивания наиболее талантливых студентов, которые чем‐то выделялись из общего ряда. А сказал он тогда следующее: “Спецслужбы сами поддерживают связь с тем, кто когда‐то на них работал. Тесную или нет – решают только они. Никто оттуда окончательно не уходит, это было бы равноценно предательству. Мы всегда находимся в боевой готовности и ждем лишь сигнала”. Когда я захотел поточнее вспомнить его слова, они всплыли у меня в голове по‐английски, потому что мы с профессором обычно говорили на его родном языке: он был, разумеется, блестящим испанистом, но так легче выражал свои мысли. We always stand and wait. Еще тогда это показалось мне цитатой или отсылкой к какому‐то тексту, но теперь я стал куда более начитанным, поэтому знал: его реплика была аллюзией на знаменитое стихотворение Джона Мильтона “О слепоте”[3], хотя там два эти глагола имели совсем иной смысл, отличный от приданного им Уилером в тот день и в тех обстоятельствах. Потом он добавил: “Ко мне они уже много лет почти не обращаются, но иногда мы действительно что‐то обсуждаем. Нельзя уйти от них насовсем, пока ты можешь быть там полезен. Это и значит служить стране, и таким образом ты не чувствуешь себя отброшенным на обочину”. Я уловил в его тоне смесь грусти, гордости и облегчения.
Но сам я посчитал свою отставку окончательной и бесповоротной. А с момента возвращения в Испанию видел себя свободным, непригодным к службе, отвергнутым, изгнанным и даже слегка зачумленным – и не слишком задумывался над тем, что каждое утро, заходя в свой кабинет, попадаю на британскую территорию и в итоге получаю распоряжения и жалованье из Форин-офиса; к тому же на протяжении многих лет я отдавал предпочтение этой второй своей родине – и служил в рядах ее защитников ревностно, без колебаний, стал ее патриотом, не будучи, если честно, патриотом первой своей родины, на десятилетия отравленной франкизмом. Короче, если бы я не забыл те слова Уилера, голос Тупры в телефонной трубке не застал бы меня врасплох, мало того, даже не удивил бы. Потому что его звонок был именно напоминанием: никто и никогда не бывает навсегда отлученным, никому не позволят окончательно уйти, если его услуги еще могут пригодиться родине, общему делу, могут послужить тому, что Уилер называл “защитой Королевства”, хотя выражение это настолько широко и расплывчато, что может не подразумевать ни конкретную родину, ни конкретное обширное, но постепенно теряющее прежние размеры королевство. “Оттуда никто не уходит по собственной воле. И они сами поддерживают связь с тем, кто когда‐то на них работал. Тесную или нет – решают только они”. Слова Уилера следовало понимать так: спецслужбы по мере необходимости могут избавиться от агента или перевести его на положение балласта – но исключительно своим решением. А если кто‐то опять им понадобится, опять призовут, призовут и уволят в мгновение ока, во всяком случае, обычно бывает именно так.
В ту ночь, уже договорившись с Тупрой о встрече на один из ближайших дней, я долго – и не без досады – обдумывал новую ситуацию и пришел к выводу, что любые наши спецслужбы весьма похожи на мафию, ведь и к мафиозной семье можно присоединиться, но нельзя из нее выйти – как правило, такой уход означает еще и уход из здешнего мира, уход из жизни. Мы с Тупрой расстались по обоюдному согласию, но, несмотря на это, человек рано или поздно обнаруживает, что ему просто дали отпуск или отправили в запас на неопределенный срок. Там имеют полнейшую информацию о его прошлом, о приказах, которые он выполнял, там способны извратить факты и представить их в самом неприглядном свете. Ведь всем хорошо известно: достаточно добавить в ложь хотя бы каплю правды, чтобы ложь стала не только правдоподобной, но и неопровержимой. Мы попадаем в полную зависимость от тех, кто знает нас с давних пор, но больше всего надо бояться людей, знавших нас еще в юности и лепивших нашу личность по своей прихоти, не говоря уж о тех, кто завербовал нас, платил нам или вел себя с нами прилично, оказывая услуги и делая одолжения. И никуда не спрятаться от всего того, что, как им известно, ты испытал на своей шкуре или совершил, от нанесенных тебе обид, от неодолимых страхов или полученных при свидетелях компенсаций. Вот почему многие ненавидят или с трудом выносят своих бывших благодетелей, видя в любом, кто вытащил тебя из беды, из нищеты или даже спас от смерти, главную опасность и главного врага: с такими людьми не хочется вновь встречаться. Тупра, вне всякого сомнения, был моим главным врагом, человеком, который больше других сделал мне как хорошего, так и плохого, он лучше всех знал пройденный мной путь, несравненно лучше, чем Берта, чем мои уже умершие родители или мои дети, хотя они, по сути, не знали обо мне вообще ничего. А Бертрам Тупра, кроме всего прочего, был еще и великим мастером по части клеветы и обмана.
Меня удивило, что он с такой готовностью прилетел в Мадрид, вместо того чтобы уговорить меня – или заставить угрозами – явиться в Лондон и встретиться с ним в здании без вывески, где, судя по всему, Тупра работал, когда мы с ним распрощались. Я догадывался, чем он там занимался и какие сети плел: однажды он привел меня туда, устроив с помощью видео проверку, которую я, на его взгляд, провалил; во всяком случае, он объяснил, каких способностей недостает лично мне и какими вообще мало кто наделен: нужных ему сотрудников он назвал “истолкователями людей” или “истолкователями жизней”, потому что им достаточно бросить один взгляд на человека, чтобы предсказать его поступки, достаточно лишь раз поговорить с ним или понаблюдать за ним на видеозаписи. Само собой разумелось, что сам Тупра этими волшебными свойствами обладает. И насколько я понял, он планировал привлечь к работе именно таких специалистов, чтобы возродить отдел, работавший во время войны, правда перестроив его по своему усмотрению и на новый лад; вероятно, именно тогда Тупра добивался официального решения и получил его в те годы, когда мы с ним не встречались, в те годы, когда я “стоял в сухом доке”, отправленный в вынужденную ссылку в английскую провинцию и почти все считали меня погибшим. А многие наверняка и продолжают считать, ведь новости о покойниках мало кого интересуют.
Мы с ним поговорили перед моим возвращением в Мадрид, и я упрекнул Тупру за очень давний обман, но не стал спрашивать про его нынешние занятия, сам же он ничего не рассказал (да и с какой стати стал бы мне что‐то рассказывать?). Люди вроде Тупры вечно что‐нибудь выпытывают у других, но сами держат язык за зубами, от них почти ничего нельзя узнать, кроме минимальной информации, без которой трудно выполнить полученное задание. Однако в тот момент меня совершенно не волновало, чем и какими интригами он занят: я пришел на встречу, сунув на всякий случай в карман плаща свой старый “андерковер”; этот маленький револьвер мне позволили иметь при себе в ссылке, и я с ним не расставался. Были мгновения – только мгновения, а после каждого проходили часы и дни, иногда даже целые годы, – когда больше всего мне хотелось застрелить Тупру. Но за это пришлось бы расплачиваться до конца своей жизни, а я ни о чем так не мечтал, как вернуться в единственное для меня родное место, в Мадрид. Мадрид – это моя жена, забытая и незабываемая, это мои дети, которых я не знал. И я нашел их там же, где покинул, мало того, они приняли меня, хоть и скрепя сердце, по крайней мере не отвергли сразу и навсегда. И в той более или менее сносной ситуации я совершенно не желал, чтобы на моем горизонте вновь появился Тупра, так как от него нельзя было ждать прямоты и честности, вообще ничего, кроме мутной суеты, интриг и головоломных загадок. Я же полагал, что все это навсегда осталось в прошлом, что и он оставил меня в еще более далеком прошлом, и уж совсем навсегда.
Я постарался убедить себя, что в Мадрид его привело какое‐то дело, а не только срочная необходимость поговорить со мной, поэтому мне не стоит слишком пыжиться и преувеличивать свою роль в его планах. По телефону он держался вежливо и слегка льстиво, но без приторности, до которой все‐таки никогда не опускался:
– Я знаю, Томас Невинсон, что расстались мы с тобой не сказать чтобы по‐хорошему, но речь идет о большой услуге, которую ты мог бы мне оказать в память о нашей долгой совместной работе.
Он именно так назвал меня: не Томом и не просто по фамилии, как всегда называл раньше, а Томасом (на испанский манер) Невинсоном – ведь только такое сочетание имени и фамилии осталось в моей жизни в какой‐то мере неизменным и незапачканным, поскольку ни разу не прозвучало в ту пору, когда я занимался своими темными делами или получал от Тупры задания. Наверное, он обратился ко мне так, желая подчеркнуть, что теперь я стал для него только Томасом Невинсоном и больше никем, прежним Томасом Невинсоном, выросшим в Мадриде в семье англичанина и испанки, а главное – мальчишкой из района Чамбери. “Ах вот оно что, теперь он просит, чтобы я сделал ему одолжение, – подумал я не без злорадства. – Теперь он зависит от меня, и я получаю шанс сполна с ним поквитаться, отказать ему, послать ко всем чертям и захлопнуть дверь у него перед носом”. Но Тупра умел все перевернуть с ног на голову и быстро изобразил дело уже так, будто он не просит меня об услуге, а сам готов мне посодействовать.
– Хочу сразу пояснить, – добавил он, – услуга эта нужна не только мне, но и одному испанскому другу, а в той стране, где человек живет, никогда не бывает лишним иметь благодарных тебе людей, особенно если это люди влиятельные или могут вот-вот стать влиятельными. Ты теперь обосновался в Мадриде, и тебе такой человек очень даже пригодится. Давай встретимся и потолкуем спокойно, без экивоков. Я изложу суть задания, а ты сам решишь, возьмешься за него или нет. Я не стал бы тебе ничего предлагать, если бы не был уверен, что оно как раз по тебе, мало того, только ты один сумеешь его успешно выполнить. Ведь наша с тобой совместная работа была эффективной, правда? Ты почти никогда меня не подводил, а знал бы ты, сколько ошибок совершали твои коллеги, мы же с тобой проработали вместе больше двадцати лет… Или меньше? Почти не один агент столько не выдерживает, они, как это ни печально, быстро сдуваются и начинают делать глупости. Ты, в отличие от них, выдержал. Тебя хватило надолго.
Он говорил обо мне как о действующем сотруднике, и это звучало неприкрытой лестью, хотя я уже почти два года был в отставке и твердо верил: то, чему я посвятил большую часть своей жизни, никогда не вернется; память моя пребывала в полурастительном или сомнамбулическом состоянии, когда какие‐то вещи одновременно и забываешь и помнишь: в течение дня я старался забыть и то, что когда‐то сделал сам, и то, что сделали со мной, и то, что меня заставляли делать, и особенно то, что мне приходилось делать в один миг и по собственному почину (когда не было возможности получить новые распоряжения и приходилось принимать решения самостоятельно); зато во сне моей головой завладевало прошлое, а может, это было способом выпихнуть его наружу и очистить голову от воспоминаний поближе к рассвету, еще до пробуждения.
Во время нашей последней встречи с Турпой я был вымотан до предела и успел разувериться во всем, да и сам он не считал меня пригодным к дальнейшей работе. Я хотел уехать, и они без возражений позволили мне уехать. К тому же я тогда только что узнал: моя служба началась с обмана. Но кто же по прошествии стольких лет станет вспоминать, как именно что‐то началось? Ведь если любовь растянулась на многие годы, какая разница, кто когда‐то сделал первый шаг или первым проявил инициативу, кто на кого обратил внимание, кто пустил первую любовную стрелу, заставив увидеть будущие отношения в новом свете? Время перечеркивается временем, то есть вновь подоспевшее стирает уходящее, которое уступает ему свое место: сегодняшний день не суммируется со вчерашним, а изгоняет его и заменяет собой; непрерывность размывает границы между раньше и потом – существует только один сплошной поток, а попадая в него, ты уже не сознаешь, что тебе была суждена другая судьба, однако она не состоялась, от нее пришлось отказаться, ее никто не принял всерьез – ты, может, и попытался, но проиграл. Если что‐то не исполнилось, оно теряет жизненную энергию и уходит в тень, растворяется в бескрайнем тумане того, чего нет и никогда не будет: неслучившееся никому не интересно, даже нам самим нет дела до того, что с нами так и не случилось. Поэтому всякого рода умозрительные рассуждения на этот счет лишены всякого смысла. Как только события свершаются, они сами же сводят к нулю себя самих и свое начало, и никто не станет задаваться вопросом, зачем он родился, если теперь идет спорым шагом по некой дорожке. Или уже ступил на некий путь.
Тупра совершенно не изменился, правда, и времени после нашей последней встречи прошло не так уж много, хотя мне оно показался бесконечным: когда ты считаешь какое‐то дело решенным и перерезаешь нить, которая на протяжении десятилетий не отпускала тебя, – нить любви, дружбы, веры, работы, – все, что этой нитью связывалось воедино, с жуткой скоростью распадается, и в итоге наши представления о многих вещах путаются. На мой взгляд, Тупра был одним из тех, кто заранее взваливает на себя груз грядущих лет, а потом долгие-долгие годы пребывает в выбранном им самим возрасте, словно это помогает отодвинуть на неопределенный срок следующий этап; такие люди вроде бы умеют управлять своим внешним видом, как если бы любые перемены зависели лишь от их воли или благосклонного на эти перемены согласия. Можно подумать, что однажды утром, встав перед зеркалом, они говорят: “Что ж, пришла пора выглядеть более респектабельно и солидно, или более решительно, или так, словно я уже прошел огонь, воду и медные трубы. Будь по сему”. А в другой раз они скажут: “Вот этот вариант мне нравится, он вполне годится. На нем пока и остановимся – до нового распоряжения”. У меня сложилось впечатление, будто он контролировал не только все, связанное со своими планами и кознями, но и собственные возрастные процессы – переход к зрелости, а потом – к старости. Вероятно, каждому из его многочисленных имен соответствовал определенный возраст (лично я помню шесть из них). Результат ошеломлял и раздражал: ты видел перед собой человека, которому якобы подчинено время, по крайней мере все то, что влияет на его собственный физический облик. Я познакомился с Тупрой в Оксфорде двадцать с лишним лет назад, высчитывать точнее мне сейчас просто лень, но, глядя на него, никто бы не сказал, что к тогдашнему его возрасту прибавилась почти четверть века, а не десяток лет, да и этот десяток отнесся к нему вполне щадяще. Правда, Тупра все‐таки подкрашивал волосы на висках – эту кокетливую деталь я заметил еще в Англии.
Право выбрать место встречи я предоставил ему, хотя на сей раз это он хотел со мной увидеться, но трудно было пренебречь законами иерархии, даже если подчиненный перестал уважать шефа, презирает его, чувствует себя оскорбленным и не забыл старой обиды. Меня удивило, что Тупра предложил для разговора, несмотря на зиму, сквер (дело было 6 января 1997 года, в День волхвов, но для него не существовали испанские праздники, он о них ничего не знал и, естественно, с ними не считался), расположенный ближе к моему дому на улице Лепанто, чем к району, с которым его самого могли связывать дела во время краткого пребывания в Мадриде, то есть к британскому посольству. Во время нашего предварительного разговора он не сказал ничего, что не имело бы прямого отношения лично ко мне: не дал номера своего телефона, не упомянул названия гостиницы, в которой остановился, хотя, возможно, ему дали в посольстве комнату, предназначенную для важных гостей, или он оккупировал квартиру какого‐нибудь сотрудника британского консульства либо преподавателя Британской школы, где я учился до четырнадцати лет, после чего перешел в школу “Студия”, которую Берта посещала с первого до последнего класса, – там мы с ней и познакомились.
Тупра был персоной влиятельной, как я считал, и не только в своих кругах и в своей стране, где занимал более высокое положение, чем представители почти любой видимой властной структуры, – выше, разумеется, любого полицейского чина, в чем я смог убедиться еще в Оксфорде на примере сержанта Морса – кажется сержанта, – а может, и выше тех военных, кому положено открыто носить форму; я никогда не знал звания Тупры – не знал раньше, не знаю и теперь (но думаю, за несомненные заслуги его не раз повышали), хотя внешне он выглядел человеком сугубо штатским. А что касается невидимой власти и тех начальников, что редко покидают свои устланные коврами кабинеты, то Тупра, надо полагать, часто водил их за нос или предпочитал не консультироваться с ними, если догадывался, что ответом ему будут скептически поднятые брови и долгое молчание, равнозначное отказу. А кроме того, этим начальникам всегда очень удобно, когда подчиненный действует на свой страх и риск, или нарушает приказы, или не задает неприятных вопросов, чтобы потом, если дело закончится провалом либо громким скандалом, можно было вполне искренне заявить, что они ни о чем подобном даже не слышали.
Тупра был влиятельной персоной и в большей части Европы, и в Содружестве наций, и, возможно – кто знает? – в Соединенных Штатах, а также в союзных азиатских государствах. Он предпочитал не раскрывать своего местонахождения, чтобы его не застали врасплох, и по мере необходимости сам выходил на связь: появлялся неизменно своевременно, управлял ходом событий и брал инициативу в свои руки. Он терпеть не мог, когда его о чем‐то просили или сообщали о непредвиденных проблемах, зато сам то и дело о чем‐то просил других или ставил в тупик, требуя едва ли не подвигов и давая соответствующие инструкции.
В маленький и уединенный сквер, расположенный рядом с Соломенной площадью, я пришел раньше Тупры и сел на одну из двух каменных скамеек без спинки. Сквер выглядел зеленым пятачком в центре старого Мадрида, который называют “Австрийским”. Как мне теперь кажется, это вряд ли был сад Принца Англоны, открытый для публики лишь несколько лет спустя, хотя моя ненадежная память указывает именно на него (память играет со мной все более неприятные шутки: отдельные имена, факты и детали я воспроизвожу с фотографической точностью, а другие, относящиеся к тому же периоду, покрыты густым туманом). День был холодным, и я надел кепку с длинным козырьком, скорее в голландском или французском стиле, чем в испанском или английском, и она, по словам Берты, делала меня похожим на моряка. В мои сорок пять лет лысина мне еще не угрожала, нет, даже намека на нее не было, а вот залысины уже наметились, хотя их вполне можно было назвать интересными, и они, к счастью, не увеличивались, однако волосы в целом стали редеть. Кепку я снимать не стал – мы ведь находились под открытым небом, хотя я до сих пор не избавился от вежливой привычки непременно снимать головной убор в помещении, если, разумеется, не играл роль какого‐нибудь грубого и невоспитанного типа. При такой температуре отсутствие публики в сквере совсем не удивляло, а удивило меня скорее то, что он был открыт, хотя вряд ли Тупра заранее это проверил. По расположенной рядом Соломенной площади люди прогуливались целыми семьями, дети хвастались полученными к празднику подарками, а некоторые взрослые держали в руках хорошо упакованные “пироги волхвов”. На паре ресторанных террас вокруг столиков расставили стулья, хотя сезон был для этого совсем неподходящим, однако мадридцев отличает любовь к уличной жизни, Мадрид не терпит сидения в закрытых помещениях, и многие, одевшись потеплее, выбирали именно террасы для позднего завтрака или аперитива. День волхвов – праздник неспешный и довольно тихий.
Несколько минут спустя в парк вошла женщина, одетая по‐зимнему, во всяком случае на голове у нее была шерстяная шапка; с первого взгляда я дал женщине лет тридцать. Она быстро и с легкой досадой глянула на мою скамейку – словно я вторгся на чужую территорию – и направилась ко второй скамейке, стоявшей чуть поодаль. Я увидел ее голубые глаза, увидел, как она достала из сумки томик “Библиотеки Плеяды”, которую легко узнает каждый, кто имел с ней дело. Из чистого любопытства я попытался определить, что это за книга, и, прежде чем женщина взялась за чтение, разглядел портрет автора: кажется, это был молодой Шатобриан с романтически растрепанной шевелюрой, а значит, читала она “Замогильные записки”. Я, естественно, заподозрил, что любительницу чтения прислал сюда Тупра – в качестве прикрытия или для подстраховки; он был предусмотрителен и педантичен несмотря на то, что привык всегда идти напролом, и несмотря на свои грубые и даже задиристые манеры: он ведь, как и я, учился в Оксфорде и осваивал там историю Средних веков, о чем однажды сообщил мне не без гордости, которую, как ни старался, не мог скрыть. Поступить в такой университет было для него, думаю, настоящим подвигом, если учесть, из какой среды он, скорее всего, вышел. Но и слишком уж хвастаться Тупра вроде бы не хотел: “Это помогло мне лучше узнать людей, ведь нынешние, хотя и отличаются от средневековых своей повседневной жизнью и более цивилизованным поведением, все равно в решающих ситуациях мигом способны превратиться в дикарей, а мы с тобой сталкиваемся именно с подобными ситуациями – и куда чаще, чем большинство наших сограждан. Но я никогда не занимался наукой профессионально, это мне не по зубам”. К тому же Тупра был учеником профессора Уилера, но не в научном смысле, а в более широком и глубоком, в том, что касалось формирования личности.
Одинокая женщина, которая читает по‐французски Шатобриана недалеко от Соломенной площади в январе месяце (она сняла с правой руки шерстяную перчатку, так как иначе не смогла бы перелистывать тончайшие страницы “Плеяды”), – это выглядело как спектакль или заранее подготовленная tableau vivant[4], а может, как предупреждение, хотя и весьма замысловатое и не слишком внятное: чтобы еще до встречи с Тупрой я задумался о замогильном мире, где вроде бы уже провел много лет, по крайней мере так считали мои близкие и мои враги, те, кого я обидел, кто хотел бы меня уничтожить, желая отомстить или восстановить справедливость (а пострадавший редко разделяет две эти причины), кто меня разыскивал и преследовал. Ладно, если речь действительно шла о маловероятном и изощренном предупреждении, то я его получил и принял к сведению, во всяком случае, мысль о загробном мире сразу запала мне в голову. Женщина погрузилась в чтение и, пока я ждал Тупру, больше ни разу не посмотрела в мою сторону.
Он явился с опозданием на семь-восемь минут, что тоже было для него характерно – Тупра всегда заставлял себя ждать, но не слишком долго, хотя бы немного. На сей раз пальто он надел как положено и застегнул на все пуговицы, а не накинул, по своему обыкновению, на плечи, поскольку в Мадриде часто бывает гораздо холоднее, чем в Лондоне. Темное пальто доходило до середины икры, как было модно в семидесятые и восьмидесятые годы, дополняли его светло-серый шарф и черные кожаные перчатки, такие же как у меня, – мы были одеты почти одинаково. Шагал Тупра решительно и в то же время беззаботно, словно взял за правило никогда не спешить, а весь мир должен замереть в ожидании, пока этот тип вникнет в каждое из дел, которые ему предстоят. Да и с чего бы его походке утратить уверенность? Он был всего на несколько лет старше меня. Правда, хорошо зная Тупру, я мог бы сказать, что он обогнал меня на несколько жизней. Теперь, пожалуй, уже не настолько, как раньше, ведь я тоже прикопил себе пару-тройку с тех далеких-далеких пор, а одну жизнь, или пару, даже успел потерять, когда меня объявили умершим in absentia[5] и Берту официально признали вдовой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Едва Тупра вошел в сквер, я опять глянул на девушку. Но она не подняла глаз, чтобы оценить нового человека, покусившегося на ее владения, и это утвердило меня в мысли, что им же самим она и была сюда прислана. Зачем? Кто же знает? Возможно, не доверял мне – ведь я мог перемениться. Он сел рядом со мной, расстегнул нижние пуговицы пальто, чтобы можно было свободно закинуть ногу на ногу, достал сигарету, закурил, все еще не произнеся ни слова, даже не поздоровавшись (он всего лишь мотнул в мою сторону подбородком), как если бы с нашей последней встречи прошло не более недели. Как если бы он видел меня каждый день наравне с другими своими сотрудниками. Но я перестал быть его сотрудником в 1994 году, навсегда перестал.
– Мне нравится брать на заметку всякого рода штампы, – сказал он наконец. – Ты когда‐нибудь обращал внимание, что в шпионских фильмах герои всегда словно случайно садятся рядом на одну и ту же скамейку? Хотя поблизости стоят еще пять совершенно свободных. Это очень смешно. Здесь по крайней мере картина другая.
1
В основу фильма Фрица Ланга “Охота на человека” (1941) положен роман Джеффри Хаусхолда “Одинокий волк” (1939). (Здесь и далее – прим. перев.)
2
А. Дюма. Три мушкетера: “Да, всего лишь убийство… – сказал Атос, бледный как смерть. – Но что это? Кажется, у меня кончилось вино…”. Перевод В. Вальдман, Д. Лифшиц, К. Ксаниной.
3
В переводе С. Маршака последние строки стихотворения звучат так:
Но, может быть, не меньше служит тот
Высокой воле, кто стоит и ждет.
4
Живая картина (франц.).
5
Смерть in absentia – признание официальными инстанциями (обычно по решению суда) презумпции (не факта) смерти физического лица при отсутствии его опознанного тела.