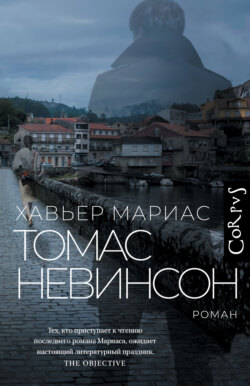Читать книгу Томас Невинсон - - Страница 4
III
ОглавлениеЯвытащил сигарету, и Тупра тотчас последовал моему примеру, хотя после того, как мы покинули сквер, какое‐то время от курения воздерживался. Он курил больше, чем я или Берта, то есть слишком много даже для 1997 года, когда мир еще не впал в истерику по поводу табака и не изощрялся в запретах на все подряд. Тип, который без умолку болтал за соседним столиком, очень скоро страшно мне надоел и мешал сосредоточиться: голос у него был оглушительный – настоящий пулемет, а каждая фраза напоминала пулеметную очередь с соответствующими ранениями, и трудно было понять, почему он завладел беседой в их компании, словно считался там непререкаемым авторитетом. К тому же он разглагольствовал о вещах для меня тошнотворных (мой желудок во всем, что касалось нашей национальной кухни, всегда был не совсем испанским – или совсем не испанским). Мужчина вел речь о куриной печени, вареных внутренностях (сычуге), мозгах, куриных или бараньих потрохах, рубце и кальмарах с луком. Я видел его со спины – бритый затылок и толстую шею, по которым обычно можно узнать безнадежных идиотов. Ему подошли бы такие клички, как Дуболом, Балабол, Пустобрех, Трепач или что‐то в том же роде.
– Ты имеешь в виду Сарагосу, Вик и Барселону, насколько я понял? – спросил я.
– Барселону и Сарагосу. Первый взрыв – девятнадцатое июня восемьдесят седьмого, торговый центр “Гиперкор”. – Он произнес название на английский манер, примерно как “Хайперкор”. – Второй взрыв – одиннадцатое декабря. Рождество там получилось невеселым.
Перед глазами у меня тотчас всплыла фотография, появившаяся в газетах в тот же день. Кажется, это было в Сарагосе. Фотография из тех, которые потом невозможно забыть: на фоне разбросанных повсюду обломков и плывущего зловещего дыма идет гвардеец с окровавленным лицом в форме, из‐под которой виднеется галстук, гвардеец несет на руках девочку лет семи-восьми с раздробленной ногой, и на ее лице отражается только боль, просто боль. От таких черно-белых фотографий нельзя оторвать глаз. Чуть дальше стоит супружеская пара: муж обнимает жену, вцепившуюся в ручки прогулочной коляски, где сидит годовалый, не старше, младенец, но он‐то благодаря этому не запомнит ничего из виденного и слышанного. Чуть в стороне от них застыл мужчина (наверное, отец), закрывающий руками ребенка лет четырех-пяти, с ними рядом – девочка побольше держится вполне уверенно. Но все же в первую очередь мне запомнился молодой гвардеец – или пожарный – с ребенком. И хотя лицо у него залито кровью (его собственной или чужой, покрывающей также руку спасенной им девочки) и она мешает различить черты, взгляд его выражает смесь решимости и глубокого потрясения, возможно, еще и гнева, но прибереженного на будущее, а также – сомнение в реальности происходящего. И решимость спасти изувеченную девочку, хотя на нее он не смотрит, устремив взгляд вперед, судя по всему, на санитарную машину, до которой надо дойти как можно скорее. Глубокое потрясение? Причин для него могло быть много: и то, что он не сумел предупредить эту трагедию, и зрелище невыносимой беды, и ужас, испытанный детьми, которые жили в этих казармах и пока еще мало что понимали, и гибель товарищей. Помнится, чуть позднее ЭТА со страниц своих печатных изданий и устами своих пропагандистов попыталась свалить вину на родителей пострадавших детей (чтобы обелить террористов): если бы гвардейцы не поселились в домах-казармах вместе с семьями, не было бы жертв среди малолетних; это, мол, сами гвардейцы прятались за детьми, как за живым щитом, подвергая их опасности. Террористы прекрасно понимали, что убийство детей вредит их репутации. Но только не в глазах фанатичных сторонников, которые с восторгом встречали любые их акции и требовали новых – ведь позднее всегда можно будет найти им оправдание, и найти без труда. По-настоящему трудно дается лишь первый шаг, а он был сделан еще много веков назад, и каждый следующий шаг – это уже естественное движение вперед, надо лишь передвигать одну ногу за другой и не останавливаться.
Я вспомнил старую газетную фотографию, но по‐прежнему не смотрел на снимки, разложенные передо мной на столике, хотя с каждой минутой мне все больше хотелось это сделать, ведь очень тянет взглянуть на то, на что ты сам себе смотреть запретил. Тупра сидел ближе, чем я, к болтливому Дуболому – почти спиной к спине. Как я заметил, его тоже выводили из себя его зычный голос и непрерывный словесный поток, но он, к счастью, ни слова не понимал. Теперь наш сосед заговорил про гальинехас, жареные птичьи потроха, и хотя я не знал, что это за блюдо, оно все равно показалось мне омерзительным, а затем он перешел к рецепту “кровяной колбасы”, для которой кровь следует жарить без всяких добавок и есть обязательно свежеприготовленной. Удивительно, что девять или даже десять вполне адекватных на вид людей выслушивали эти откровения, не пытаясь их прервать или даже врезать Трепачу по морде. Именно это, видимо, называется “завладеть аудиторией” и доступно даже некоторым придуркам; подобные примеры нам хорошо известны – по крайней мере с тридцатых годов двадцатого века. Тупра время от времени чуть поворачивал голову, словно ему было занятно взглянуть на лицо этого пустозвона.
– О чем он говорит? – спросил Тупра. – Впечатление такое, будто генерал обращается с торжественной речью к своему войску. Неужто надо непременно орать во всю глотку? Вокруг ведь полно народу.
– Несет всякую чушь, в основном про еду. Не обращай внимания.
– Сейчас все просто помешались на кулинарии. Я этого не понимаю. Нет ничего скучнее разговоров про кухню и всякие рецепты. И вообще, у меня уже голова от него распухла. Не знаю, может, пора его все‐таки осадить? Необязательно всей площади знать про его вкусы. По-моему, он испытывает наше терпение.
– Так что все‐таки сделала эта женщина? – спросил я, желая отвлечь Тупру от болтливого соседа и вернуть к прерванному разговору. – Или одна из трех.
Тупра был очень вспыльчивым, и я боялся, что он втянет меня в скандал с громогласным идиотом, так как по‐прежнему считал себя вправе давать мне указания.
– Точно не знаю, и не это главное. Во всяком случае, сама она не сидела за рулем автомобиля-бомбы ни в Барселоне, ни в Сарагосе. Ее там вообще не было. Но в подготовке терактов участвовала и свой вклад в них внесла, наверняка издалека, как я уже сказал. Она все организовала, давала инструкции исполнителям, убеждала, разрабатывала план или финансировала, точно не знаю. Или отдавала приказы. Достоверно известно одно: без нее теракты совершить не удалось бы. Мой друг Джордж знает, пожалуй, больше, но я не требовал от него подробностей. Это было бы бестактно, и мы не привыкли так себя вести. Я верю ему на слово, как и он мне. Джордж просит об услуге, я ему эту услугу в силу своих возможностей оказываю, не задавая лишних вопросов. А в прошлый раз, надо признаться, роли распределялись иначе. Именно так мы и работаем: сегодня я тебе, завтра ты мне. Мы им помогаем разобраться с ЭТА, они нам – с ИРА, ведь обе группировки тоже друг друга поддерживают. Мы же не глупее их, правда? Подробности тебе не понадобятся, даже если ты включишься в работу. Я никогда не говорил тебе больше самого необходимого, да ты и сам не желал знать лишнего – как оно у нас заведено. Ты никогда не досаждал мне расспросами, не интересовался мотивами и поэтому был отличным агентом. Не говоря о твоих несомненных способностях. – Он решил, что пора пустить в ход очередную порцию лести.
– Если я включусь во что?
– Надо найти эту женщину… Разоблачить. И как только ты удосужишься взглянуть на снимки, мы обсудим дальнейшее. – Он внимательно следил за моим взглядом и знал, что я фотографий еще не видел.
– “Именно так мы и работаем”, по твоим словам. Насколько я понимаю, твой друг Джордж – сотрудник здешних спецслужб. Надо полагать, это CESID[13].
Тупра отрицательно помотал головой:
– Нет, ничего подобного, вернее, не совсем так. – Он легко сам себе противоречил, но такие мелочи его не смущали. – Не исключено, что в один прекрасный день он эти службы даже возглавит, что меня бы не удивило. Но в настоящий момент Джордж там не числится и находится в свободном полете, то есть действует самостоятельно. И действует очень аккуратно, ведь они здесь уже порядочно накосячили. Да и я в этой истории участвую вроде как по своему почину, как частное лицо, не буду тебя обманывать. Хотя я и вообще не собираюсь тебя обманывать.
– То есть ты хочешь сказать, что речь идет о личной услуге и ты не получал никаких приказов сверху? Вся операция – твоя инициатива, а начальство ни сном ни духом о ней не ведает? Колин Макколл, само собой, понятия ни о чем не имеет, – сказал я, назвав имя последнего директора секретной разведывательной службы, в косвенном подчинении у которого я когда‐то находился.
Тупра сухо рассмеялся. Тут официантка принесла нам пиво с бравами. Он аккуратно сложил снимки вместе, чтобы освободить место для тарелки. Потом спросил меня, неужели эта картошка подается тоже бесплатно, поскольку мы получили довольно солидную порцию. Я ответил, что нет, что на сей раз я ее заказал и надеюсь, что бравы ему понравятся. Тупра тут же подцепил одну на вилочку, обмакнул в красный соус и сунул в рот. Он был голоден. Блюдо ему и вправду понравилось, сомневаться не приходилось.
– Немного островато, тебе не кажется? – с довольным видом заметил он. – Это мексиканская кухня? – И только потом ответил на мой вопрос: – Теперь там сидит не Макколл, а Спеддинг. С девяносто четвертого года. Ты к тому времени уже ушел, но я не думал, что до тебя такие сведения не долетели, ведь ты в любом случае работаешь на Форин-офис.
– Я занимаюсь только своей непосредственной работой. Остальное для меня просто не существует.
Тупра пропустил мою реплику мимо ушей. Он знал, что подобные вещи существуют всегда и для всех, ничего нельзя просто так взять и отодвинуть в прошлое. Прошлое – это назойливый проныра, которого невозможно удержать в узде.
– Приказы – вещь запутанная и загадочная, Том, они похожи на лабиринт. Иногда мы можем заблудиться там или кого‐то не заметить. Цепь часто бывает длинной, а потому не слишком крепкой и тугой. Неудивительно, если одно из звеньев выскакивает, или гнется, или выворачивается, или вообще отсутствует. Что касается осведомленности, то большинство наших коллег предпочитают знать поменьше – как ты помнишь по собственному опыту. Мало кто из начальства так уж досконально обо всем расспрашивает – так легче потом изобразить изумление либо разгневаться, если операция провалилась или во время ее проведения люди погорячились. То есть перегнули палку. Сам знаешь, как трудно постоянно держать себя в руках, вернее сказать, держать под контролем свои руки. В некоторых ситуациях они, эти руки, действуют вроде как сами по себе. И с тобой такое тоже бывало, хоть и давно, вспомни‐ка.
Его слова меня сильно задели, я воспринял их как удар ниже пояса. Наверняка этот ход был заранее продуман, чтобы я стал более покладистым, услышав его просьбу, в чем бы она ни заключалась: он старался внедрить мне в голову своего лазутчика, сперва приоткрыв для него маленькую калитку, то есть помогал проникнуть внутрь и начать действовать оттуда, как обычно поступают засланные агенты (вроде меня), оказываясь за крепостными стенами в городе или замке, которые в результате капитулируют. Понятно, что меня держало в осаде мое прошлое, но я каждое утро усилием воли – почти автоматически – старался отодвинуть его подальше, что мне обычно и удавалось. Мы привыкаем отгораживаться от лишних мыслей, картин, фактов, даже от собственных поступков, и это в конце концов превращается в такую же рутину (нет, не в такую же, тут я преувеличиваю), как привычка после утреннего подъема чистить зубы, принимать душ и бриться, – и мы выходим на улицу чистые телом и с легкой душой. Иное дело, когда о твоем прошлом тебе вдруг напоминает кто‐то другой. Тупра лучше всех знал мою историю, чем не постеснялся воспользоваться. Но не по злому умыслу, а потому, что хотел добиться своего и ради успеха дела считал пригодными любые методы.
Да, не стану отрицать, за двадцать с лишним лет службы я дважды, что называется, соскочил с резьбы, и он, думаю, имел в виду именно эти случаи, так как в свое время я сам же ему о них и докладывал, правда только устно, не оставляя никаких письменных следов. Мне дважды довелось совершать убийства: в первый раз по необходимости, вынужденно и вполне оправданно, чтобы спастись самому; во второй раз – чтобы пресечь то, что могло принести много жертв (да, всего лишь “могло”, ведь такие вещи никогда нельзя предугадать заранее и наверняка), не меньше, чем в Барселоне и Сарагосе. И во втором случае у меня вдруг мелькнула мысль: а ведь месть и кара трудно различимы между собой. Позже я успокаивал себя тем, что в моей истории пришлось всего по одному убийству на каждые десять или одиннадцать лет службы, а с некоторыми моими товарищами такое случалось гораздо чаще – палец словно сам нажимал на спусковой крючок, или рука сама хваталась за нож.
Это мало утешает, как не слишком помогает и весьма удобный аргумент: “Я выбрал наименьшее из зол, а другого выхода у меня просто не было”. Или такой: “Исправить уже ничего нельзя, время не повернешь вспять, тех людей нет в живых, и мне следует подумать о себе, а не о покойниках, которые уходят от нас все дальше и для которых я при всем желании ничего не могу сделать”. Или, конечно же, еще такой: “Они знали, на что шли, знали, что могут погибнуть, как знал это я сам и знали многие другие, поскольку иначе не бывает ни на явных войнах, ни на тайных”.
Стоит ли говорить, что кто‐то погибал не без моей помощи, хотя и не напрямую от моих рук: я добывал нужные сведения и разоблачал врагов, втираясь под чужой маской к ним в доверие. Но на своем личном счету мы держим лишь убийства, совершенные нами собственноручно, и когда чью‐то смерть мы видели своими глазами. Так смерть Анны Болейн была неотделима от свиста в воздухе, с которым “мечник из Кале” опустил вниз свой быстрый меч, для чего любезно согласился пересечь Ла-Манш.
В таких случаях важны воля, решимость и цель: даже если это воля зависимая, шаткая и слишком размытая, то есть половинчатая, когда она отчасти подчиняется нам, а отчасти – нашим гневу или страху. Человек или защищается и тогда действует очертя голову, или вполне расчетливо нацелен на предотвращение трагедии, или хочет покарать и отомстить за зло, причиненное “своим” – тем “своим”, которых он лично знать не знал и которые, вполне вероятно, были мерзавцами, но кому же это ведомо: важно, что они стали жертвами (а мерзавцы встречаются в любом лагере, и в нашем, разумеется, тоже). И главное, что ты своими глазами видел смерть убитого тобой человека. “Того типа прикончил я сам. Он изо всех сил сопротивлялся и хотел убить меня, но не сумел, потому что я оказался изворотливее, или сильнее, или проворнее, или хитрее, или мне больше повезло. Я уничтожил гадину и наверняка спас мой мир от многих бедствий, иначе говоря, в какой‐то мере восстановил справедливость, если вспомнить о том, что этот негодяй уже успел натворить”.
Но невозможно истребить воспоминания об увиденном, о том, как человек в последний раз жадно хватал ртом воздух и как истекал кровью, нельзя забыть его ужас, предсмертную покорность судьбе, а также изумление, с которым он вдруг понял, что ранен, и прикидывал (любой человек всегда именно это и прикидывает), не пришел ли его последний час, хотя этот час, разумеется, пришел. Тем не менее во взгляде умирающего мы ловим сомнение или отчаянный протест и почти угадываем последние мысли: “Нет, этого просто не может быть, не может быть, чтобы я перестал видеть и слышать, чтобы больше не смог произнести ни слова, чтобы перестала работать эта пока еще работающая голова и разум в ней угас, а ведь она еще полна мыслей и причиняет мне страдания; не может быть, чтобы я не встал на ноги и не пошевелил хотя бы пальцем, чтобы меня бросили в яму, в реку, в овраг, в озеро или сожгли, как дрова, но без душистого древесного дыма, ведь от моего тела будет подниматься лишь зловонный дым, будет пахнуть горелым мясом, если только к тому времени это тело будет все еще моим. Но это точно буду я в глазах тех, кто меня убил, кто вглядывался в мои черты, удостоверяя мою личность, но я не буду собой в собственном сознании, так как всякое сознание меня уже покинет…”
Оглядываясь назад, ты знаешь, что по тем, убитым тобой, не звонили колокола, хотя каждый из них умер не только в одиночку, но и как абсолютно конкретная личность, и все равно никто не спустил над ними штор.
Все это я хорошо себе представляю, потому что несколько раз – да, несколько раз – ждал, что и со мной вот-вот покончат таким же образом: пустят пулю в лоб или в затылок, пырнут ножом в бок, а может, отравят, и я умру, корчась от непонятной боли и задыхаясь.
Помню, что один из двоих мною убитых, поняв, что умирает, посмотрел на меня без злобы или с легким укором, но адресованным не столько мне, сколько царящим в мире порядкам, по чьей вине, а отнюдь не по собственной воле, он оказался здесь: этот мир навязал ему свои правила игры, дав на время приют, а теперь вдруг куда‐то уносил, опять же не спросив на то его согласия, выбрасывал вон и уничтожал. И в последний миг, напрягая уходящие силы, этот человек беспокойно задергал ногами, очень быстро, словно еще мог убежать. Он лежал на земле, а его ноги бежали в воздухе, запоздало пытаясь спастись, хотя на самом деле это были невесомые и беспомощные шаги, которые вели в небытие.
И любой человек тоже цепляется за этот мировой порядок, стараясь начать каждый новый день без балласта, накопившегося во сне, пока голова остается беззащитной и там образуется осадочный слой. Ты твердишь себе, что всем нам рано или поздно приходится от чего‐то умирать, и те люди, равно как и я, и как Тупра, и как другие, решившие внести свой вклад в формирование мира, изменив в нем хотя бы самые ничтожные детали, даже если перемен почти никто не заметит и об этом потом мало кто вспомнит, – так вот, эти люди сами выбрали для себя возможную форму гибели – не от болезни, несчастного случая, старческой немощи или скатывания вниз по наклонной, а от руки врага, которого и сами тоже старались уничтожить. И ты твердишь себе, что в подобных обстоятельствах в какой‐то мере перестаешь быть самим собой: я был не Томасом Невинсоном, а неким безымянным врагом, которого во всех передрягах хранила судьба, как на протяжении истории она часто благоволила людям, помогая выжить на войне, тем, о ком потом редко вспоминали, кем пренебрегали и кого обходили по службе.
Были наполеоновские солдаты, вернувшиеся домой целыми и невредимыми, пройдя пешком тысячи километров и приняв участие в бесчисленных сражениях, которые обычно продолжались до позднего вечера и прерывались лишь с наступлением темноты; эти солдаты страдали от голода и холода, шагали в разбитых сапогах с тяжелейшим снаряжением – по Европе, России и Северной Африке.
Были средневековые воины, вернувшиеся после крестовых походов и прожившие еще многие годы под крышей родного дома, хотя не надеялись когда‐либо снова его увидеть, пока терпели лишения или устраивали погромы в далеких жарких землях. Кто‐то погибал в первой же схватке и от первых же выстрелов, а кто‐то за десять – пятнадцать лет не получил ни одной царапины (или обходился парой ерундовых ран).
Большинство ввязывается в такие дела не по доброй воле, так как подлежат обязательному призыву, а кто‐то по молодости лет идет добровольцем, не догадываясь, что его ждет и какие ужасы предстоит испытать. В отличие от них, мы подписываем контракт сознательно и вроде должны понимать – или хорошо понимаем, – чем могут обернуться ошибка в расчете, неловкий шаг и отсутствие выдержки. С первого раза я не согласился поступить на эту службу, но меня, наивного простака, было легко запугать и обмануть, а потом, когда было еще не слишком поздно и решение зависело от меня, я не ушел оттуда, поскольку поверил, что служу из чувства долга, что эта служба полезна, а еще потому, что испытывал определенное удовольствие и гордость, о чем не принято говорить вслух, а они потом перерастают в верность и патриотизм, в сознание, что ты защищаешь Королевство.
Тупра в мгновение ока разделался с бравами, стыдливо оставив мне одну штучку, то ли был голоден, то ли они действительно очень ему понравились. Он попросил заказать еще порцию – уже для меня, раз первую как‐то незаметно умял сам. Я сделал знак официантке, кивнул на почти пустое блюдо, а потом крутанул указательным пальцем, прося повторить. Между тем терраса быстро заполнялась, словно дело было весной, да и я уже перестал чувствовать холод.
– Она тебя поняла? – спросил Тупра.
Судя по всему, ему не терпелось поскорее получить еще одно блюдо картошки, во всяком случае, он не выпускал из рук вилочки, как ребенок, требующий добавки.
– Поняла, конечно, мы же здесь привыкли объясняться знаками – в отличие от Англии, и никаких проблем с этим не возникает. – Потом я решил все‐таки ответить на нанесенный мне подлый удар: – Знаешь, Тупра, я никогда не терял над собой контроля. И в свое время тебе обо всем докладывал: в первый раз у меня не оставалось другого выхода, во второй – мне пришлось выбирать из двух зол меньшее. Я поступил так, как ты сам же меня учил: отвел неизбежную беду. Или, по‐твоему, цели я не достиг? Если ты, разумеется, помнишь ту историю.
– Точнее было бы сказать: не неизбежную беду, а вероятную. Точнее было бы сказать так: ты всегда знал, что делаешь, и всегда поступал как нужно. Надеюсь, и впредь себе не изменишь, когда найдешь женщину, на которую все никак не желаешь взглянуть.
Тупра не мог спокойно продолжать нашу беседу. Сосед-трепач выводил его из себя своим пронзительным голосом и бесконечными рассуждениями: теперь он завел речь о том, как закалывают свиней в какой‐то там области, на его родине, и делился отвратительными подробностями. Что лишний раз доказывало: Мадрид был захвачен чужаками.
– Ты наконец приструнишь этого типа, или я сам должен им заняться? Он нас просто оглушил. С меня хватит! О чем он вещает? Опять о еде?
– Более или менее, но теперь в ход пошли омерзительные детали, а это еще хуже. А что ты, черт побери, собираешься ему сказать? Ты ведь не знаешь испанского. Давай перейдем на другую террасу, не впутывай меня в скандал. Меньше всего мне хочется участвовать в потасовке с этой компанией. Их слишком много. К тому же сегодня День волхвов.
– Уже поздно куда‐то пересаживаться. Нам должны вот-вот принести еще порцию картошки, – произнес он очень выразительно, как будто привел неоспоримый аргумент.
Болтун сидел прямо за спиной Тупры, поэтому он и страдал от его словесного поноса больше, чем я, хотя наверняка страдала от него в той или иной степени и вся площадь. Не дав мне времени как‐то отреагировать, Тупра развернулся и подвинул свой стул вплотную к стулу Дуболома, словно это был второй ряд в театральном зале. Потом нагнулся и что‐то прошептал тому на ухо. Как ни странно, говорун не шелохнулся и не оглянулся. Хотя, если к тебе неожиданно обращаются и что‐то шепчут на незнакомом языке, нормально было бы повернуть голову и посмотреть этому человеку в лицо. Остальные сразу заметили непонятный поступок Тупры, и воцарилась напряженная тишина: они явно ждали, пока незнакомец отговорит свое и Трепач объяснит им, в чем дело. Тупра же, судя по всему, произнес целую речь, но сделал это, естественно, по‐английски: речь его не была длинной, но и не свелась к паре резких фраз. Потом он отпрянул и, прежде чем опять сесть напротив меня, сделал рукой успокаивающий жест разговорчивому соседу, несколько раз плавно подняв и опустив вытянутую ладонь. Это даже полный идиот не мог не понять: его просили убавить звук.
Послышались женские голоса: “Кто такой? Ты его знаешь? Что он тебе сказал?” В их тоне звучало любопытство, но чувствовался и страх. Я знал, что мой бывший куратор умел напугать кого угодно, причем совершенно внезапно, умел в мгновение ока перейти от улыбок и любезностей к угрозе, всегда выглядевшей более чем серьезно. Но сам я подобным приемам у него так и не научился, хотя не раз наблюдал схожие сцены.
На вопросы сотрапезников Трепач ответил:
– Ничего, ничего, это какой‐то припадочный иностранец. – Но теперь он говорил едва слышно и сразу словно потерял всякую охоту болтать, во всяком случае, понадобилось некоторое время, чтобы кто‐то из приятелей рискнул заменить его, и все равно разговор очень быстро увял.
Казалось, будто у всех у них разом пропало желание и дальше выслушивать тошнотворные подробности о приготовлении не слишком аппетитных блюд, к тому же во всей компании вряд ли кто сумел бы произнести хоть одну интересную фразу. Они как будто почувствовали, что над их столом нависла опасность, и поэтому больше не могли спокойно сидеть рядом с нами.
Турпа обычно вел себя дружелюбно и светски, когда сам того хотел, но был способен внезапно заморозить веселую компанию всего одним пронзительным взглядом, от которого веяло арктическим холодом, или суровым голосом, который иногда звучал хрустко, как шаги по инею или как начавший трещать лед. По своему желанию или в силу необходимости он распространял вокруг зловещее облако. Я пробовал подражать ему, но у меня ничего не получалось.
– Что ты ему сказал? – спросил я. – Он ведь ничего не понял, вряд ли этот болван знает по‐английски что‐нибудь кроме thank you.
– Зато он прекрасно понял другое: я приставил ему к пояснице нож и даже чуть‐чуть надавил. Еще слегка поднажать – и нож вошел бы по самую рукоятку. А откуда ему было знать, какой длины у него лезвие? Попробуй тут угадай.
– Ты что, носишь с собой нож? Совсем спятил? Да и не было причины так возбухать. Но я не видел, когда ты достал нож. Где он у тебя?
Тупра прятал руки под столом, как нашкодивший мальчишка. Потом поднял одну руку с крепко зажатой в кулаке вилочкой для картошки и изобразил скупой жест, будто вонзает ее снизу вверх.
– Знаешь, если я что и утратил с годами, так это свои бесконечные запасы терпения – со временем они неизбежно скудеют. А вот ты, как вижу, успел позабыть наши самые первые уроки. Самые первые, самые давние, но и самые главные в профессиональной выучке, те, что должны были отпечататься в памяти намертво. Любой предмет может стать ножом, то есть оружием – вопрос лишь в том, на что и с какой силой ты его нацелишь. Неужто не помнишь? Если как следует схватить ручку, или даже карандаш, или пинцет, или расческу, не говоря уж о ножничках, пилке для ногтей или зубной щетке, тот, кто почувствует кончик, примет их за нож. У вилочки три металлических зубца, целых три, и они вполне заменят одно широкое лезвие, входя в тело.
Он с довольным видом швырнул вилочку на блюдо (будь он испанцем, непременно сопроводил бы свой жест возгласом: “Ну!”) и поискал взглядом официантку. Но та уже спешила к нам с новой порцией бравас. Поклонники Дуболома воспользовались ее появлением, чтобы попросить счет, – они решили уйти, хотя и сами толком не понимали почему. А он больше рта не открывал, словно онемел.
– Ты знаешь, что произошло в “Гиперкоре”? – спросил Тупра, успев проглотить четыре или пять бравас, которые теперь вроде бы предназначались для меня, так как из‐за его прожорливости я остался голодным.
Тем временем другие посетители, более спокойные, поспешили занять освободившийся рядом стол, и было трудно поверить, что 6 января нашлось столько желающих посидеть на террасе, хотя обычно в этот день люди предпочитают просто выходить на прогулку целыми семьями и глазеть по сторонам. Тупра опять произнес “Хайперкор”, и я хотел было поправить его, но решил, что это не имеет никакого смысла, так как большинство англичан невосприимчивы к другим языкам и к особенностям их фонетики – совсем как испанцы или даже хуже испанцев.
– Да, Тупра, знаю, ты мне об этом уже напомнил: девятнадцатое июня восемьдесят седьмого года, автомобиль-бомба взорвался у торгового центра. Двадцать один погибший и сорок пять раненых. Среди погибших пятеро детей. Младшему пять лет. – Я все еще не отвык без труда держать в голове кучу информации.
– Я имел в виду не это, – перебил меня Тупра. – Это пустые и холодные цифры, голый итог, с которым остаемся все мы – начиная с судей и кончая авторами энциклопедий. А ты знаешь, как это произошло, отчего погибли погибшие и что с ними случилось? С теми людьми, которые вышли из дому и отправились за покупками? И наверняка никакой срочности идти за покупками у них не было.
– Я находился тогда не в Испании, Берти. Поэтому не мог знать подробностей, и, скорее всего, об этом ничего не читал и ничего не слышал. Меня ведь официально признали умершим, помнишь? Это было твое распоряжение. И теперь я вряд ли хочу узнавать детали и забивать себе голову лишними ужасами – мне и своих достаточно. К тому же легко могу представить себе всю картину. Видел, что остается после взрыва таких устройств. – Я немного помолчал. – Пойми, даже если бы я был тогда в Испании, это бы мало что изменило. В те годы здесь совершалось столько терактов, что они стали восприниматься почти отстраненно. Сейчас их тоже устраивают, но реже, поэтому каждый лучше запоминается. Как и те, что были в Ольстере. Если ты решишь коснуться деталей, они, пожалуй, покажутся мне куда более жуткими, чем показались бы тогда. По прошествии времени мы, оценивая минувшие события, острее испытываем удивление и страх. Безмерно изумляемся и спрашиваем себя, как такое могло быть.
Но мои рассуждения мало интересовали Тупру. Он хотел, чтобы я наконец‐то взглянул на фотографии, уже давно снова лежавшие на столе. А еще он хотел, чтобы я сказал “да”, то есть согласился разоблачить одну из запечатленных на них женщин. По правде сказать, любопытство уже побеждало, и мне становилось все труднее отводить глаза от трех снимков, от трех этих лиц. Хотя, вполне возможно, там были не только лица, возможно, дам сфотографировали в полный рост, когда они шли по улице.
– Боевики из “Команды Барселона”, входившей в состав ЭТА, загрузили в багажник угнанной машины двести килограммов взрывчатки с таймером. Аммонал, бензин, клей, мыльные хлопья. Чтобы эффект был более разрушительным. Ничего нового. Машину оставили на парковке при торговом центре. Было несколько телефонных звонков – запоздалых и невнятных, которые не оставили времени на поиски. За десять – пятнадцать минут невозможно найти, скажем, пакет, спрятанный на весьма обширной территории. А звонившие не сочли нужным сообщить, что бомба заложена в автомобиль. Взрыв произвели в шестнадцать десять, в пятницу. Первый этаж парковки взлетел на воздух, появилась дыра диаметром пять метров, через которую вылетел огромный огненный шар, спаливший всех, кто по воле злой судьбы оказался у него на пути. Как говорили, взрывная смесь действовала почти как напалм, то есть прилипала к телам, имея температуру до трех тысяч градусов Цельсия. Из-за черного и густого дыма видимость была нулевой, и мало кто смог оттуда выбраться (большинство жертв – женщины).
“Они тоже погибли как скот, – молнией пронеслось у меня в голове, – в том числе пятеро детей и несколько мужчин”.
– Зажигательную смесь, прилипшую к телам, было невозможно отчистить и погасить. Некоторые тела просто обуглились. А еще, разумеется, люди задыхались от ядовитых газов – те, кого не настиг огонь. Все было сделано с предельной подлостью – о чем говорит выбор места, а также дня недели, часа, способа убийства и социального статуса предполагаемых жертв… И еще был расчет на безнаказанность.
– “Завидней жертвою убийства пасть…” Да, и в подобных обстоятельствах тоже. – Я вернул Тупре сокращенную и не очень точную цитату из “Макбета”, сразу подсказанную мне памятью.
– Они ничего этим не добились, совершенно ничего, заранее знали, что ничего не добьются, но все равно сделали, – продолжал Тупра, словно не услышав меня, а может, мой комментарий показался ему неуместным. Но на самом деле он его прекрасно услышал и поэтому добавил, жуя очередной кубик картошки: – Джордж, которому многое известно про ЭТА, сказал бы, что в голове у тех, кто задумал и исполнил теракт, царили восторг и упоение, но не было и намека на муки совести. Ни малейшего намека, по его мнению.
– Зато им удалось посеять ужас, что всегда и является главной целью.
– Да, люди чувствуют ужас. Ну и что дальше? Это ведь ни на шаг не продвигает дело террористов вперед. И вы, и они до сих пор остаетесь в той же точке – за десять лет ничего не переменилось. По существу ничего, ты согласен? Ничего, достойного анналов истории. Погибшие в тот день так и остаются погибшими, а их убийцы гниют в тюрьме. Те, кого поймали, хочу я сказать. И во время суда они раскаяния не выразили. Насколько мне известно, в тюрьмах члены ЭТА отмечают сидром и шампанским каждый очередной теракт, совершенный их соратниками, гуляющими на свободе.
– А тех, кто устроил теракт в “Гиперкоре”, судили? Что‐то у меня в памяти это не отложилось. Когда?
– В восемьдесят девятом.
– Я тогда еще считался покойником и был далеко отсюда. И чем кончилось дело?
– Были осуждены фактические исполнители, их вдохновитель, а также тогдашний лидер ЭТА Санти Потрос[14], если я не путаю имя. Каждому дали почти по восемьсот лет тюрьмы, но ты ведь знаешь, сколько они отсидят на самом деле. Подожди, тут у меня есть кое‐что еще. – Он достал из кармана пальто сложенный пополам листок и протянул мне: – Читай сам, я не сумею как следует произнести эти баскские имена.
Я увидел три имени, напечатанные на машинке, и, возможно, напечатал их тот самый Хорхе: Рафаэль Кариде, Доминго Троитиньо и Хосефа Эрнага. Последнее имя меня слегка удивило, хотя среди террористов женщины встречались нередко и порой даже занимали в организации ответственные посты. Так было и в Испании, и в Северной Ирландии, и в прочих местах (самому мне пришлось мимоходом иметь дело со знаменитой Долорс Прайс[15] – уже после ее выхода на свободу). Были они в Италии и Германии, не говоря уж про Советский Союз, Латинскую Америку и Ближний Восток, включая, само собой, Израиль, и повсюду отличались особой жестокостью. Служили женщины и в наших рядах, хотя мы были не террористами, а бичом для них или, лучше сказать, крепостной стеной и щитом от террора, потому что инициатива всегда исходила с той стороны.
– Хосефа Эрнага? Между прочим, только у нее одной баскская фамилия. Троитиньо – галисиец, да и Кариде, думаю, тоже. Неужели в такой теракт была замешана женщина?
В любом случае не хотелось в это верить, учитывая беспримерную жестокость операции. Я, как уже говорил, был воспитан в старых традициях, а хоть какой‐нибудь след от внушенного нам в детстве остается на всю жизнь. Да, я и сам сталкивался с тем, что женщины были причастны к жутким делам, но в первую очередь на стадии их подготовки и организации. И женщины, по моим наблюдениям, чаще чувствовали сомнения, или действовали осмотрительнее, или заранее испытывали угрызения совести и то, что прежде называлось “смешанными чувствами”. Некоторые из них шли до конца скорее потому, что были беззаветно преданы своим соратникам или идее, а может, это объяснялось не столько подлинными убеждениями, сколько желанием бросить вызов.
– Эрнага была одной из тех, кто помог подложить бомбу, то есть прямой исполнительницей. И я не понимаю, почему сегодня тебя это так удивляет. Сколько раз ты с такими имел дело и по крайней мере с одной даже переспал – или с двумя? – У Тупры была очень хорошая память, прямо ходячий архив. – Рядом с женщинами люди чувствуют себя в большей безопасности, но мы‐то с тобой знаем, что их доброта – миф, или по большей части миф. Доброта как общее их свойство, хочу я сказать. А также то, что они менее жестоки. Возможно, многие женщины действительно от природы не очень жестоки, зато они легко поддаются внушению и не особенно сопротивляются ему, ну а потом пути назад уже нет. Следовало бы формировать армии из специально обученных женщин: они тверды и упорны, а приняв решение, будут идти напролом. Вспомни хотя бы тех, что получили в свои руки власть. Вспомни про нашу несчастную и обожаемую Мэгги. Вспомни Анну Паукер, которую в свое время в ее стране тоже называли Железной леди[16].
– Понятия не имею, кто такая Анна Паукер.
– Значит, тебе надо подучиться, вместо того чтобы чахнуть здесь, понапрасну теряя столько времени, иначе в конце концов превратишься в овощ. Для нашей работы надо знать все, по возможности все. А в первую очередь следует читать книги по истории, потому что история дает нам важнейшие уроки, рекомендации и четкие наставления для каждого отдельного случая. Надо лишь отыскать там этот свой случай – среди всего того, что когда‐то уже произошло.
Я уловил в его словах укор, словно все еще находился у него в подчинении, да к тому же на стадии обучения. Но Тупра быстро переменил тон, поскольку, хоть его и раздражал мой по‐детски нелепый отказ посмотреть на снимки, он все еще зависел от моего решения и знал, что ничего не добьется, если, в свою очередь, тоже станет меня злить. Он зажег новую сигарету и, еще не дожевав кусок картошки, уже цеплял очередной своим маленьким трезубцем.
– Жестокость токсична. Ненависть токсична. Вера токсична… Она в мгновение ока оборачивается фанатизмом… – Теперь тон у него был одновременно и напористый, и задумчивый. – Поэтому они таят в себе такую опасность, поэтому их так трудно остановить. Пока ты пытаешься разобраться, что да как, они распространяются со скоростью лесного пожара. И этому тоже нас учили в самом начале: надо уметь распознать первые же их признаки и сразу вырвать с корнем. Но в списке Редвуда было еще два пункта, а всего их там имелось пять… Погоди‐ка…
Редвуд был легендарным наставником в МИ-5 и МИ-6, преподавателем философии, через чьи руки прошло несколько поколений агентов, которых он приобщал к теории, но сейчас старик уже наверняка ушел на пенсию или умер. Что ж, сегодня и сам Тупра позабыл часть его урока.
– Безумие токсично. Глупость токсична, – подсказал я.
Этот список я помнил хорошо и слишком часто убеждался в его справедливости. Люди начинают во что‐то верить и на первых порах относятся к своей вере очень серьезно, а потом – и со священным трепетом. Они не ставят под сомнение ничего из того, на чем их вера держится, они словно тупеют и глупеют. Любое возражение доводит таких до бешенства, и, конечно, они никогда не позволят назвать свою веру глупой или опровергнуть то, что составляет весь смысл их жизни и наполняет ее собой. С этого момента начинает развиваться чисто защитная, иррациональная ненависть ко всем, кто не разделяет подобного фанатизма. А с теми, кто открыто дает ему бой, они жестоко расправляются. Обнаружив в себе еще только зачатки жестокости, начинают ее накапливать, распространять вокруг и уже не могут уняться. По словам Редвуда, есть некое противоядие, но его трудно применить в обстановке тотального помешательства.
– Да, есть одно-единственное противоядие, помнишь? – спросил я.
– Как не помнить! Но надежды на него мало. Смех токсичен. Вот только жаль, что становится не до смеха, когда любая из пяти болезней вырывается на первый план, а часто и все пять выступают единым фронтом: одна тянет за собой другую, но стоит им соединиться вместе, уже поздно махать кулаками. Надо объявлять им войну и безжалостно уничтожать. Ведь так учил Редвуд?
– Так, – подтвердил я. И добавил: – Осторожно, Берти, ты говоришь о “нашей работе”. И забываешь, что теперь это уже не моя работа.
Но он не обратил на мои слова внимания:
– Неужели ты не понимаешь, что на этом мы и стоим, именно этим по‐прежнему занимаемся – постепенной их ликвидацией. На что требуется немало времени, и тут важен каждый шаг. Помоги нам, Том. Тебе самому пойдет на пользу, если ты вернешься к активной работе, хотя бы только в виде исключения.
Я долго смотрел ему в глаза, и сейчас, под зимним мадридским солнцем, которое в конце концов помогло мне немного согреться, эти глаза казались скорее голубыми, чем серыми. Я улыбнулся и, наверное, не смог скрыть невольного торжества, хотя выражения своего лица, естественно, не видел. Тупра попросил у меня помощи, выступая якобы от имени некоего “мы”, хотя множественное число здесь вряд ли было уместно. Как он сам намекнул, поручение не исходило ни от Спеддинга, ни от его помощников, мало того, они и знать не знали, что затевал Тупра. Он действовал на свой страх и риск, пользуясь поддержкой некоего Хорхе, а может, и поддержкой МИ-6, даже если последняя не была в курсе дела. После падения Берлинской стены и распада Советского Союза все функционировало как‐то разлаженно и мутно. У начальства среднего звена появилось больше возможностей для маневра, и оно пользовалось государственными средствами для такого решения проблем, которое не всегда отвечало интересам Короны. Отдавались вымышленные приказы, то есть не полученные ни от кого из людей, наделенных властью, или в лучшем случае поступавшие от частных структур, от местных и мультинациональных компаний или вообще бог весть от кого (скажем, от богатого бизнесмена, у которого появились слишком строптивые конкуренты или которому надо было с кем‐то свести счеты, и тогда он действовал через уважаемых и надежных сотрудников спецслужб Ее Величества). За последние десять – двенадцать лет, примерно с 1989 по 2001 год, сгустился туман, нависший над этим миром, и только атака на Башни-близнецы положила конец халатности и расслабленности. Мы, агенты, как правило, не задумывались над тем, кому на самом деле шла на пользу та или иная операция. Естественно, государству, всегда только государству. И мы выполняли приказы нашего непосредственного начальства и лишь пожимали плечами в ответ на слухи, будто у начальников могут иметься и другие хозяева. Почему, например, Тупру так заботила женщина из ЭТА? Проблемы моей второй (или первой) родины обычно не волновали мою первую (или вторую) родину, а у Тупры, в отличие от меня, родина была только одна, какие бы имена он себе ни присваивал. Конечно, мне тотчас пришла в голову мысль: в Испании еще не утих скандал, связанный с GAL, то есть с Антитеррористическими освободительными группами – незаконно созданными карательными эскадронами, которые убивали и похищали членов ЭТА или ее активистов в восьмидесятые годы, когда у власти стояли социалисты во главе с Фелипе Гонсалесом. После этого скандала у испанского государства руки были связаны, и оно уже не могло использовать кратчайшие пути для борьбы с терроризмом. Поэтому, если какой‐нибудь сотрудник британских спецслужб брался за поручение, полученное к тому же в обход официальных каналов, никто ни в чем не мог обвинить нынешнее правительство Аснара, и тот в политических и пропагандистских целях жестоко критиковал грязную войну, развязанную GAL, хотя в глубине души, не исключено, вполне ее одобрял.
Еще только недавно были приговорены к разным срокам тюремного заключения высокопоставленные сотрудники Министерства внутренних дел, полицейские, гражданские гвардейцы, военные, а также агенты Высшего информационного центра обороны (CESID), которые присоединились к GAL, как и руководители-социалисты, обвиненные в том, что они организовали и финансировали эти группы, используя государственные средства – так называемые подкупные деньги.
– А что делала эта женщина после восемьдесят седьмого? – спросил я. – Ты ведь говоришь о том, что случилось десять лет назад. Все эти годы она была в активе? И до сих пор опасна? Насколько мне известно, члены ЭТА попадают под суд гораздо чаще, чем случается в группировках подобного типа. Ты сказал, что виновников теракта в “Гиперкоре” очень быстро осудили. Подозрительно быстро для преступления такого масштаба. Никто бы не удивился, успей они скрыться во Франции. Или в Латинской Америке, чтобы больше никогда сюда не возвращаться.
– На тот день это был самый жестокий по количеству жертв удар: двадцать один погибший и сорок пять раненых, – повторил Тупра; он хотел подчеркнуть подлость преступников, но старался не впадать в драматический тон. – Я не слишком большой специалист по этим бандитам, хотя, судя по всему, их лидерам было мало теракта, наделавшего столько шуму. Они, как правило, снова и снова используют одних и тех же боевиков, не давая им передышки, и легко приносят их в жертву. Весьма странное поведение. Им дают одно задание за другим, не позволяя скрыться и замести следы. После “Гиперкора” исполнители теракта остались в Барселоне и сразу же получили приказ расстрелять армейского полковника или подложить бомбу в пикап гражданской гвардии, и только поэтому их схватили довольно быстро. Хочешь знать, что именно произошло в доме-казарме в Сарагосе всего лишь полгода спустя?
– Нет, мне это ни к чему. Я видел одну-две фотографии, хотя находился далеко. Во всяком случае, одну помню очень хорошо – наверное, ее напечатали повсюду. Гвардеец или пожарный несет искалеченную девочку.
Тупра сделал красноречивый жест, словно говоря: “Ну вот!” Или: “Тебе этого мало?” Потом продолжил:
– Разве человек, участвовавший в таких делах, не опасен, если его до сих пор не обнаружили? Но даже если и не опасен, разве он не должен понести наказание и заплатить за свое преступление? Особенно если учесть, что нужная нам женщина – не член ЭТА, по крайней мере формально, вот почему она не была арестована – просто успела вовремя лечь на дно и затаиться. И не будет разоблачена, если кто‐то не поможет это сделать, если за это не возьмешься ты.
– Я? Человек, который уже покинул службу?
– От нас никто и никогда не уходит насовсем. Достаточно сделать один шаг, чтобы снова оказаться внутри. Лучше тебя никто с таким делом не справится, потому что у этой женщины еще и много общего с тобой. Она наполовину ирландка, наполовину испанка, то есть не принадлежит целиком ни одной стране. И на обоих языках говорит безупречно, она билингв, хотя мы не знаем, способна ли она так же легко, как ты, усваивать и любые другие языки. Она приложила руку к двум этим терактам и, вне всякого сомнения, еще к каким‐то более ранним. Но после восемьдесят седьмого года, насколько нам известно, не участвовала ни в акциях ЭТА, ни в акциях ИРА – ни как подстрекатель, ни как инструктор, ни как куратор. Когда стало известно о ее причастности к взрыву в “Гиперкоре”, она уже бесследно исчезла. Примерно так же, как исчез ты сам, когда превратился в Джеймса Роуленда, а Тома Невинсона объявили умершим. Ты несколько лет прожил, скрываясь под фальшивым именем, она живет так уже около девяти. И вроде бы отошла от дел, однако в их организации все устроено почти так же, как и в наших: ушедший может вернуться – достаточно сделать один шаг, необязательно добровольно, и не важно, сколько времени ты отсутствовал. Есть, правда, некоторое отличие: у них с этим строже, и очень мало кому позволяется уйти насовсем, наоборот, положено любой ценой и постоянно доказывать свою преданность. Хотя нельзя исключать, что эту женщину сочли выгоревшей, сочли, что она успела сделать очень много и ее можно отпустить, или сочли недостаточно фанатичной, сомневающейся, сочли, что в будущем она вряд ли им пригодится; а может, она сама захотела отойти в сторону, осознав весь ужас случившегося в Барселоне и Сарагосе. Может, подумала как следует и раскаялась. Слишком много погибших за один-единственный год, слишком много, даже если не рассматривать каждого человека в отдельности, а прикинуть общий результат, как если бы речь шла о массовой драке. А еще – слишком много детей. Мало кто способен заранее предугадать собственную реакцию, кроме полных беспредельщиков, которые не знают колебаний, как, по всей видимости, эта Хосефа из “Команды Барселона”. – Ее имя он произнес на английский манер – “Йосефа”. – Одно мы знаем точно: что‐то эта женщина тогда сделала, но ее не арестовали и не наказали. Поэтому нельзя исключить, что и она тоже из числа “беспредельщиков” и только на время затаилась или “заснула”, как называют это журналисты, и ждет своего часа, чтобы снова совершить нечто ужасное. Она одна из трех вот этих женщин. – Тупра снова медленно ткнул пальцем в снимки – в каждый по очереди. – Только какая именно? Но и действовать по рецепту мафии мы не станем. Мафия похитила бы всех трех, допросила бы и выяснила правду, если, конечно, террористка не прошла серьезную тренировку, чтобы выдержать пытки, во что я мало верю. Нет, мы так не поступаем, даже когда действуем неофициально, поскольку в любом случае представляем Королевство, да, в любом случае. Две женщины ни в чем не виноваты, и мы не позволим себе похитить несчастную мать семейства, или несчастную учительницу, или уважаемую хозяйку ресторана. В конце концов, речь идет не об открытой войне, когда в жертву легко приносят всех подряд, чтобы не рисковать. А вот террористы, наоборот, в своем безумии считают это войной, считают, что любые их действия оправданны. Этим мы отличаемся от них, а следовательно, если говорить честно, оказываемся в менее выгодном положении. К тому же им помогает ненависть. А мы, как известно, ненависти не знаем. У нас ее нет.
Тупра излагал это слишком равнодушным тоном, чтобы я не заподозрил, будто думает он совсем иначе. Если разобраться как следует, то что заставляет их, Тупру или его испанского друга Хорхе, с таким упорством идти по следу второстепенной участницы жестоких преступлений, случившихся почти десять лет назад, а для террористов это срок очень большой, поскольку они действуют по накопительному принципу и без перерывов, чтобы новые теракты словно бы размывали предыдущие и за счет общего количества достигался нужный эффект – полного отчаяния и растерянности, коль скоро ни один вроде бы нельзя считать последним. Их конечная цель – изматывание.
Фактические исполнители терактов, главные виновники, получили долгие тюремные сроки. Как и Санти Потрос, отдавший решающий приказ. Одни сидят за решеткой в Испании, другие – во Франции. Если бы в каждом случае искали еще и тех, кто вольно или невольно помогал преступникам, догадываясь о том или нет; кто дал важную информацию или проговорился случайно; кто пустил переночевать родственника или знакомого, не ведая, что у него на уме и что он сделает наутро в их городе или поселке; кто выручил деньгами друга или пожертвовал свои сбережения неправительственной организации либо церкви, чтобы помочь голодающим детям и несчастным беженцам; тех, кто дал на время отвертку, скотч, клей, бензин, мыло или гвозди (или хотя бы маленькую вилочку), не зная, зачем они нужны, тогда наверняка половину человечества можно было бы посчитать сообщниками или пособниками террористов.
На это, как правило, и ссылаются самые жестокие преступники и вообще убийцы: они стараются свалить вину на пострадавших, да, именно так, на убитых и покалеченных. Не погибло бы столько людей в домах-казармах в Сарагосе и Вике, если бы гражданские гвардейцы не поселились там, поставив под удар свои семьи. А в “Гиперкоре” власти должны были действовать активнее и эвакуировать посетителей, получив невнятные сигналы (раз бомба была спрятана в багажнике машины, следовало сразу же ее обезвредить). Они заявляют: мы не убили бы ни одного полицейского, военного, журналиста, судью или хозяина магазина, если бы нашу родину, которая за всю свою историю ни разу не была захвачена врагами – даже римлянами, – вдруг ни с того ни с сего не захватили испанцы. Мы не убили бы ни одного бизнесмена, если бы все они без возражений платили нам, как и положено патриотам, столько, сколько мы у них требовали для победы нашего дела. Не было бы ни одного покойника в Ольстере, если бы англичане не украли часть острова, после того как веками владели всем островом целиком, и если бы нас не преследовали католики и не мечтали изгнать с нашей земли, такой же британской, как Лондон или Кентербери, такой же нашей, как их, или даже больше нашей; им принадлежит земля на юге, пусть туда и убираются, слушают там свои мессы и не мешают нам.
Ответственность всегда перекладывается на кого‐то другого, и сбросить с себя ее бремя очень легко… За свою жизнь я слышал самые разные оправдания, но чаще всего такое: да, я этого типа убил, но ведь он сам виноват. Кажется, и я тоже использовал его в той или иной форме.
Но все‐таки почему они вздумали по прошествии стольких лет тратить время, деньги и силы на поиски некой женщины? Ради чего? Масса преступников остаются ненаказанными, хотя часто просто не удается доказать их вину – прямую или косвенную; а сколько нападений списывается на несчастные случаи, или на капризы злосчастной судьбы, или на неосторожность, а иногда гибель человека объявляют самоубийством или безрассудной переоценкой собственных сил; нередко судят и приговаривают к тюремным срокам невиновных, превратив в козлов отпущения.
Надо мной тоже висела такая угроза, когда я был совсем юным и зеленым. Тогда профессор Уилер предупредил меня, и его слова я часто вспоминаю: “Было бы куда хуже, если бы тебя арестовали, обвинив в убийстве, – сказал он, посоветовав искать помощи у Тупры. – Никто никогда не знает, чем закончится суд, даже если человек ни в чем не замешан и уверен в доказательствах своей невиновности. Истина не играет никакой роли, все зависит от подхода к ней, поскольку истину устанавливает тот, кто никогда не знает, в чем она состоит, – я имею в виду судью. Нельзя отдавать свою судьбу в руки человека, идущего вперед исключительно на ощупь и в бросающего монетку в поисках истины. На самом деле и по здравом размышлении судить кого‐то – это вообще абсурд”.
Вероятно, по той же причине мы, защитники Королевства, порой старались избегать судов – иными словами, не доводить до них дела. Нередко мы совершенно точно знали, что произошло, поскольку сами все видели или слышали, и нам не были нужны официальные суды, где нас могли обвинить во лжи, выдвинуть совсем иную версию или посчитать наши доказательства хлипкими, а наши показания голословными, так как мы якобы опираемся на hearsay, на слухи и домыслы. Питер Уилер защищал Королевство во время войны, когда все видится четче и нельзя ни мешкать, ни долго раздумывать над следующим ходом, поэтому он добавил: “Я бы не признал власти ни за одним судом. Будь это в моей воле, я бы никогда не стал участвовать ни в одном суде. Ни за что. Запомни мои слова, Томас. И хорошо подумай. Невинного человека они могут отправить в тюрьму. По прихоти судьи и только потому, что он судье не понравился. Однако все мы знаем, что возможен и обратный вариант: виновного иногда отпускают только потому, что он понравился судье, который своими глазами ничего не видел и в ходе процесса услышал противоречивые версии”.
Думаю, сейчас Тупра метил именно в эту точку, по всем пунктам повторяя доводы Уилера, своего учителя и наставника.
– Но если мы не умеем ненавидеть, Берти, то почему вы вдруг решили найти эту женщину? Мы закрывали глаза и на куда худшие вещи, когда это было удобно нам самим или тем, кто наверху. Если за минувшие годы она ничего плохого не сделала, то уже вряд ли представляет опасность. И вряд ли речь тут идет о справедливом возмездии. Справедливость иногда нам важна, а иногда нет – в зависимости от новых обстоятельств и планов.
Тупра между тем доедал второе блюдо бравас, но теперь брал их одну за другой неторопливо. Он оглянулся по сторонам и сделал знак официантке, прося счет. “Славное солнце Йорка” смягчало холод, но не отменяло его вовсе, и для 6 января мы слишком долго просидели под открытым небом. Тупра явно терял терпение, хотя и сдерживался, поскольку зависел от меня. Он с ловкостью опытного картежника собрал фотографии, сунул в конверт и протянул его мне:
– Ладно, как я понимаю, сегодня ты на них смотреть не станешь, не доставишь мне такого удовольствия. Просто хочешь подержать меня в подвешенном состоянии, и это можно понять, да, можно. Ладно. Возьми их с собой, а дома, когда созреешь, спокойно изучи. Я позвоню тебе завтра или послезавтра, так как почти наверняка задержусь в Мадриде еще на пару дней. Только должен заранее предупредить: тебе придется на несколько месяцев – или на несколько недель, если будешь действовать быстро, – перебраться в тот город на северо-западе Испании, где живут эти женщины. Чтобы с ними познакомиться и выбрать из трех одну, поскольку две другие ни в чем, бедняжки, не виноваты. Подробности узнаешь, когда дашь мне свое согласие и скажешь, что готов ехать. Или встретишься с Джорджем, и он тебя просветит.
– Если дам согласие, – ответил я.
Когда подошла официантка со счетом, он сунул руки в карманы пальто, давая понять, что, хотя приглашение исходило от него, закон гостеприимства обязывает расплатиться меня. Я взял конверт со снимками, и мы поднялись; честно говоря, я был рад, что смогу хорошенько рассмотреть их позднее, уже без Тупры. В любом случае можно будет соврать, что я не потрудился этого сделать и его интриги меня нисколько не интересуют. Когда мы вышли на площадь, я увидел на террасе соседнего ресторана любительницу Шатобриана, ей тоже пришлось как следует померзнуть – столько же, сколько нам. У нее в руках была открыта все та же толстая книга, и она на миг оторвала от нее голубые глаза, чтобы посмотреть, но не на меня, а на Тупру. То, что он не ответил на ее взгляд, окончательно убедило меня: они знакомы, ведь тип вроде него никогда не оставил бы без внимания подобный знак, каким бы влюбленным и женатым он ни был. И его Берил тут была ни при чем. Думаю, он уже стал одним из тех начальников, которые никуда не ходят без подстраховки, даже на Соломенную площадь, чтобы встретиться с бывшим подчиненным.
– И ты мне его дашь, – буркнул он.
– Что? – Я уже успел забыть свою последнюю фразу.
– Свое согласие, согласие поехать в тот город.
Его уверенность ничуть меня не обидела, поскольку решение зависело исключительно от меня. А я уже не был обязан исполнять его приказы. И ничего не ответил на это, зато сказал:
– А вот ту женщину ты точно знаешь, ту, что читала “Замогильные записки”. Она по‐прежнему несет охрану. Не знаю, зачем она тебе понадобилась, но боюсь, простуды ей не избежать.
– Неужто она все еще там? – ответил он, не оборачиваясь. – Чистая случайность. И вспомни еще один старый урок: паранойя ничем не лучше беспечности. Ты сейчас куда?
– Домой. Это недалеко.
– Могу тебя проводить, надо немного размять ноги. Потом возьму такси.
– Как хочешь.
Мы молча дошли до Пласа‐де-ла-Вилья, то и дело поднимаясь по небольшим лестницам. Потом я двинусь к улице Лепанто либо загляну к Берте на улицу Павиа. Мы не отмечали День волхвов по‐настоящему, по‐семейному, но она и дети наверняка будут мне благодарны, если я приду, – во всяком случае, хотелось в это верить; иногда мне казалось, что они воспринимают меня как дальнего родственника, которого всегда рады видеть, как дядю из Америки, который забавляет их всякими историями, к тому же богатого. А если не слишком рады, тоже ничего страшного – надо ведь так или иначе расплачиваться за долгие годы отсутствия.
В самом конце улицы Кордон, чуть не доходя до Пласа‐де-ла-Вилья, Тупра остановился и сказал, словно продолжал размышлять не над сутью дела, а над тем, стоит ли еще что‐то мне объяснять:
– Люди, каждый по отдельности, не могут не уставать от ненависти. Проходит время, повод к ней размывается и тускнеет, и уже трудно ненавидеть так же люто, как в самом начале. Они остаются со своей ненавистью один на один, поэтому надо быть очень упертым, чтобы изо дня в день оживлять ее. Рано или поздно память слабеет, появляются лень и апатия. Но это не касается разного рода группировок. Там ничего не забывают и ничего не прощают, потому что всегда находятся желающие поддерживать огонь, пока другие отдыхают, отключаются или просто стареют. И эти волонтеры успевают вовремя передать огонь новым сторонникам, не позволяя ему угаснуть. Как в некоторых семьях из поколения в поколение передают огонь детям. Для того подобные организации и создаются, вот почему с ними так сложно бороться и они подолгу существуют – порой веками, на беду всему миру. И чем больше обезличиваются их члены, тем меньше они способны здраво рассуждать, тем более глухими и слепыми, непрошибаемыми и фанатичными становятся. Тут есть что‐то схожее с религией: наследуются и враги, и объекты поклонения, и убеждения, которые нельзя подвергать сомнению, – в этом их сила. Сила глупая, зато неиссякаемая, поскольку разуму не дано ее поколебать. – Тупра замолчал, достал очередную сигарету и закурил, уставившись на статую Дона Альваро де Басана с тростью, потом сделал две затяжки и ткнул сигаретой в сторону памятника: – А это кто еще в таких дурацких чулках?
– Дон Альваро де Басан, маркиз де Санта-Крус, адмирал, командовавший испанским флотом в битве при Лепанто.
– Значит, здесь ты и живешь, на улице Лепанто? Тысяча пятьсот семьдесят первый год, правильно? Не там ли потерял руку Сервантес?
– Да, когда рука у него перестала двигаться, ему было двадцать четыре года. Сам он называл себя “здоровым одноруким”.
– А что тут написано? – Он подошел ближе, чтобы рассмотреть надпись на пьедестале. – Переведи‐ка.
– Не уверен, что тебе понравится, – сказал я, глянув на стихотворные строки.
– Почему? Что там написано? Только ничего не меняй.
Я перевел как можно точнее:
– “Свирепый турок в Лепанто, француз у Терсейры, англичанин в любом море – при виде меня испытывали страх”.
– “В любом море” – не больше и не меньше? – перебил меня Тупра. – Это надо проверить. А что еще?
– “Король, которому я служил, и родина, которую я возвеличил, лучше скажут, кем я стал во славу Креста моей фамилии и с крестом моего меча”.
– Неплохо. Старомодно, но совсем неплохо. – Затем он вернулся к прежней теме: – И мы тоже ничего не забываем, Том, потому что для борьбы с ними нам приходится отчасти перенимать их же методы и вести себя сходным образом, иначе мы проиграем – и проиграем с огромными потерями. Потому что мы – тоже организация. Институция, старинный корпус со славной историей и богатейшими архивами, которые требуют восстановления справедливости и не дают нам ничего забыть или, если угодно, дают повод гордиться уже сделанным. Но движет нами отнюдь не ненависть, не мстительность и не вечная обида, как это бывает у террористов, мафии, а иногда и у целых народов, если они привыкли считать себя обиженными и угнетенными, – им это нужно, чтобы выживать и подзаряжаться, чтобы легче было прививать эти чувства новым адептам и вербовать их без счету, чтобы предатели и враги всегда боялись занесенного над ними меча. Те, кому террористы угрожают и выносят приговор, каждое утро просыпаются в страхе: “Вчера – нет, вчера этого не случилось, позавчера тоже, как и в прошлом месяце, как и в последние пять или десять лет, которые тянулись очень медленно – ночь за ночью и день за днем. Но кто даст мне гарантию, что это не случится сегодня, как только я выйду на улицу, что сегодня мне не отравят обед или в мою дверь не позвонит друг и не выстрелит в меня”. Если тебя свирепо ненавидят и ты знаешь про эту ненависть, то каждый день проживаешь как первый после вынесения приговора, вечно ожидая нападения и готовясь к бою.
Рассуждая вслух, Тупра продолжал рассматривать памятник со смесью одобрения и неприязни, восхищения и протеста. Поначалу перевешивало вроде бы одобрение:
– Хорошо сказано: “Король, которому я служил, и родина, которую я возвеличил…”, так оно и было, да? В те времена люди не знали сомнений. – Но затем Тупра почему‐то переменил свое отношение к бронзовому Дону Альваро и отпустил в его адрес нелепый комментарий: – Значит, “англичанин в любом море – при виде меня испытывал страх…” А не слишком ли ты расхвастался, друг мой? – Он произнес это словно в сторону, как произносят что‐то на сцене, когда реплику не должны слышать остальные персонажи. А потом вернулся к прежней теме: – Тот, кто не чувствует такой ненависти, теряет бдительность, становится более доверчивым, у него пропадает желание не только убивать, но даже защищаться. Он надеется, что государство способно забывать – или Корона, или Республика. Ведь у них и без того достаточно дел, им некогда оглядываться назад, их заботит настоящее, они закрывают глаза на старые преступления, поскольку порой это выгодно с политической точки зрения, и можно лишь выиграть, похоронив прошлое. Преступник считает себя слишком ничтожной точкой на фоне разного рода сражений, а это играет нам на руку. Потому что он ошибается. Да, мы не знаем ненависти и не должны позволять себе кого‐то ненавидеть. Мы действуем бесстрастно, но ничего не забываем, будто время для нас остановилось. Десять лет назад – это вчерашний день, по нашим меркам. Даже сегодняшний.
13
CESID (от исп.: Centro superior de Informacion de la Defensa) – Высший информационный центр обороны, бывшее испанское разведывательное управление (1977–2002).
14
Санти Потрос (наст. имя и фам. Сантьяго Арроспиде Сарасола; р. 1948) – испанский террорист, член ЭТА; был приговорен в Испании к 790 годам тюрьмы.
15
Долорс Прайс (1950–2013) – член ИРА, участвовала в ряде терактов, была арестована в 1973 г., в 1980‐м освобождена по гуманитарным соображениям, публично выступала против Белфастского соглашения.
16
Анна Паукер (1893–1960) – румынский политический деятель, министр иностранных дел Румынии и фактический лидер Румынской коммунистической партии в конце 1940-х – начале 1950‐х гг.