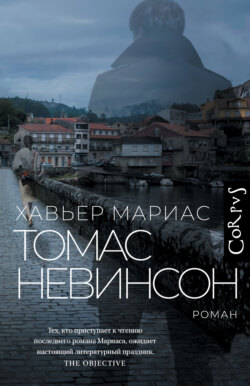Читать книгу Томас Невинсон - - Страница 3
II
Оглавление“Где колокол по гибнущим как скот?” – это первая строка знаменитого стихотворения, написанного в 1917 году, знаменитого в Англии и написанного одним из тех юношей, которые уходят из жизни в двадцать с небольшим лет и погибают как скот[6]. Присутствие Тупры почти всегда возвещало смерть, или было с ней связано, или напоминало о ней – о какой‐нибудь прошлой или будущей смерти, случившейся или ожидаемой, о той, которая грозит нам или которую несем кому‐то мы сами, то есть о смерти от наших собственных рук, но так бывает редко: чаще мы виновны в чужой смерти косвенно – просто шепотом отдаем кому следует нужный приказ. Жертвы Тупры не умирали как скот, ведь в мирные дни такое, повторяю, случается редко, а у нас сейчас вроде был мирный период, хотя Тупре казалось, будто мы постоянно находимся в состоянии войны, только вот люди почему‐то этого не сознают. А чтобы они о войне не догадались, как и вообще почти ни о чем, и продолжали заниматься своими обычными делами, своими бедами и печалями – днем и ночью, ночью и днем, – нужны такие типы, как он или я (каким я был в моей прошлой жизни), нужны часовые, которые никогда не спят и никогда никому не доверяют. Для Тупры ничего не значит строка из Псалтири: “…Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж”. Тупра знал, что ничего Бог не охранит, поскольку никакого Бога нет, а если бы Он даже и существовал, то был бы рассеянным и сонливым, зато настоящий часовой никогда не только не дремлет, но и не отдыхает, потому что только он один способен защитить Королевство, один или со своими людьми.
У мертвецов, которых оставлял на своем пути Тупра, всегда имелось конкретное лицо, да, у каждого, хотя в силу обстоятельств не всегда имелось имя, по крайней мере настоящее, полученное при рождении; этих людей заранее отмечали галочкой и назначали мишенью, им выносился приговор в каком‐нибудь кабинете или кабаке, и поэтому они умирали поодиночке и заслуживали похоронный звон, и поэтому колокола звонили по каждому – у них на родине, в их доме, там, где каждого любили, несмотря на совершенные ими преступления или как раз за то, что они их совершили, как, возможно, звонили по Гитлеру в его родном Браунау, или Штайре, или Линце, где он ходил в школу; там кто‐нибудь, пожалуй, вспомнил, каким фюрер был в детстве, и тайком о нем всплакнул. Этих покойников не забывали и ни с кем не путали, с каждым при его жизни ты мог встречаться или даже почти искренне дружить, мог обмениваться анекдотами и воспоминаниями, реальными или выдуманными. Стихотворение заканчивается так:
Покров для них бледней лица девицы,
Цветы – лишь взглядов нежных вереницы.
Спускает вечер с неба шторы до рассвета,
Но под землей никто уж не увидит света.
Какие шторы собирался спустить в Мадриде Тупра, он же Рересби и он же Юр? И какая разница, в какое окно или в какую балконную дверь он хотел прицелиться? Каким лицам будет суждено побледнеть по его приказу, отданному в этот холодный праздничный день? – невольно спросил я себя. Наверное, как внешне, так и внутренне, он остался прежним – часовой не позволяет себе изменяться, иначе город падет или будет захвачен врагом; скорее всего, Тупра не постарел ни душой, ни характером, по крайней мере пока не постарел, а в тот день, когда утратит боевую готовность, сумеет достойно отойти от дел. Если он захотел увидеться со мной, если назначил встречу в месте, где нас никто не сможет подслушать, значит, что‐то решил мне поручить, чтобы я перестал быть absentee, то есть “отсутствующим”, как называют отставных агентов, которые тем не менее продолжают что‐то получать от организации, получать, хочу сказать, в денежном плане, благодаря чему им не приходится плыть по течению на свой страх и риск. Тем, кто достиг положенного для отставки возраста, платили положенные деньги, а кого‐то переводили на более спокойные должности с приличным жалованьем – это касалось тех, кто был сравнительно молод, но выдохся, отчасти охладел к работе и перестал приносить прежнюю пользу. (Британские секретные службы бравировали тем, что никого не выбрасывают за борт, даже о предателях в какой‐то мере заботятся, если прежде те добросовестно выполняли свой долг.) По моему личному мнению, никто не может сохранить молодые силы после десяти или двадцати лет активной службы, если только человек не жалел себя: некоторые изматывались настолько, что их отправляли на кабинетную работу, и в свои тридцать пять или сорок лет такой мог разрыдаться, сидя за столом и прямо на глазах у коллег, – без видимой причины, не услышав ни от кого дурного слова, как это бывает со стариками, у которых слезы текут из‐за любой ерунды, скажем, когда они смотрят фильм или слушают музыку, испытывая внутреннее и непонятное окружающим волнение, из‐за тайного воспоминания или всего лишь при взгляде на ребенка: “Радуйся жизни сейчас, пока ты ничего о ней не знаешь и еще не успел ничего сделать, не успел никому причинить зла, хотя сам его, возможно, на себе уже испытал, поскольку зло угрожает нам с самого рождения. Ты этого не знаешь, но придет время, когда и ты станешь таким же старым, как я, а пока даже не понимаешь, что значит быть старым, или веришь, будто с тобой такого никогда не случится, если только ты о подобных вещах задумываешься, глядя на меня, или на твоих бабушку с дедушкой, или на других стариков «с пеплом на рукаве»[7], сидящих на скамейках в парке. И уж тем более ты не можешь вообразить, что колокола зазвонят по тебе, что из‐за тебя спустят шторы, если эти старые обычаи к той поре еще сохранятся, они ведь уже и сейчас мало что значат; возможно, их соблюдают лишь в маленьких городках и поселках, где так мало людей, что каждый на счету, и все сразу замечают, когда кто‐то уходит из жизни. Пользуйся тем, что ты полон сил и наивен, что мало кто может тобой управлять, тебе дают очень простые поручения и не тревожат твою совесть. Пользуйся тем, что ты не знаешь, кто ты есть и каким станешь, что у тебя пока нет этой самой совести, или она еще не проклюнулась и только формируется, но, к сожалению, никто не сможет этот процесс остановить. Она выковывается очень медленно, так что наслаждайся тем долгим отрезком пути, когда ты ни перед кем не отчитываешься и не выслушиваешь упреков”.
– Если говорить о скамейках, то шпионы так поступают, чтобы никто их не подслушал, – ответил я Тупре. – Под открытым небом нет спрятанных микрофонов, если, конечно, микрофон не принесет с собой один из них, но мы‐то не устраиваем ловушек друг другу, правда? Особенно если работаем вместе ради общей цели. Совсем другое дело, когда кто‐то из двоих не служит, когда он отказывается служить. – Я не упустил случая намекнуть на давнишний обман, однако он пропустил намек мимо ушей, поскольку для него та старая история не имела никакого значения, да и при всем желании он не смог бы меня понять, зная за собой десятки похожих поступков. – Зато в любом помещении можно спрятать хитроумные устройства. В баре или кафе, если, конечно, подготовиться заранее. Наверное, поэтому ты и выбрал это место – оно хоть и находится в самом центре города, но мало кому знакомо. Я, например, живу рядом, но никогда здесь не бывал, даже не знал о его существовании. – Затем я кивнул в сторону девушки с книгой: – Только она одна и представляет собой некую опасность, правда, сидит довольно далеко от нас, а еще, кажется, слишком увлечена Шатобрианом. Если она и бросила на меня косой взгляд, то лишь потому, что предпочла бы, чтобы никого тут не было, чтобы сесть на эту скамейку. Хотя ее скамейка стоит на солнце, а это для января – большое преимущество. Пожалуй, девушка либо слишком привередлива, либо стала рабой своих капризов.
Я несколько раз употребил слова “мы” и “нас”, то ли давая ему понять, что не потерплю ни обманов, ни полуправды, то ли просто по старой привычке. От некоторых привычек трудно отделаться, если они сопровождали тебя целую жизнь, когда ты ощущал себя частью этого “мы”, даже оставаясь наедине с собой, куда бы ни заносила тебя судьба. “Мы” придает смелости и силы, помогает почувствовать рядом воображаемое плечо товарища и рассеивает предрассудки или, по крайней мере, дает право переложить часть ответственности на других. Для меня Тупра был включен в это “мы” с первого до последнего дня. По правде сказать, “мы” вырвалось у меня невольно, словно я еще не ушел от них, не стал в буквальном смысле “отсутствующим” и не был два последних года всего лишь жалким одиноким “я”, сломленным и растерянным, а еще – тоскующим по прошлому.
– Как это ты умудрился разглядеть, что она читает? Без бинокля? Хороший признак – значит, еще не утратил прошлых навыков, я рад.
– В этом нет ничего особенного, Тупра. Кто она такая? Тебе это должно быть известно.
– Мне? Не выдумывай, Том, так мог решить только человек, далекий от наших дел. – Тут он меня подколол, но я сам подставился. – Понятия не имею, кто она такая. Просто образованная мадридская девушка, каких можно встретить где угодно.
Я посмотрел на него, потом на нее. Потом опять на него, потом опять на нее, но лишь краем глаза. Разумеется, они были знакомы. Более того, девушка с такой внешностью просто не могла не привлечь его внимания. Хотя его внимание привлекали многие женщины – с самой разной, но отнюдь не с любой внешностью: порой он запросто мог изобразить безразличие или обидное пренебрежение – а его голубые или серые, но совсем не английские глаза, под блеклостью которых таилась откровенная наглость, без утайки выносили свой приговор, не пытаясь его смягчить. В общем и целом он всегда казался мне человеком скорее южного, чем северного темперамента, если судить по цепкому и пытливому взгляду, по пухлым рыхловатым губам, густым ресницам, темным как сажа бровям, пивному оттенку гладкой кожи и пышной шевелюре с завитками на висках – больше подходящей для кантаора[8]. Он, кстати сказать, так и не пожелал объяснить мне, откуда происходит его фамилия, если, конечно, она была настоящей.
– А теперь говори, что тебе от меня нужно. О какой услуге идет речь? И о каком испанском друге? Об отце этой любительницы чтения? Ее муже, начальнике, милом друге? Ведь нам с тобой говорить больше не о чем. Да и об этом вряд ли стоит. Если честно, я и сам не знаю, зачем пришел.
Мне трудно было держаться с ним враждебно, как я ни старался. Он мерзко поступил со мной в годы моего студенчества, но вернуться в прежнюю шкуру я уже не мог. Слишком давно это было, и я стал совсем другим – убежденным сторонником своего дела, усердным и искушенным, к тому же почти фанатиком этого самого “мы”. Стал английским патриотом, хотя все‐таки был и остался испанцем. Я не смог бы уверенно сказать, когда и по какой причине произошла эта перемена, это обращение, но тут, наверное, следовало видеть естественный результат особого характера моей работы: я вдруг обнаружил, что стал именно таким. Ты начинаешь служить некоему делу вроде бы против воли, но время спустя чувствуешь, что тебя оценили и ты на этом месте приносишь пользу, после чего раз и навсегда перестаешь задаваться вопросами о смысле своей службы, ты просто принимаешь ее, как с радостью принимают наступление каждого нового дня, потому что она придает смысл твоей жизни и житейской прозе. Всякий человек таит в душе верность хотя бы чему‐нибудь одному; и даже тот, кто в силу своей профессии или из принципа вообще никакой верности не признает, все равно приберегает для нее у себя внутри некий пустой закуток, настолько глубоко запрятанный, что и сам хозяин про его существование порой не знает и обнаруживает неожиданно и с опозданием. Это может быть верность конкретному человеку, или привычке, или городскому району, или городу, или организации, или чьему‐то телу, память о котором нас преследует, или верность прошлому – ради сохранения непрерывности временной цепочки, или настоящему, чтобы не выпасть из него; верность товарищам по оружию, которые тебе доверяют, начальству, которое тобой гордится, хотя вслух никогда об этом не говорит и не скажет. Моя доля положенной каждому верности очень долго посвящалась Берте – в любви, а может, и в сексуальном плане. Тупре же я был верен в плане профессиональном, поскольку он стал для меня главным представителем Англии, как капитан корабля для матроса. Сейчас, снова увидев Тупру и снова попав под воздействие его поля, я опять понял, что он может быть вполне симпатичным, когда не ведет себя грубо, пренебрежительно, агрессивно и наставительно. Но даже в этой последней роли послушать его бывало интересно: он редко изрекал глупости, или банальности, или – еще реже – пошлости, а ведь именно это мы слышим сегодня повсюду, да и читаем тоже, что еще хуже. Он умел держаться сердечно, когда хотел, часто искренне смеялся, и, вне всякого сомнения, одно его присутствие рядом помогало воспрять духом, а мой дух пребывал в полном упадке после того, как я возвратился в Мадрид, хотя, думаю, это началось много раньше, в тот день, когда я впал в спячку, очутившись в провинциальном английском городе, в котором осталась моя дочка. Тупра умел внушить, что праздник жизни и соль земли всегда будут сосредоточены там, где появляется он, иначе говоря, самое главное надо искать в том месте, куда он указывает пальцем и куда целится из своей винтовки.
Тупра бросил на землю и затоптал окурок, но тотчас закурил следующую сигарету, возможно, чтобы обмануть холод, который становился все злее. Тупра по‐прежнему курил свои “Рамзес II” из картонной пачки, украшенной египетскими картинками, какие, видимо, еще можно было купить в Лондоне, в Smith & Sons, или в Davidoff, или в James J Fox. Но даже в этих шикарных и весьма примечательных магазинах уже не продавали сигарет “Маркович” в металлической коробке, которые я курил в далекой юности и которые сыграли косвенную роль в моих несчастьях. Их больше не производили – что‐то всегда перестают производить, не дождавшись нашей смерти, наплевав на наши привычки, наши вкусы и нашу верность. Тупра концом сигареты указал на любительницу чтения, не глядя в ее сторону:
– Значит, говоришь, Шатобриан? “Замогильные записки”, надо полагать. – Название он произнес по‐английски. – Ну конечно, ведь вряд ли кто‐нибудь стал бы читать сейчас “Гений христианства”. – И наконец ответил мне: – Ты пришел, потому что тебе скучно и случаются дни, когда ты не знаешь, куда себя деть. Тебя привели сюда любопытство, отчаяние и тщеславие. Ты пришел, чтобы узнать, считают ли тебя до сих пор на что‐то годным, раз уж незаменимых среди нас не бывает. Ты пришел, потому что, хотя и полагаешь, будто тебе это безразлично, для таких, как ты, невыносимо оказаться снаружи, после того как ты побывал внутри. А ушел ты не совсем по своей воле. Это мы распахнули двери и позволили тебе уйти, посчитав, что пользы от тебя уже мало, но теперь ситуация изменилась. Ты пришел, потому что тебе стало невыносимо оставаться не у дел и не знать, что у нас внутри происходит и какая каша заваривается, поскольку раньше ты был в курсе всего этого. Не всего, конечно, а только той части, которую тебе полагалось знать в каждом случае. Трудно перестать в чем‐то участвовать, трудно ничего больше не значить в этом мире. Не охранять его от разных несчастий – и даже не пытаться. Побыв кем‐то, трудно стать никем.
Таков был один из девизов Тупры или один из его главных аргументов, по крайней мере в разговорах со мной, хотя, не исключаю, что для других он приберегал совсем иные доводы. Когда мы с ним впервые увиделись в Оксфорде, он так объяснил мне суть своей профессии: “Мы делаем, но мы ничего не делаем, Невинсон, или мы не делаем того, что делаем, или то, что делаем, не делает никто. Это просто происходит само собой”. Тогда его рассуждения звучали для меня цитатой из Беккета. Сейчас он добавил:
– Побыв кем‐то, трудно смириться с тем, что ты снова стал никем. Даже если этот кто‐то оставался, по сути, невидимым и неузнаваемым. Вот почему ты пришел, Невинсон, вот почему ты сидишь тут, а не у себя дома с женой и детьми, разворачивая пакеты с подарками. – Ага, значит, он знал, что сегодня День волхвов. Тупра, между прочим, называл меня сейчас, как и в прежние времена, просто по фамилии. Или Томом. – Ты пришел, чтобы разведать, нельзя ли снова стать кем‐то. Только учти, об этом, как всегда, должны знать только ты да я; ну, возможно, в случае необходимости еще и какой‐нибудь связной.
– Вроде того Молинью с его идиотским наполеоновским хохолком? – спросил я, чтобы не отвечать вот так сразу на рассуждения и выводы, изложенные столь уверенным тоном. – До чего же наглого дурака ты мне тогда посылал! Под конец мне пришлось‐таки поставить его по стойке смирно.
Тупра засмеялся. Засмеялся, словно признаваясь, что подстроил шутку, которую до сих пор с удовольствием вспоминает:
– Да, конечно, юный Молинью… Но ты не думай, он вполне успешно делает карьеру. Хотя понятно, что в нынешние времена много требовать уже ни от кого невозможно. Такого не случалось за всю нашу историю: сегодня нелегко завербовать нового сотрудника, а многие ветераны бегут от нас либо сочетают нашу работу со службой тем, кто предлагает лучшие условия, – например, в крупных британских или международных компаниях со штаб-квартирами хоть на английской территории, хоть бог знает где еще. Правда, они просят на это разрешение – и получают, потому что хуже всего, когда люди бездельничают: пусть лучше содействуют экспансии отечественной экономики, такова патриотично-прагматичная позиция нашего руководства. Если это идет на пользу Королевству, то оно не осуждает даже промышленный шпионаж. Проблема в том, что все больше агентов служат двум господам, что, естественно, подрывает дисциплину, а следовательно, и мешает концентрировать усилия на определенных заданиях. Но боюсь, что это знак времени и будет только хуже. Мне самому тоже вскоре предстоит принять решение, что делать дальше, и в предложениях недостатка нет. Если говорить честно, сегодня уже невозможно заполучить таких сотрудников, как ты. С падением железного занавеса наша служба лишилась привлекательности… Кто бы мог подумать! – Он опять постарался польстить мне, на сей раз даже слишком откровенно. Но потом вернулся к Молинью: – Да, я действительно послал его в тот город, где ты какое‐то время скрывался, – в Ипсуич, Йорк, Линкольн, Бристоль или Бат? Уже не помню. Точно знаю, что там есть река. Или в Эйвон, Оруэлл, Уитем, Уз?..
Тупра просто не мог удержаться от обидной реплики, задевающей мое самолюбие, хотя одновременно вроде бы подбадривал меня, упоминая о моих заслугах. Ему нравилось то окрылять человека, то унижать: оба способа подстегивали желание работать. Он прекрасно знал, в каком именно городе с рекой я был похоронен – и на долгие годы, а не на “какое‐то время” (или, как он выразился по‐английски, for a while). Хотя ему это, пожалуй, и показалось лишь “каким‐то временем”. Для меня же оно обернулось тоскливой вечностью, пока я не завел маленькую и недолговечную семью, которая помогла мне выдержать ссылку: медсестру Мэг и девочку Вэл. Что с ними стало? Думаю, у них все в порядке. Мэг, наверное, нашла себе мужа и нового отца для Вэл. Каждый месяц я посылал им из Мадрида деньги, Мэг не подтверждала их получения и не благодарила, но деньги до нее доходили – фунты с одного из моих британских счетов, открытых на имя Джеймса Роуленда (под такими именем и фамилией она меня знала). Только вот чувством собственного достоинства нельзя пренебрегать до бесконечности, даже если того требуют обстоятельства. И сейчас Тупра играл с огнем, если действительно хотел добиться от меня услуги. Я ведь мог просто встать и уйти, оставив его одного на этой скамейке, мог пойти на улицу Павиа и достать из пакета какой‐нибудь бесполезный подарок, то есть пойти к Берте в ту квартиру, которая долго была моей, а теперь принадлежала ей.
Да, мог и даже хотел, но не сделал этого. Я сдержался, поборол минутную вспышку, и вскоре меня стали даже забавлять зловредность Тупры и его желание непременно ткнуть пальцем в глаз, но только чуть‐чуть, неглубоко, только из желания поддразнить. А вот когда дело шло всерьез, он пускал в ход уже не палец, а оружие пострашнее. И приходилось с этим смиряться: он хорошо меня знал – или хорошо знал всех нас, и бывших, и будущих. Наверное, мы не были такими уж исключительными и особенными, просто однажды мы выбрали для себя воистину исключительную стезю – в отличие от слабовольных толп, населяющих землю, в отличие от тех, кто ни о чем ничего не знает и знать не хочет, кто мечтает лишь об одном – чтобы все вокруг бесперебойно функционировало, пребывая на своих местах каждое утро и каждый вечер. Да, Тупра попал в точку: “Невыносимо оказаться снаружи, после того как ты уже побывал внутри”. Это напрямую относилось ко мне. Как и другие его рассуждения, которые сейчас волновали меня меньше. Да, под конец я перегрелся, да, оглядываясь назад, испытал разочарование, почувствовал обиду и даже брезгливость, и тем не менее теперь мне недоставало прежнего азарта и прежнего куража… Нет, я сказал глупость: на самом деле я тосковал по чувству активной жизни, по приказам, заданиям и операциям, по желанию слепо, всеми правдами и неправдами защищать Королевство (потому что на самом деле я действовал, как правило, вслепую, никогда не представляя себе всю картину целиком, и, думаю, Тупра тоже видел ее далеко не полностью). То, что поначалу было для меня бедой и проклятьем, что лишало сна и словно острой коленкой давило на грудь, с годами, после многих выполненных заданий, превратилось если и не в жизненную основу, то в единственный способ существования, который дает внутреннее равновесие и смысл пребыванию на земле. Лишившись этого, я жил с опущенными крыльями, погружался как сомнамбула в беспорядочные воспоминания и терзался муками совести. И знал только одну возможность справиться с ними – добавить новые поводы для будущих терзаний.
Вероятно, как раз это и толкает некоторых людей убивать опять и опять, потому что лишь мысли о следующем преступлении хотя бы на краткий срок выметают из памяти прежние, то есть полная концентрация уже на нем, когда все пять чувств заняты разработкой плана и деталей его выполнения. Я часто размышлял над этим, пытаясь найти объяснение тому, что приводит некоторых людей – чаще, разумеется, мужчин, чем женщин, – к бессмысленному повторению черных дел. Возможно, это имеет обезболивающий эффект или действует как наркотик, поскольку человеку, сохранившему хотя бы блеклые следы совести, легче нести бремя многих убийств, чем только одного или двух, поскольку наступает момент, когда эта самая совесть попросту уже перестает справляться с осознанием такого числа жертв – ее способности не беспредельны, она затягивается паутиной, все там размывается и теряет внятность. Тот, по чьей воле люди гибнут как скот, не успевает различить отдельные лица или спускать шторы над каждым – эти лица для него сливаются воедино, теряют связь с реальностью, становятся лишь мертвой цифрой и мертвой плотью, а чем выше цифра и тяжелее общий груз мертвой плоти, тем надежнее одолевается чувство вины – оно цепенеет и в конце концов вообще исчезает, так как больше ничем не подпитывается.
Множить и множить число жертв – вот единственное, что остается серийным убийцам или устроителям массовых боен, будь они диктаторами, террористами или министрами, которые развязывают никому не нужные войны, или генералами, которые этих министров науськивают и дают им наставления. Вот почему надо таких уничтожать – иначе они будут и дальше сеять смерть и никогда не остановятся. Да, мне было очень тяжело оказаться снаружи и больше не ставить заслоны против возможных несчастий… Несчастий, разумеется, для нас, а что станет с нашими врагами – не имеет значения: их несчастья – это наше счастье, до тех пор пока не закончится схватка и они не сложат оружие.
– Хватит, ты прекрасно знаешь, где вы меня заживо похоронили и где я сам похоронил себя, знаешь, какая там протекает река. Перестань валять дурака и переходи к делу, не то мы тут скоро совсем закоченеем.
– Отставка плохо на тебе сказывается, как, впрочем, и на всех. Раньше ты был выносливее. Все вы слишком быстро привыкаете к спокойной жизни – без риска и потрясений. Любое неудобство выбивает вас из колеи.
По его реакции (и презрительному “все вы”) я понял, насколько уязвили его слова “перестань валять дурака”. Он должен был непременно поквитаться со мной и восстановить отношения “начальник – подчиненный”, хотя с ними и было покончено два года назад.
– Знаешь, Невинсон, я не стану тебя обманывать, как и просить о чем‐то невозможном или действительно сложном. Секретные службы теперь не те, что раньше. Надеюсь, однажды они станут прежними – как только кто‐нибудь всерьез нападет на нас. Но сейчас и вправду нет сложных дел. Падение Берлинской стены не только лишило нашу работу привлекательности. Мы еще и расслабились, перестали видеть вокруг постоянную угрозу, незатихающие войны и грозных врагов. Не скажу, чтобы мы остались в вакууме, потому что в такой профессии вакуума не бывает, то есть его не бывает для тех, кто остался в активе. – Он снова метнул в меня едва заметную стрелу. – Нельзя забывать, само собой, про Ольстер, этот нескончаемый и осточертевший всем кошмар; но и там дела идут лучше, идут, надеюсь, по правильному пути: Мейджор под шумок сделал довольно много. – Джон Мейджор правил Великобританией с 1990 года, и как раз тогда шли последние месяцы его пребывания на посту премьер-министра. – Следующим станет Блэр, почти наверняка станет, и возможно, он в течение двух-трех лет сумеет положить этой истории что‐то похожее на конец, потому что все мы истощили свои силы и устали, и они тоже, хотя долго считали свои силы неистощимыми. Но остаются и другие проблемы, всегда есть проблемы, и всегда есть те, кто нас не любит. Остаются дружественные нам страны вроде Испании, а у вас до окончания войны с ЭТА еще далеко. – Теперь он вдруг заговорил со мной как с испанцем. – И действовать надо очень аккуратно. – Он замолчал, словно решил закурить третью сигарету. Потом глянул на мои руки: – А ты что, неужто бросил курить?
– Да нет, не бросил. – Я достал портсигар. – Просто лень было снимать перчатки.
– А в перчатках ты курить не умеешь? Чего уж легче! Посмотри на девушку.
Я краем глаза глянул на нее: она действительно курила, сняв только одну перчатку. А вот Тупра курил в перчатках.
– Умею конечно. – Я не очень ловко достал сигарету и осторожно поднес к ней зажигалку. К счастью, ветра не было. Было просто холодно.
– Что ты куришь, не могу разобрать марку?
– Немецкие, очень слабые. Как‐то уже успел привыкнуть к таким.
– Немецкие? – повторил он возмущенно, как человек, услышавший что‐то оскорбительное.
И я не понял, было это предубеждением против немецкого табака или против всей немецкой нации. Он ведь чаще, чем я, бывал в Восточной Германии в прежние суровые времена.
– Ладно тебе, там уже нет ни Запада, ни Востока, и как ты сам только что сказал, вы остались без врагов.
– Ну, это еще надо посмотреть, надо подождать, как поведут себя эти роботы, ведь люди больше всего тоскуют по тоталитарности, – произнес он скептически, после чего решительно вернулся к прежней теме: – Наказание – дело второстепенное, хотя пренебрегать им все‐таки не стоит. И не только чтобы поквитаться или восстановить справедливость, называй это как хочешь. Но и для того, чтобы внушить страх другим и вовремя остановить других – ведь многие готовы продолжать их дело, устраивать жестокие теракты, распространять самые вредоносные идеи. – Он снял одну перчатку и провел пальцами по губам, словно ему понадобилось стереть с них влагу. Губы у него были такие пухлые, что вечно казались чуть мокрыми. Не надевая перчатки, он закурил очередную сигарету. – Подлость, она очень даже прилипчива и легко передается от человека к человеку. Подлость родителей непременно передается детям, в крайнем случае внукам. Отвратительно, когда во время войны уничтожают целые семьи, но посмотри на Югославию, и мотивы станут понятны, с историко-параноидальной точки зрения: во время войны лучше вовсе не знать истории, поскольку тому, кто ее знает, известно, как наверняка поведут себя эти беззащитные детишки, когда вырастут. – Надо сказать, что югославские войны тех лет доводили меня до безумия, я почти не мог смотреть телевизор и читать газеты. И сейчас надеялся, что Тупра не попросит меня ни о чем, связанном с ними. – Кроме того, мы‐то с тобой хорошо знаем: ничто не уходит с концами и навсегда, и даже то, что кажется ушедшим, рано или поздно возвращается, пусть через тридцать или пятьдесят лет. Но в любом случае оно возвращается, накопив злобы и набрав весу на искусственных кормах, потому что злобу лучше всего подпитывает воображение. А также воспоминания о том, как пострадали предки – обычно далекие и неведомые. Этих своих предков начинают считать невинными жертвами, хотя почти все они были еще и палачами, но воображение этого не учитывает, отбрасывает неприятную часть истории и носится с той, какая его больше устраивает. Иными словами, надо всегда помнить: любое зло возвращается, и если не мы, то кто, скажи, кто будет об этом думать? Люди хотят верить, что, как только тот или иной конфликт улажен или в нем одержана победа, проблема канула в лету и можно успокоиться. Из этих самых людей и формируются армии. А вот мы твердо знаем: то, что было, продолжает быть и только ждет своего часа, впав в тупое оцепенение. Сражаться надоедает всем, и все рады почувствовать облегчение; любой солдат боится погибнуть в последний день войны, перед самой капитуляцией или объявлением перемирия, воины спешат разойтись по домам, если уже не видят очевидной опасности. И тем самым дают врагу шанс восстановить силы, как это было с Германией после Первой мировой, и посмотри, что случилось потом, всего двадцать лет спустя. Разгромленная, разрушенная страна восстала как мифическое чудовище.
– Знаешь, есть такая испанская поговорка: “Убегающему врагу – серебряный мост”. – Я перевел ее дословно и объяснил смысл. – Это считается добрым и даже мудрым советом: надо облегчить врагу бегство, после чего можно будет вздохнуть спокойно. Не надо его преследовать, унижать и добивать. То есть ликвидировать.
Теперь Тупра расстегнул пальто полностью, до самого верха. Видно, наш разговор разгорячил его, что с ним бывало редко. Или ему хотелось свободнее чувствовать себя на этой не слишком просторной скамейке. Он повернулся ко мне:
– Это непростительная ошибка, как бы вы ни ценили свои пословицы. А конкретно эта годится только для страны-самоубийцы, вот почему в вашей истории все и всегда шло наперекосяк. Никто вам не даст гарантий, что враг, перейдя на другой берег по серебряному мосту, не разрушит его за собой, прихватив заодно и все ваши деньги. А без моста вы не сможете его настичь, даже если одумаетесь, к тому же враг уже получил от вас самих средства на свое восстановление. На ваши деньги он привлечет наемников и с новыми силами возьмется за прежнее.
– Нет, ты понимаешь пословицу слишком буквально, Берти. – Я неожиданно назвал его так, как звал многие годы. Может, потому, что его ответ показался мне слишком наивным, то есть ответом иностранца.
Тупра был настоящим англичанином, а я нет. А здесь речь шла о метафоре. Но он снисходительно рассмеялся, заставив меня самого почувствовать себя наивным простаком. Очень уж ловко он умел, как я уже говорил, перевернуть все с ног на голову.
– Разумеется, Том. Но и я тоже говорил метафорически. А ты как думал? Что я поверил, будто можно вот так запросто построить серебряный мост? – Он опять глумливо рассмеялся. – Да и откуда взять серебро в ходе сражения? Или время, чтобы построить мост? За кого ты меня принимаешь, мосты не возникают по мановению волшебной палочки. Ладно. Мы рассуждаем совсем иначе, но нам помогают не пословицы, а Шекспир:
Поранили змею.
Она жива и будет нам по‐прежнему угрозой, —
говорит Макбет супруге. И добавляет:
Пусть оба мира, тот и этот, рухнут,
Чем будем мы со страхом есть свой хлеб…[9]
Имей в виду, он говорит это сразу после того, как убил короля Дункана, и тем не менее понимает, что и этого убийства недостаточно, уверенности в будущем оно не дает:
Змея убита, а змееныш жив
И будет мне со временем опасен,
Когда нальется ядом.
Я никак не мог привыкнуть к тому, что столько агентов спецслужб обоего пола, которые в силу служебных обязанностей должны действовать решительно и часто идти напролом, – это люди весьма образованные, хотя сам я тоже был из таких. Что не мешало им ловко плести интриги, для чего, кстати сказать, тоже полезно знать историю и литературу, знать как следует. Не случайно на тренировочных курсах нам преподавали самые разные предметы. Не случайно нас часто вербовали в лучших университетах (возможно, так было в другие времена, а самые талантливые никогда не попадались на эту удочку, поскольку были нацелены на то, чтобы зарабатывать побольше денег, чего не обещает служба родине, во всяком случае одна только служба родине). И у меня, и у Тупры в прошлом все‐таки был Оксфорд, а значит, мы получали знания не только по избранной специальности, мы учились почти всему понемногу, но в достаточной степени, чтобы при случае продемонстрировать свою эрудицию. А также применить ее на практике, если повезет.
– Да? – сказал я. – Разве просто уничтожить врага недостаточно? Тогда что еще нужно, чтобы почувствовать себя в безопасности?
– А это объясняет леди Макбет в той же сцене, и тебе должно быть стыдно не вспомнить в данных обстоятельствах ее слова, Невинсон. – Теперь он держал себя как учитель, который отчитывает нерадивого ученика. —
Конца нет жертвам, и они не впрок!
Чем больше их, тем более тревог.
– Нет, Тупра, я этого не понимаю. – Мы с ним опять стали Тупрой и Невинсоном. – Наверное, я просто слишком замерз.
– Да и Макбет придерживается того же мнения, вспомни.
Однако и этого я не помнил, но подумал, что вот Берта знает все цитаты отлично, она досконально изучила английских классиков, преподавая этот предмет в университете.
– “Завидней жертвою убийства пасть, / чем покупать убийством жизнь и власть”. И она даже начинает завидовать королю Дункану, которого трусливо убили, заколов кинжалом, когда он спал и был беззащитен:
Теперь Дункан спокойно спит в гробу.
Прошел горячечный припадок жизни.
Пережита измена. Ни кинжал,
Ни яд, ни внутренняя рознь, ни вражье
Нашествие – ничто его теперь
Уж больше не коснется.
Тупра немного помолчал, я тоже – задумавшись и погрузившись в воспоминания. Мне не было нужды отвечать ему, поскольку он высказал вслух мои мысли.
А он продолжил:
– Ты сам это знаешь и знаешь, что это правда. Знаешь, что единственная возможность быть в безопасности – быть мертвым. Вот почему ты столько времени пользовался безопасностью – и никто не искал тебя ни с ядом, ни с кинжалом, да и впоследствии наши враги до тебя не добрались.
Именно так он сказал бы – “впоследствии”, – если бы говорил по‐испански, потому что на сей раз (это я проверил позднее дома) употребил опять же шекспировское слово, а в цитатах Тупра был поразительно точен, если не считать некоторых намеренных пропусков и вольностей, так как память у него была великолепной: So that no one could touch you further. Он просто играл со мной, зная, разумеется, где и почему я скрывался и по какой причине меня сначала объявили без вести пропавшим, а потом умершим, о чем сам он и сообщил Берте – лично принес ей это известие во время своего второго визита в Мадрид, представившись как Рересби, тогда они и познакомились, хотя сейчас он ничего про нее не спросил. На самом деле Тупра вообще ни о чем меня не спросил – ему было совершенно безразлично все, что могло со мной случиться. Вернее, он полагал, что и так знает достаточно, коль скоро “все мы”, по его словам, одинаковы. К чему было теперь возвращать меня в мрачную и унылую пору, когда я вроде как не существовал, а если существовал, то под именем Джеймса Роуленда и лишь для нескольких жителей провинциального города? Когда я был отрезан от своего мира и томился в бесконечном ожидании освобождения, делая вид, будто перемещаюсь с места на место или плыву по течению, стараясь быть как можно незаметнее – чем незаметнее, тем лучше. С каждым таким днем я становился лишь более расплывчатым и распыленным, а значит, был и в большей безопасности? Дело не в том, что я забыл тот период, когда мне выпала роль умершего и пришлось отказаться от “горячечного припадка жизни”, как говорит удрученный Макбет: это нельзя забыть, но я уже два года как воскрес, поскольку было решено, что впредь никто не станет меня искать и опасность миновала – или почти миновала. Конечно, мог остаться какой‐нибудь упрямец, одержимый прошлым, смертельно обиженный и недоверчивый, – в Англии или в Северной Ирландии (на всякий случай лучше мне никогда не переступать ее границ, как и границ Аргентины), но только не в Испании. Вряд ли кто‐то доберется сюда, идя по моему следу, чтобы свести со мной старые счеты.
Вопреки тому, что рассказывается во многих романах и фильмах, даже люди, которых мы, ведя двойную игру, жестоко предали, даже они не способны жить в постоянном напряжении, подпитывая его ненавистью и неутолимой жаждой мести. Даже люди, которые решили ничего не забывать, в конце концов многое забывают, иначе это будет сжигать их изнутри – ежедневно, год за годом, но ведь подобной пытки не выдержит и самый кровожадный из них. Короче, если до жертвы предательства доходит слух о смерти его личного врага, он сперва в этом усомнится, но будет только рад получить надежное подтверждение, чтобы наконец заняться другими делами и хоть изредка спать спокойно. Люди стареют, устают и втайне бывают счастливы, если больше не надо усмирять бушующее в душе пламя. Как только удается убедить себя, что враг лежит в могиле, уже не так важно, кто его туда отправил и кто вырыл ему могилу. Более того, если сам ты не был к этому причастен, быстрее сотрутся из памяти старые обиды и легче будет смотреть назад вполглаза или из‐под приспущенных век: “Этот тип никаких гнусностей больше не сделает. Ни мне, ни другим. Он уже не рыщет по миру, сея зло. Он уже ничего не видит, не слышит, не дышит, ничего не говорит и не замышляет. Не принесет с собой ни яда, ни кинжала”.
– Ладно, пошли отсюда, ты совсем окоченел, Невинсон. Хилым стал – да и все вы сразу начинаете ржаветь. Пошли в какой‐нибудь кабак. – Кабаками он назвал бары и рестораны на Соломенной площади. – В конце концов, невелика вероятность, что там нас кто‐нибудь подслушает. Но в любом случае говори потише, уж сами мы друг друга как‐нибудь поймем. В твоей стране все очень громко орут. С чего бы это?
Я не ответил, потому что он и не ждал ответа, а просто хотел слегка подтрунить над моей испанской половиной. Он решительно встал, но пальто не застегнул, давая понять, что ему самому холод нипочем. Прежде чем выйти из сквера, Тупра сделал вежливый прощальный жест в сторону читательницы Шатобриана, словно снимая несуществующую шляпу или дотрагиваясь до ее полей. Она жест заметила и ответила легким кивком. Девушка по‐прежнему сидела в шерстяной шапке, так что волос ее мы так и не увидели. Теперь я уже не думал, что эти двое знакомы: просто она была вежливой и воспитанной. Что касается Тупры, то я не раз наблюдал, как он приударяет за женщинами, и не без успеха. Так было и при нашей с ним первой встрече двадцать лет назад в оксфордском книжном магазине “Блэквелл”, когда он положил глаз на пышнотелую профессоршу из Сомервиля (очень даже соблазнительную по сравнению с большинством ее коллег-преподавательниц и не только коллег). Однако к этой девушке он не подошел, хотя в другое время такого шанса не упустил бы: под любым предлогом заговорил бы с ней (ему наверняка помог бы Шатобриан), чтобы назначить свидание на тот же самый день или вечер. Я успел кое‐чему научиться у Тупры в данном искусстве: обычно мы сперва просто наблюдаем чьи‐то приемы, а затем с большим или меньшим успехом их перенимаем; к тому же умение понравиться женщине стало частью моей работы, и в двух-трех случаях без этого было просто не обойтись. Хотя Тупра внешне изменился мало и оставался мужчиной привлекательным, а иногда даже неотразимым (и не только благодаря внешнему облику, поскольку, на мой взгляд, было в его лице и что‐то отталкивающее), однако осознание собственного возраста, видимо, сделало его осторожным или поумерило пылкости. Или, допустим, он мог подобрать себе постоянную спутницу жизни и даже жениться, я ведь никогда не слышал от него ни слова про личную жизнь, увлечения или семью, словно ничего такого у него не было, как ничего не знал я и про его происхождение (он уклончиво намекал на самые низы общества, к которым прежде принадлежал, а упомянутые низы, вероятно, были действительно совсем низкими).
– Скажи, Берти, а ты, случаем, не женился со времени нашей последней встречи? – спросил я в лоб, пока мы медленно шагали к выходу из сквера.
Он остановился и удивленно уставился на меня:
– Почему ты об этом заговорил? И как тебе пришло такое в голову? Неужто заметил во мне что‐то новое?
– Ага, значит, женился, – сказал я, не дав ему времени опровергнуть мою догадку, хотя всегда легко что‐то опровергнуть, даже самые очевидные вещи. – И как зовут эту счастливицу? Понятно, конечно, что она стала миссис Тупра, – добавил я с легкой улыбкой. – Или миссис Рересби, или миссис Наткомб. Или еще не знает, что время от времени должна зваться то так, то эдак? Вряд ли, конечно, знает, и она не одна такая. К примеру, моя жена Берта тоже многого не знала, а сколько всего не знает и до сих пор. Я ведь не сказал ей, что сегодня увижусь с тобой. И еще не решил, скажу или нет позднее. Что ж, счастья тебе, Берти. Надо бы поднять бокал за здоровье миссис Дандес и за твое тоже.
Он никак не отреагировал на мои шуточки, но они его явно задели. Правда, напрягло его еще и то, что он непонятно каким образом навел меня на мысль о перемене в своей жизни: это ведь невозможно заметить, как нельзя заметить, что ты с кем‐то недавно переспал (если, конечно, такое событие не стало слишком важным для тебя самого). Легко скрыть почти все. И гордиться тут особенно нечем, по природе своей мы непроницаемы и непрозрачны, то есть нашу ложь, как правило, разоблачить невозможно.
– Знаешь, у тебя острый глаз, значит, ты проржавел еще не насквозь, чему я искренне рад. Это нас устраивает. Но не знаю… – Тупра явно смутился, видно, не мог простить себе оплошность, позволившую мне догадаться о вещи, которую сам он считал в принципе неопределимой. Неужели мне помогли интуиция и удача? – Я ведь даже обручального кольца не ношу. – И он растерянно глянул на свои растопыренные пальцы (как обычно смотрят на них после только что сделанного маникюра), хотя руки у него по‐прежнему были в перчатках. – Странно, может, кто‐то принес тебе новость на хвосте, но ведь о ней мало кто знает… И сам ты вряд ли назовешь этого человека. Мою жену зовут Берил.
Как ни странно, он не стал отрицать, что женился. Хотя мог бы. А я не показал своего торжества и сделал вид, будто пропустил мимо ушей его похвалу. Он ведь редко кого хвалил. Но в тот день собирался о чем‐то меня просить.
– Ну и как это объясняется?
– Что объясняется? Что ее зовут Берил? – Тон его был настороженным и даже оборонительным, словно он боялся, что имя мне не понравилось или я намерен поиздеваться над ним самим.
– Нет. То, что ты в таком возрасте вдруг взял да женился.
Он был немногим старше меня, ему было, думаю, около пятидесяти. Для первой женитьбы поздновато (так мне, во всяком случае, казалось), однако многие мужчины вступают в брак, только перевалив за полтинник, – со всеми предписанными для такого события церемониями, официальной регистрацией и так далее, – когда одиночество и независимость начинают восприниматься как своего рода слабость, или безволие, или покорность судьбе, а не как преимущество и безусловный плюс. Да, именно осознание своего возраста определяет наши поступки, а отнюдь не сам возраст. Пожалуй, теперь Тупра мог позволить себе брачные узы, не ломая устоявшихся привычек и не взваливая на себя чрезмерных обязанностей (сам я слишком рано прошел через это). Я представлял его все больше увлеченным кабинетной работой и созданием нового отдела, в котором мне не нашлось места.
Тупра немного помолчал. Потом легко тронул меня за локоть, словно предлагая продолжить путь, хотя мы по‐прежнему не двигались с места и стояли перед калиткой – видно, он обдумывал ответ. И я расценил это прикосновение как попытку установить не столько физический, сколько душевный контакт, как желание убедиться, что я пойму его правильно:
– Может же человек влюбиться, а? – Я не понял, шутит он или говорит серьезно. – Мы, разумеется, понимаем, что влюбленность продлится хорошо если несколько лет, да, всего несколько лет – и все, наверняка все. Но пока чувства живы, надо что‐то сделать, чтобы избавить эти годы от добавочных печалей.
Его слова меня удивили. Я никогда не слыхал, чтобы он говорил о каких‐то печалях, хотя с ним тоже, скорее всего, что‐то такое случалось, как и со мной, как и с Блейкстоном, который так нелепо подражал генералу Монтгомери, как и с кем угодно, как и со всеми теми, кого мы спасали от несчастий. К печалям надо относиться как к чему‐то само собой разумеющемуся и не слишком их обсуждать, каждый держит свои при себе и не обрушивает на других. И вообще, я никогда не слыхал от Тупры о каких‐то его неизменных и постоянных печалях, чтобы печали, связанные с влюбленностью, он мог назвать “добавочными”.
– Добавочные печали? – переспросил я.
– Да, то есть бессмысленные, те, от которых можно себя оградить или увернуться, а можно и смягчить. Есть и другие, неизбежные, сам знаешь. Ты такие испытал, и бывают периоды, когда они тебя душат, как петля на шее. Возможно, ты снова что‐то подобное испытаешь, если согласишься оказать мне великую услугу, но о ней речь впереди. Так вот, если, чтобы уберечь себя хотя бы от одной из печалей, надо жениться, человек женится – и проблема решена, по крайней мере на время, пока ты влюблен. А потом будет видно… Зато можно прожить несколько лет без горького привкуса, без добавочных печалей, как я уже сказал. А также без лишних отвлечений – они всегда только мешают сосредоточиться на главном. Мысли о человеке, которого больше нет с тобой рядом, если ты потерял его или не смог удержать, отнимают немало времени. Мысли о женщине, которой мы позволили уйти и с которой хотели бы быть вместе… На них жалко тратить силы… И таких трат нужно по мере возможности избегать.
– Короче, ты влюблен в миссис Юр? – Я назвал Берил еще одной из его фальшивых фамилий.
Тупра, видимо, так и не поверил, что я не шучу. Во всяком случае, заговорил без намека на иронию. И без малейшего пафоса. Тон его был естественным, почти повествовательным:
– Не понимаю, почему тебя это так удивляет. Сам ты уже не один десяток лет влюблен в свою Берту. И она того стоит, в чем я ничуть не сомневаюсь. Или уже не влюблен? Неужто прошло? Неужто ты в жене разочаровался? Правда, после возвращения такое случается – реальность, она почти фатально проигрывает воображению, как настоящее проигрывает будущему. Ну и что с того? Ты был влюблен, и по продолжительности твоя любовь, можно сказать, побила все рекорды. Почему ты думаешь, что я для себя ничего подобного не допускаю? Или считаешь даже намек на постоянство несовместным с моими привычками и характером? Не будь таким наивным: можно быть влюбленным и по‐прежнему менять женщин, хотя, должен признать, что соблазны идут на убыль – слишком силен фокус притяжения. Я имею в виду жену. А что касается всего остального – даже не сомневайся. Женитьба вовсе не значит, будто меня приручили или я расслабился. И работы это никак не коснулось. Если ты согласишься на мое предложение, то, надеюсь, доведешь дело до конца, как всегда. Как в былые времена.
Теперь задумался я, но не о последних его словах: рано или поздно суть его просьбы неизбежно прояснится, и я вовсе не сгорал от любопытства. Задумался я о другом, хотя быстро понял, что подобные размышления лишены всякого смысла. Влюблен я в Берту или нет? Еще недавно такой вопрос просто не мог прийти мне в голову. Да и не волновал ни в малой степени. К тому же и “горячечный припадок жизни” не спешил давать о себе знать, даже когда пришелся бы кстати. Время текло для нас с ней так же, как и прежде, наша ситуация была терпимой, иначе говоря, вполне приемлемой, с точки зрения человека, который от жизни уже ничего не ждет или еще только начинает чего‐то ждать, а два эти состояния в итоге означают одно и то же – таков был мой случай, хотя, пожалуй, Берта все воспринимала иначе. Однако пока жена от меня не отдалялась и окончательно не бросала, да и я тоже бросать ее не собирался. Если однажды она позволит себе увлечься другим мужчиной или, взвесив все за и против, отдаст ему предпочтение, а меня выставит вон, мне, наверное, будет невыносимо больно, но тут будет играть свою роль еще и привычка, поскольку все мы плохо переносим вынужденные перемены. Само слово “влюбленность” стало казаться мне расплывчатым и ребячливым – я вроде бы уже говорил об этом, – а еще до известной степени фальшивым и чем дальше, тем более непостижимым, то есть отнюдь не тем понятием, с которым следовало бы считаться всерьез, “земную жизнь пройдя до половины”, а я‐то эту половину прошел уже давно, поскольку мой реальный возраст был куда внушительней указанного в документах. Если только на меня не свалится чего‐то совсем нового, никогда раньше не испытанного, как это, видимо, и случилось с Тупрой, подумал я, иначе он не заговорил бы сейчас об этом в таких выражениях, так убежденно и откровенно.
– Уж тебя‐то, Тупра, никто не сумеет приручить. – Я снова назвал его по фамилии, и сегодня мы оба то и дело меняли форму обращения, чтобы показать, когда отдаляемся друг от друга, а когда снова сближаемся. – Тебя никто не сумеет укротить, это я понял едва ли не с первого нашего знакомства. Ни укротить, ни сделать более милосердным.
На это он ничего не ответил. Лишь опять тронул меня за локоть, почти незаметно, чтобы чуть подтолкнуть к калитке. А как только мы вышли, сразу увидел справа, в переулке Костанилья‐де-Сан-Андрес, на одной из стен желтую табличку и направился к ней с любопытством праздного туриста. Ему явно хотелось показать, что он относится к нашей встрече спокойно, никакой спешки не чувствует, а может, нарочно решил подольше подержать меня на холоде, словно испытывая или желая сломить мою волю, и мне действительно стало казаться, что мы уже никогда не попадем в теплое помещение. Тупра внимательно изучил эту ромбовидную табличку – одну из тех, что по всему городу развесила наша мэрия.
– Тут что‐то говорится про Тамерлана Великого? – спросил он, словно прося перевести ему текст. Именно так он его назвал: Tamburlaine the Great – по названию пьесы Марло, несчастного современника Шекспира, который прожил на двадцать три года меньше, что сильно навредило ему не только при жизни, но и после смерти.
Я перевел:
– “На этом месте стояли дома мадридца Руя Гонсалеса де Клавихо, бывшего послом Энрике III при дворе Таморлана с 1403 по 1406 год”.
Именно “Таморлана”, а не “Тамерлана” – так, видимо, было принято писать в те времена. Тупре сразу пришел на ум Марло, и он, как всегда, решил поумничать, что, вне всякого сомнения, было следом обучения в Оксфорде и влияния Питера Уилера.
– Значит, в пятнадцатом веке вы поддерживали отношения с Трансоксианой[10].
Я не имел понятия, о какой территории он говорит: по логике, имелась в виду империя Тамерлана. Но я всегда считал его монголом или татарином. Тупра снова обращался ко мне как к полноценному испанцу, и только когда ему это было выгодно, соглашался считать англичанином.
– А знаешь, это, пожалуй, объясняет замысел Марло. Тебе известно, что вдохновился он как раз испанским текстом – “Жизнью Тимура” некоего Педро Мехии?[11] Как ни странно, книгу перевели и на английский. – Это “как ни странно” невольно прозвучало пренебрежительно. – Но чаще его звали Тимуром Хромым, Timur the Lame, что означает еще и “калека”. – Потом Тупра добавил, указывая на табличку: – Очень все это странно. Тамерлан умер в тысяча четыреста пятом году, когда собирался напасть на Китай. Но каким образом ваш посол, чей дом стоял вот здесь, мог оставаться там после его смерти, а не покинул Самарканд тотчас и весьма поспешно. Допустим, ему нужно было время, чтобы упаковаться и подготовиться к путешествию на родину. Только представь себе, какое расстояние им предстояло одолеть. Самарканд сейчас находится в Узбекистане, хотя ты, скорее всего, даже не сумел бы отыскать эту страну на карте. – Тупра хорошо помнил историю Средних веков, поскольку мало кто без предварительной консультации назвал бы точную дату смерти Великого Хромого. – А этот ваш король, каким он был? – спросил Тупра, внезапно меняя тему. – Успел совершить что‐нибудь действительно важное? Не могу ничего припомнить, хотя что‐то такое в голове вертится… Слишком уж многие монархи носили имя Энрике: наши, немецкие, несколько французских… Генри, Генрих, Анри – попробуй тут не запутаться… И зачем было так повторяться?
Он хвастался, демонстрируя свои познания в истории, но мне тоже не хотелось ударить в грязь лицом; люди даже вообразить себе не могут, какими образованными часто бывают агенты секретных служб – иначе говоря, шпионы, хотя так их называют все реже, все с меньшим уважением относясь к этому благородному слову. Однако я вспомнил лишь два факта, связанных с Энрике III:
– Он умер молодым, и прозвище у него было Энрике Хворый.
– Посол Хворого при дворе Хромого – вот кем был этот ваш Руй Клавихо, – съязвил Тупра, с трудом выговорив фамилию Клавихо. – Мир вечно попадает под власть каких‐нибудь неполноценных типов или безнадежных страдальцев, и остается лишь удивляться, насколько любое отклонение от нормы – физическое или умственное – ослепляет толпы. Уродство, гневливость, жестокость или безумие – все это, как правило, на какое‐то время завораживает и с восторгом приветствуется, но только до тех пор, пока восторгавшиеся не одумаются и не устыдятся, но молчком, а вслух будут отрицать, что прежде ими восторгались. По-моему, многих попросту тешила и согревала вполне банальная мысль: если этот дурак может стоять у власти, то ведь и я тоже смог бы; а к ней примешивалась и другая: коль скоро такой монстр подчинил нас себе, есть ли и наша вина в том, что происходит? Так оно всегда было, и так оно есть до сих пор за редкими исключениями. Или не такими уж редкими, скажем честно. Что же все‐таки совершил этот Энрике, если, конечно, успел? В каком возрасте он умер, действительно молодым?
Я долго с уважением относился к Тупре, а потом перестал, хотя уважение никогда не уходит полностью, если возникло с первой встречи и сохранялось много лет; иногда оно может даже сосуществовать в странном и необъяснимом равновесии с более поздним презрением. Теперь меня, конечно, его мнение волновало мало, однако бесила мысль, что я буду выглядеть недоучкой на фоне его кичливой эрудиции. Я не изучал в Оксфорде историю Средневековья, моей специальностью были языки. И тем не менее, как случается, когда задето больное самолюбие, на помощь вдруг приходит что‐то прочитанное давным-давно, и мозг мгновенно восстанавливает забытые факты. Вернее, на память мне пришла одна-единственная фраза из пятнадцатого века, которая запомнилась, поскольку сильно меня позабавила. В Оксфорде по настоянию профессора Уилера, написавшего книгу об Энрике Мореплавателе, я прочел “Поколения и портреты” Фернана Переса де Гусмана, современника этого знаменитого португальского инфанта-первооткрывателя. В своем коротком сочинении Гусман дал беглые портреты знаменитых людей, которых знал лично, – королей, придворных, прелатов, а также нескольких литераторов. Разумеется, включил туда и биографию Энрике III. Но из написанного о короле я не запомнил ничего. Зато там имелась незабвенная фраза про его жену.
– Он не дожил и до тридцати. – А дальше я решил сыграть на той самой фразе, чтобы блеснуть хоть чем‐нибудь, как поступают на устном экзамене загнанные в угол студенты: – Он был женат на Екатерине Ланкастерской.
– Ах вот оно как! Что‐то припоминаю. Ну и какой же королевой она была? – Тупра тотчас перевел разговор на Екатерину, поскольку речь шла о его соотечественнице, а он действительно был патриотом – правда, если этому ничего не мешало.
– Она исполняла обязанности регентши, так что, по сути, правила Кастильей. – Я, естественно, постарался затушевать скудость своих познаний касательно ее роли в истории. – Один хронист той эпохи описывал королеву как женщину высокого роста и очень полную, а еще – белолицую, румяную и светловолосую. Но добавил одну не слишком украшавшую ее деталь, которая оттолкнула бы от такой жены любого мужа. Может, именно поэтому Энрике в конце концов и превратился в Хворого.
– Правда? И что же написал хронист? Надеюсь, ничего обидного для англичанок в целом? Он был, видать, довольно смелым, если отважился не польстить королеве.
– Летописец рассказал, как Екатерина выглядела на смертном одре, где она, разумеется, уже не казалась ни высокой, ни полной, ни белолицей или румяной. Ее портрет он завершил таким вот ярким, можно даже сказать кричащим, мазком: “И фигурой и всей повадкой она при жизни столь же походила на женщину, сколь на мужчину”. Не слишком привлекательно звучит, а? Даже для тех времен, хотя и тогда вкусы не так уж сильно отличались от нынешних. – Я перевел ему цитату по возможности более точно.
Тупра расхохотался – от всей души, как всегда, когда был в хорошем настроении и чувствовал себя обычным человеком, а еще – когда все у него шло по плану. Я ведь уже говорил, что он был симпатичным типом – или умел таким казаться, что вполне совместимо с жестокостью. Я невольно присоединился к его смеху: так мы с ним стояли и хохотали рядом с Соломенной площадью в окружении веселой праздничной толпы. Словно ничего и никогда не омрачало наших отношений. Словно он не придумал мне новую судьбу – за моей спиной и вопреки моей воле.
– Остается только удивляться, что Энрике не удрал вместе с Клавихо в Самарканд, – сказал он, отсмеявшись. – Я бы так и поступил – подальше от такой повадки и такой фигуры! “И фигурой и всей повадкой она столь же походила на женщину, сколь на мужчину”, – с удовольствием повторил он. – Вот ведь какое несчастье! Если бы он сказал: “Она была больше похожа на мужчину”, – еще куда бы ни шло. Но две вещи сразу… Этот хронист был остроумен, лаконичен и злоречив. Как его звали? Возможно, он переведен на английский, надо проверить, я всегда с удовольствием перечитываю средневековые тексты. Хотя, должен признаться, времени на них почти не остается. – Теперь Тупра слегка задумался, но улыбка еще не сползла с его пухлых губ. Он смотрел на гулявших и на тех, что целыми семьями сидели на террасах ресторанов. Потом добавил: – Надеюсь, ничего подобного нельзя будет сказать ни об одной из женщин, с которыми тебе придется иметь дело, если ты согласишься на мое предложение. Но сам я их не знаю.
Он уже не просил об услуге, он ставил задачу. Это был первый подход к тому, что меня ожидало.
– С какими еще женщинами? – спросил я.
Мне казалось, что меня перенесли в другое время, в оксфордский паб “Орел и дитя” на улице Сент-Джайлс, где Тупра и его верный Блейкстон, который пытался подражать виконту Монтгомери – носил, не снимая, такой же берет, такое же полупальто и отпустил такие же усы, – разложили передо мной восемь мужских фотографий, и я пытался узнать на них возможного убийцу моей любовницы Дженет Джеффрис, что спасло бы меня самого от рокового обвинения. Там и началось то, что стало по большому счету моей жизнью, началось почти четверть века назад, когда мне был двадцать один год.
Теперь, как я и боялся, Тупра настоял, чтобы мы расположились на террасе, где было гораздо больше людей, чем внутри:
– Немного холодно, но только посмотри на это “славное солнце Йорка”, This glorious sun of York, – сказал он, и я сразу узнал слегка переиначенные слова, которыми начинается “Ричард III”. Теперь Тупре захотелось вспомнить и эту пьесу – хотя бы ради словесной игры. – Очень уж подходящий случай для этой цитаты, а в Лондоне мне такого повода не подвернется. – А когда официантка принесла нам два пива и оливки, он воскликнул: – Как? Оливки бесплатно? Невероятная щедрость! – В столь бурный восторг его привело мое заверение, что я их не заказывал – просто здесь так принято.
Он достал из внутреннего кармана пальто конверт, а оттуда – три женских фотографии:
– Только аккуратней, не испачкай и не замочи. Они тебе еще пригодятся, если ты возьмешься за это дело. Хотя, само собой, имеются копии.
– Опять фотографии? – взвился я. – Этот фокус я уже видел, когда мы с тобой впервые встретились, и с их помощью ты подстроил ловушку, последствия чего я до сих пор расхлебываю. И не расхлебаю до самой смерти. Как ты смеешь…
– Я подстроил тебе ловушку? Что‐то не припомню.
Он наверняка и действительно ту историю забыл, ведь для него она не имела никакого значения: он многим ломал жизнь, если возникала такая необходимость. Человек легко забывает зло, которое часто причиняет другим, но хорошо помнит собственные обиды, забывает то, что когда‐то сказал, сделал или написал, но хорошо помнит то, что услышал или прочитал о себе, что сам испытал. И я решил напомнить ему тогдашние события, напомнить даже имя типа, узнанного мной на фотографии: Хью Сомерез-Хилл, постоянный любовник Дженет. Член парламента. А ведь мне совершенно незачем было кого‐то узнавать – потому что не было никакого убийства. Я понял это слишком поздно, когда изменить прожитое было уже невозможно. Мужчина или женщина зрелых лет не могут ничего изменить в своей юности.
– Хью Сомерез-Хилл, неужто забыл?
– Ах да, что‐то такое припоминаю, хотя и смутно. Карьера у него не заладилась. Но наше нынешнее дело, Том, никак не связано с тем. Сейчас это никакая не ловушка. И узнавать на снимках тебе никого не надо, а надо будет с этими женщинами познакомиться. Посмотри, посмотри на них.
А я не желал на них смотреть. Не желал повторения той давней сцены, когда Тупра так же флегматично раскладывал передо мной фотографии, словно играя в открытый покер.
– Мне незачем на них смотреть, Тупра.
Я упрямо не опускал глаза вниз – и это выглядело каким‐то по‐детски нелепым бунтом, что я и сам понимал. А смотрел я на Тупру, в его серые глаза под слишком густыми ресницами, в глаза, которые при зимнем мадридском солнце сияли ярче, чем в Англии, но одновременно, как ни странно, казались блеклыми, словно сделанными из морского льда. Они внушали и доверие и страх. Ты чувствовал, что этот человек тебя оценил, отметил, признал незаменимым, но и подвел к самой границе чего‐то жестокого или грязного, призванного бороться с чем‐то еще более жестоким и грязным. Из наших дел мы никогда не выходили незапачканными.
– Я уже сказал тебе, что отказываюсь, чего бы эта услуга ни касалась, и можешь мне больше ничего не объяснять. Вообще‐то, такое начало уже само по себе исключает любой интерес с моей стороны, это, знаешь ли, явный перебор. Я не готов по второму кругу проходить свою же печальную историю. Только тогда ты превратил ее в печальную неизбежность, которая не оставляла мне выбора, – это твои собственные слова. Но моя печаль была тайной, что ее только усугубляло. Мало того, о ней и до сих пор запрещено рассказывать – даже Берте. Хотя она уже вряд ли станет что‐то спрашивать, к тому же это ей теперь и не любопытно. Забирай фотографии и спрячь подальше… Ты ведешь себя по‐свински.
Но Тупра и не подумал их прятать. Он рассеянно барабанил по снимкам пальцами, словно искушая меня. Рассеянно и многозначительно.
– Хорошо, хотя со мной ты можешь свободно поговорить на больную для тебя тему, я ведь в курсе дела, – ответил он отчасти нагло, отчасти с совершенно ему несвойственным простодушием.
Однако и то, что он влюбился, также не было ему свойственно, и то, что признался в этом, и то, что женился в пятьдесят лет – или почти в пятьдесят. Какую струну задела в его душе эта Берил, чтобы настолько его преобразить? Правда, мне Тупра не показался ни в коей мере изменившимся. Скорее, он был из числа людей, чья личность оформилась уже в десятилетнем возрасте, характер затвердел, а потом добавился жизненный опыт, но ведь иногда добавляется еще и подлость.
– Мне ты можешь излить душу, если есть такая потребность. Пожалуй, я единственный подходящий для этого человек, поскольку для меня в твоей истории нет тайн.
– Знаешь, Тупра, и для тебя тоже остаются закрытые зоны. Не будь таким самонадеянным. Я ведь долго оставался один, варился в собственном соку, не слышал твоего голоса и не получал инструкций. Сам принимал решения и делал то, что считал нужным.
Но он вроде как пропустил мимо ушей мои слова и продолжил как ни в чем не бывало:
– Ты сам знаешь, что мы с тобой в некотором смысле одно целое. Когда двое знакомы с молодых лет, это спаивает намертво. А тем более когда каждому из двоих известно, что именно другой совершил в прошлом и какой хвост за ним тянется.
– Да, – ответил я не без яда, – как два человека, которые вместе совершили преступление, примерно так. Один знает, на что способен другой, и поэтому оба потеряли друг к другу уважение, всякое уважение. Поскольку видели друг друга без масок и грима. А это не самая приятная форма спайки – вот почему у них нет ни малейшего желания вместе предаваться воспоминаниям или обнажать душу. Один для другого – нечто вроде зеркала, в которое не хочется смотреться. А уж коли случайно глянешь, тотчас с омерзением отскочишь. И я понятия не имею, зачем ты на сей раз явился. Могу лишь догадываться.
Тупра засмеялся, но не так весело, как несколько минут назад, когда слушал мой рассказ про Екатерину Ланкастерскую, описанную Пересом де Гусманом. Он засмеялся чуть пренебрежительно, а может, хотел показать, что отлично знает, кем я был раньше и чем кончилось дело.
– Ты сперва хотя бы выслушай меня. Одна из этих трех женщин участвовала в двух очень кровавых терактах – здесь, в твоей стране, в Испании. Может, еще в каких‐то операциях, но в двух испанских точно. И сыграла в них едва ли не главную роль, правда, как мы полагаем, действовала на расстоянии.
Да уж, Тупра знал, как пробудить мое любопытство, но я все еще держал оборону, продолжая смотреть ему прямо в глаза:
– А с каких это пор мы занимаемся тем, что происходит в Испании? – Я невольно употребил это “мы”, словно все еще оставался сотрудником МИ-6 или МИ-5, ведь некоторые агенты кочуют туда и обратно, и, наверное, из них и вправду никто окончательно не уходит, даже когда агента просто-напросто вышвыривают вон. Но мой случай был все‐таки иным.
– Я уже сказал тебе по телефону. Это было бы услугой мне и одному испанскому другу, человеку влиятельному – или который весьма скоро станет влиятельным.
– Что еще за друг? Вот уж не думал, что у тебя много друзей.
– А с каких это пор, Том, ты стал спрашивать имена и конкретные сведения? – поддел он меня. И я снова стал Томом, а он оставался Тупрой, иначе у меня не получалось, пока он старался уговорить меня, а я старался увильнуть. – Хорошо, допустим, это наш коллега… Для удобства будем называть его Хорхе. Или лучше Джорджем, если ты не против: не решаюсь произнести это имя на испанский лад – можно поперхнуться, выдавливая из себя ваши согласные.
Теперь, после слов Тупры, меня стали неудержимо притягивать к себе лица на фотографиях, очень захотелось взглянуть на них хотя бы краешком глаза. Но я упрямился. Официантка подошла к нам спросить, не хотим ли мы чего‐нибудь еще, и, пока записывала новый заказ, рассмотрела снимки. Что ж, раньше меня их увидел посторонний человек – глаза всегда невольно устремляются к любому портрету, к запечатленному на нем неподвижному лицу.
– Дайте нам еще пять или десять минут, а потом принесите два пива, пожалуйста. И несколько пататас бравас[12], будьте так любезны.
Я не знал, понравятся ли пататас бравас Тупре, и меня это мало волновало – сам съем их с большим удовольствием. Он вроде бы не чувствовал холода, а я весь закоченел, хотя сидеть на солнце было все‐таки приятно. Терраса заполнялась людьми, они были тепло одеты, но их решение я бы все равно назвал смелым. Рядом с нами устроилась большая компания, человек девять-десять, все они громко разговаривали, а один мужчина, как я сразу же с досадой отметил, говорил даже чересчур громко.
– Оба теракта случились уже давно, в восемьдесят седьмом году: один в июне, другой в декабре. И оба раза использовались автомобили-бомбы. В июне погиб двадцать один человек, сорок пять получили ранения и остались инвалидами, на всю жизнь инвалидами. Про судьбы выживших обычно говорят мало, о них предпочитают и вообще не вспоминать. Пятеро погибших были несовершеннолетними, самому младшему – пять лет, если не ошибаюсь. Второй теракт унес одиннадцать жизней, а ранены были восемьдесят восемь человек. Среди погибших пять несовершеннолетних, все – девочки, самым младшим по три года.
Речь шла о бойнях, устроенных ЭТА. Я хорошо помнил три самых жестоких теракта: в барселонском торговом центре “Гиперкор”, в казарме гражданской гвардии в городе Вике (кажется, так) и опять же в казарме – в Сарагосе. Не уверен, что могу назвать точные годы, поскольку в восьмидесятые и начале девяностых ЭТА поубивала столько народу, что невозможно не только быть точным, но и отличить один теракт от другого, за исключением самых громких. Таков один из зловещих результатов количественного фактора: чем чаще случаются некие отклонения от нормы или какие‐то гнусности, тем меньше они воспринимаются как отклонения от нормы и гнусности и тем труднее отличить одно преступление от другого. Именно повторяемость ведет к худшему из сломов восприятия – умаляет важность очень важных событий, именно поэтому верхи не спешат сообщать о числе погибших, о военных потерях, по крайней мере, пока они продолжаются и люди продолжают гибнуть. Порой те, кто развязывает войны, затягивают их без всякой необходимости по той же причине – чтобы избежать подсчета павших, за которых им придется держать ответ. И обе мои родины поступали точно так же, я себя не обманываю.
6
“Гимн обреченной юности” Уилфреда Оуэна (1893–1918), английского поэта, погибшего в последнем бою Первой мировой войны. Здесь и далее цитируется в переводе С. Сухарева.
7
Т. С. Элиот. Литтл Гиддинг. Здесь и далее Элиот цитируется в переводах А. Сергеева.
8
Кантаор – певец в стиле фламенко.
9
У. Шекспир. Макбет. Здесь и далее перевод Б. Пастернака.
10
Трансоксиана – историко-географический регион в Центральной (Средней) Азии на территории современного Узбекистана. Термин использовался с VIII в.
11
Педро Мехиа (1497–1551) – испанский писатель, речь идет о его сочинении “Жизнь Великого Тамерлана” (1550–1551).
12
Пататас бравас – кубики жареного картофеля под острым соусом.