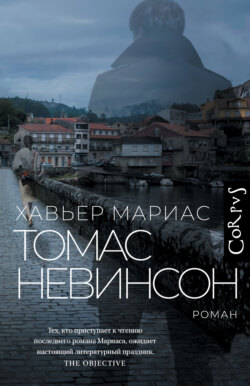Читать книгу Томас Невинсон - - Страница 5
IV
ОглавлениеТолько неделю спустя я поговорил с Бертой. И не потому, что чувствовал себя обязанным отчитываться перед ней, ведь нашу жизнь трудно было назвать совместной: мы встречались лишь время от времени, то есть встречи были нечастыми и вялыми, а с моей стороны, пожалуй, даже с налетом циничности. Я приходил и уходил, мы перезванивались, чтобы обсудить практические проблемы, связанные с деньгами или с нашими детьми, уже вполне самостоятельными, хотя и не достигшими совершеннолетия; иногда вдруг случались всплески страсти, но как‐то все реже и реже, да и само слово “всплеск” – не слишком удачный эвфемизм для подобных отношений. Я объяснял их какими‐нибудь ее личными неурядицами, разочарованиями или внезапным охлаждением к кому‐то другому: я был уверен, что у Берты есть любовник, а может, даже два попеременно. Она ничего мне не рассказывала, а я ничего не спрашивал, поскольку, как уже говорил, не чувствовал за собой такого права – это было бы вмешательством в ее личную жизнь и бестактностью, следовало ценить уже то, что она окончательно не отвергла меня и не отказывалась видеться со мной. Иногда я воображал, будто Берта терпит мое присутствие из чистого упрямства или из суеверной преданности прошлому, так как не желает бесповоротно предавать свою юность, а может, я был ей нужен в те дни, когда она чувствовала себя совсем одинокой и недовольной собой или начинала подозревать, что стареет и дурнеет (на мой взгляд, напрасно, ведь она была по‐прежнему привлекательной, но для недовольства собой каждый изобретает собственные мотивы): все мы постепенно учимся обходиться тем, что имеем под рукой и что удается сохранять по мере того, как иссякают прежние бесконечные возможности, а будущее перестает быть непостижимым и абстрактным, то есть стопкой чистых листов, и выглядит с каждым днем все более конкретным и тесным, или четче заданным, или четче прописанным, иными словами, с каждым днем постепенно превращается в прошлое и настоящее.
Именно это и заставило меня сказать Тупре “да”, отчасти это: соблазн написать новую главу, доказать, что я еще не закончил свою маленькую книгу, хотя вроде и решил, что там уже поставлена финальная точка. Но в первую очередь тут сказалось другое: даже если ты выдохся и захотел все бросить, если тоскуешь по спокойной жизни, какой никогда не знал (и по сути, это пустая фантазия, поскольку нельзя тосковать по неиспытанному, а твоя реальная жизнь была кипучей, опасной и фальшивой), тебе все равно будет невыносимо оказаться снаружи, если ты привык быть внутри и верил, что мог хотя бы иногда выдернуть волосок из шевелюры вселенной. Человек мечтает оказать влияние, пусть самое ничтожное, на происходящее вокруг и хотя бы на миллиметр изменить курс событий. А в данном случае речь шла о том, чтобы тот, кто живет в свое удовольствие, совершив гнусные преступления и вытравив их из своей памяти, заплатил за все, хотя уже уверился в собственной безнаказанности.
Итак, дома я внимательно рассмотрел все три фотографии и ждал нетерпеливого звонка Тупры, действительно нетерпеливого. Звонок раздался на следующее утро, и мы быстро договорились встретиться в тот же день, 7 января, чтобы за легким обедом обсудить задание с его другом или коллегой Хорхе (думаю, они еще раньше обо всем условились): тот введет меня в курс дела и вручит фальшивые документы, которые, к моему удивлению, уже были изготовлены, что свидетельствовало об уверенности Тупры в моем согласии и что меня несколько обескуражило. Пожалуй, мне после отставки следовало перемениться сильнее, стать более непостижимым и непредсказуемым. Правда, Хорхе – или Джордж – сразу же заявил, что они готовы дать мне любую другую личность, новую профессию и новое имя, если те, что они уже выбрали, я почему‐то сочту неудачными.
Это был мужчина лет пятидесяти, обликом напоминавший скорее испанского карьерного дипломата, чем штатного или полуофициального сотрудника спецслужб, хотя в нашем облике нет каких‐либо особых отличительных черт, по которым нас можно было бы легко узнать, и который мы, надо заметить, постоянно меняем. Хорхе был слишком тщательно одет и, судя по всему, одевался так всегда: его двубортный костюм из первоклассного сукна и длинное пальто из верблюжьей шерсти сразу вызвали у меня раздражение, так как заставили вспомнить расплодившихся во времена диктатуры пижонов, которые вели себя весьма вольно, как хозяева жизни – и действительно ими были, – и которых я, разумеется, презирал. Мало того, он носил перламутровые запонки, а в галстуке – булавку с чьим‐то портретом на эмали, вещи совершенно неуместные в девяностые годы. Слава богу, что обошелся без бриллиантина (иначе я бежал бы оттуда со всех ног) и волосы зачесывал назад с тонким пробором справа – красиво посеребренные волосы, чуть поблескивающие, такой цвет часто используют на обложках детских сказок. Черты лица у него были очень правильные, хотя нос слегка великоват, а губы тоньше, чем ему бы наверняка хотелось, поскольку держался он не без кокетства. Живые глаза мускатного цвета были настолько узкие, что порой стоило труда поймать их взгляд и казалось, будто он никогда не смотрит на собеседника прямо, а пытается сразу охватить слишком большое пространство. Единственное, что мало соответствовало облику посла или консула, были усы, более темные, чем шевелюра, не редкие и не густые, без острых концов, которые выглядели весьма скромно на фоне всего остального, на почти сенаторской или патрицианской физиономии. Как и полагалось человеку благородных кровей (действительно благородных или согласно взятой на себя роли), он при знакомстве назвал свои полные имя и фамилию – Хорхе Мачимбаррена, однако фамилия показалась мне выдуманной или у кого‐то позаимствованной. Те имя и фамилию, которые он предлагал взять мне, я увидел в водительских правах и паспорте, где пока еще не хватало фотографии. Он протянул мне их с довольным видом, явно гордясь результатом.
– Мигель Центурион Агилера? Центурион? Не слишком ли эксцентрично? – удивился я. – Никогда не знал ни одного человека с такой фамилией.
Затем я объяснил Тупре – на случай, если он забыл, – что в Испании из двух фамилий главная – первая, под ней человека чаще всего и знают, а вторая, фамилия матери, как правило, используется лишь в официальных случаях. По крайней мере, так было до самого недавнего времени.
– Если слово “центурион” означает то же самое, что и по‐английски, – высказал свое мнение Тупра, – то в Англии такая фамилия невозможна и более чем неправдоподобна.
Из уважения к нему мы беседовали по‐английски. У Мачимбаррены английский был беглым, хотя он делал ошибки и говорил с безнадежным акцентом. Однако понять его было можно.
– Должен заметить, что в Испании такая фамилия встречается нечасто, но все же встречается. В Мадриде можно найти аж шесть или семь Центурионов, – тотчас возразил он. – А нам ведь главное, чтобы она сразу запоминалась. От скучных фамилий толку мало, и на самом деле они вызывают больше подозрений, хотя в данном случае нам нужно, чтобы вообще никаких подозрений не возникало. Редкие фамилии, они правдоподобнее, и я, например, знал одного Гомеса Антигуэдада[17]… Как вам такое? Он был управляющим в крупном отеле. Такую уж точно не выдумаешь! Вспомните, сколько литераторов отказались от фамилий Мартинес, Фернандес и Перес, чтобы стать Асорином, Кларином, Фигаро или даже Саватером.
Я не стал объяснять ему, что Кларин и Фигаро – всего лишь псевдонимы, и взяли их себе люди, носившие довольно редкие фамилии – Алас и Ларра. Понятно, что он, как и многие дипломаты, не слишком разбирался в писательских биографиях.
– Люди быстрее привыкают к самым необычным фамилиям и лучше с ними справляются. Центурион – запоминается сразу и будит любопытство, поскольку интересно узнать ее происхождение; таким образом легко завязать разговор, не придумывая повода и не жужжа пчелкой. Вам ведь предстоит втереться в доверие к женщинам, не забывайте этого. – Он на миг зацепил меня своим плавающим взглядом. – Но если Центурион вам не нравится, мы придумаем что‐нибудь другое. Хотите стать Гарсиа Гарсиа?
В его тоне я уловил насмешку. И решил, что он и вправду пижон и, возможно, именно того сорта, какими они были во времена Франко. А выражения “жужжать пчелкой” я, пожалуй, не слыхал с семидесятых годов. Мне стало интересно, на кого он на самом деле работает. Скорее всего, на CESID, официально или нет – не важно, то есть на Министерство обороны, а там оставалось много убежденных франкистов, хотя теперь они стали завзятыми демократами – все очень быстро переобулись, как ни в чем не бывало и без проблем с совестью. Но могло быть и так, что люди, тоскующие по старому режиму, спланировали некую операцию самостоятельно – возможно, при поддержке радикалов, крайне правых либо крайне левых, а такие встречались повсюду.
Но коль скоро я уже дал свое согласие, меня это не касалось. Задание я получил от Тупры, как и любые в прошлые времена, так что связь буду держать либо с ним самим, либо с его курьером, с каким‐нибудь новым Молинью. Правда, на сей раз приказы изначально шли не от его начальства, но разве мог я с уверенностью сказать, что и прежде они всегда спускались сверху? Короче, спорить тут было не о чем. Мне поручили разоблачить убийцу и передать ее, если удастся, судьям. Во всяком случае, так я тогда полагал.
– Нет, нет, не беспокойтесь. Если вы видите у такой фамилии какие‐то преимущества, я возражать не стану. Буду Центурионом до новых распоряжений. Если честно, я от нее просто в восторге.
– Вот видите? – обрадовался Мачимбаррена. – Вы и сами мгновенно к ней привыкли и оценили по достоинству.
– А фотографии? На документах нет моих фотографий, а у Берти наверняка сохранились прежние. Двух- или трехлетней давности, но, думаю, они подойдут. Вряд ли я так уж постарел.
Мачимбаррена и Тупра разом на меня уставились и стали рассматривать, словно редкое насекомое. Но первый не мог судить о том, насколько я постарел, зато второй – еще как мог, и мне не хотелось, чтобы он начал сравнивать меня сегодняшнего с тем юнцом, которого впервые увидел в книжном магазине лет двести назад и с которым у меня, разумеется, ничего общего не осталось. Сам Тупра изменился бесконечно меньше. К тому же он был позером и тщательно следил за собой.
– Когда будет решено, как именно должен выглядеть Мигель Центурион и вы войдете в роль, мы сделаем фотографии и приклеим куда нужно. А пока это не имеет смысла, – ответил Мачимбаррена. – Подумайте, каким бы вам хотелось стать. Блондином, брюнетом или седым? Бородатым или бритым, с усами, с волосами подлиннее или покороче, с пробором или без? С пробором мужчина выглядит более ухоженным, более элегантным. – И он без тени скромности указал на свой собственный. – Хотя на бороду у нас времени не осталось, надо ведь поскорее приступить к делу. Если очень захочется, отпустите потом, уже на месте. И вообще, все, что касается внешнего вида, решать будете вы, вам с ним жить, кроме того, у вас большой опыт в таких вопросах, как рассказал мне Бертрам. Но будет одно условие: выглядеть вы должны как можно привлекательнее. Иногда единственный способ обвести вокруг пальца женщину – соблазнить ее. То есть влюбить в себя – или назовите это как вам больше нравится. В постели… – Под конец он перешел на испанский, словно нуждался в помощи родного языка, чтобы выразиться не слишком пристойно: – Вставите ей, отхерачите, трахнете разок – или раз двадцать пять. Во все дырки…
Я перебил его, пока он совсем не разошелся. Как и у многих снобов, под его безупречными манерами таилась беспросветная вульгарность.
– Хватит, притормозите, я вас прекрасно понял. Правда, я не хотел бы идти таким путем с самого начала. Часто это лишь усложняет задачу, путает карты, делает ситуацию вязкой. Есть ведь и другие способы. И не забывайте: Бертрам не знает испанского.
– Да, конечно, прости, Бертрам. Когда рядом сидит соотечественник, невольно соскальзываешь на родной язык, – извинился он по‐английски. – Я сказал Невинсону, что ему, возможно, придется трахнуть одну из них.
– Ну с этим он сам разберется, – ответил Тупра. – В свое время у него такие вещи неплохо получались. Когда он был в активе.
– А сейчас он говорит, что есть и другие способы и он их якобы предпочитает. Какие другие, Невинсон? Я, например, другие не очень‐то вижу.
Я не стал отвечать. Если иные варианты ему в голову не приходят, значит, объяснения не помогут.
– Хорошо, постараюсь стать красавчиком, – поспешил я закрыть эту тему. – Хотя возраст накладывает свои ограничения. Раньше‐то все было иначе… Правда, Берти?
Оба опять принялись рассматривать меня так пристально, что я даже смутился. Они старались оценить, насколько соблазнительным я смогу показаться тем женщинам, и будто видели меня не вживую, а на экране. Но я позволил им насмотреться вдоволь.
– По-моему, вполне себе ничего, черты лица правильные, – заключил Мачимбаррена. – Он ведь моложе меня, а я пока не имею повода для жалоб, у меня с этим все обстоит просто волшебно. На днях, скажем, я встречался с одной актрисой, рассказать бы вам… – Но мы не стали требовать подробностей, и он, к счастью, намек понял. – Однако наш Центурион будет выглядеть гораздо лучше, если над ним немного поработать. Я могу прислать к нему Зигфрида.
– Зигфрида? – испугался я.
– Это мой личный парикмахер, и он знает толк в мужском макияже. Не бойтесь, он из Кордовы, из Пособланко, то есть не немец и не вагнерианец, ничего подобного.
– Не знаю, – пробормотал Тупра, продолжая меня разглядывать. – Пожалуй, надо подкрасить волосы на висках и чуть выше. Где седина хорошо заметна, и это тебя старит. Только не крась все в один цвет, лучше смешать оттенки. С верхней частью проблем нет, там седины не видно. Залысины делают тебя интересным и даже внушают доверие, женщинам нравится широкий чистый лоб, здесь мы ничего трогать не будем, а лысина пока даже не наметилась. Но бороду лучше не отпускай, наверняка будет седой, незачем прибавлять себе лишние годы. Это я так, на всякий случай, как говорит Джордж.
– То есть я должен покрасить виски? Как ты? Ты ведь уже лет сто красишь свои завитки? Ладно, попижоню и я тоже…
Тупре мое замечание, хоть и прозвучавшее шутливо и беззлобно, явно не понравилось; думаю, он полагал, что его пышная кудрявая шевелюра выглядит совершенно натуральной. И он бросил на меня строгий взгляд, а потом небрежно махнул рукой, словно говоря: “Какая глупость, это ты только из зависти”.
Но я добавил:
– Вообще‐то, не думаю, что мне надо всерьез менять внешность. Я ведь никогда не работал в Испании, а значит, нет риска, что здесь меня кто‐то может узнать.
Однако Тупра тотчас покачал из стороны в сторону указательным пальцем, что означало: “Вот тут ты промахнулся, парень”. Или: “Эх, Том, ты и вправду потерял важные навыки, до чего же ты докатился”.
– Не забывай, о чем я тебе говорил. Женщина, которую мы ищем, наполовину ирландка, хотя здесь прожила всю жизнь – или большую часть жизни, – но и в Ирландии бывала часто. Там ситуация хотя и медленно, но выравнивается, во всяком случае надежда есть, в отличие от того, что происходит у вас в Стране Басков. Но пока все очень шатко, подождем, посмотрим. Если не считать омерзительных евангелистов и пресвитерианцев из DUP и ослов из PUP, люди хотят все это притормозить, даже до принятия окончательного решения. – Он имел в виду две юнионистских партии: Демократическую юнионистскую партию и Прогрессивную юнионистскую партию, первая была до идиотизма правой, а вторая – до идиотизма левой. – Три тысячи четыреста погибших – слишком много для такой маленькой территории. А сколько на счету у вашей ЭТА?
– Четверть от названного тобой числа, даже меньше, – ответил Мачимбаррена. – Но имей в виду: здесь у нас убивали представителей только одного лагеря, убивали тех, кто послушно подставлял свою шею, не решаясь отвечать по принципу око за око, и кто даже не помышлял о мести, что выглядит просто дико, если все как следует взвесить. А там оба лагеря стреляли друг в друга, к тому же свой вклад внесла и армия. А это потери не просто удваивает, а увеличивает многократно.
– Да, у нас убивают представители только одного лагеря, если не забыть некоторые исключения, – вставил я, имея в виду действия GAL в восьмидесятые годы.
– Очень редкие исключения, очень редкие, раз уж мы начали сравнивать, – возразил Хорхе, который вполне мог участвовать в тех событиях.
Однако он был отчасти прав. Преступления ЭТА совершались на протяжении тридцати лет, то есть примерно в те же годы, когда имели место кровавые противостояния в Ольстере. Члены ЭТА были амнистированы с приходом демократии – независимо от того, была на их руках кровь или нет; и они отблагодарили тем, что стали сражаться еще беспощаднее, но уже с демократией, возненавидев ее больше, чем диктатуру, и без оглядки сеяли смерть.
– Думаю, именно по этой причине, – продолжил Турпа, – никто не захочет ставить под угрозу переговоры или консультации, убив кого‐то из наших. А ты – один из наших, Том. И не только потому, что снова переходишь в актив. Мы ведь продолжаем поддерживать твою семью. Твои семьи, вернее сказать, но тебе лучше знать, на что ты тратишь собственное жалованье.
Такое напоминание мне отнюдь не понравилось. Я ведь уже дал свое согласие, и незачем было угрожать, что они лишат меня материальной поддержки. Видно, Тупра боялся, как бы я не передумал и не улизнул, еще не начав действовать, либо потом, уже с полпути. Когда мы с ним встретились в последний раз в Лондоне перед моим отъездом, он предупредил: “Мы никогда не бросаем тех, кто защищал Королевство, будь уверен. Зато отворачиваемся от любого, кто ведет себя неправильно и распускает язык, кто болтает о том, о чем болтать не следует. Запомни это, если не хочешь потерять финансовую помощь. К тому же за такие вещи можно и под суд пойти”.
А я никогда не болтал лишнего, даже Берте ничего не рассказывал, отлично помня, что до конца жизни связан Законом о государственной тайне, принятым в 1911 году и отчасти измененным в 1989‐м. Но я часто спрашивал себя: а вдруг это не было пустой угрозой и существуют более строгие требования, вдруг я обязан выполнять любые их задания, а иначе меня накажут, или я останусь на мели в возрасте, когда уже мало на что буду пригоден? А вдруг от них и вправду нельзя уйти? Единственный выход – перестать быть им полезным и нужным. И ведь я уже поверил, что добился этого, но теперь меня снова призывают в те же ряды, хотя и какими‐то скользкими путями.
– Но в Ольстере, – продолжал Тупра, – наверняка найдутся выпущенные на свободу типы, которые повесили твою фотографию на стену в качестве мишени для метания дротиков, и такие фотографии обычно ходят по рукам. Конечно, не сейчас, когда почти никто про тебя не вспоминает, а если кто и вспомнит, то считая умершим, но раньше они по рукам ходили. Трудно – и даже немыслимо – заподозрить, чтобы та женщина знала тебя в лицо, и все же лучше подстраховаться, поскольку нельзя угадать, кто и когда мог тебя сфотографировать. Или какой‐нибудь ловкач сумел нарисовать твой портрет. У нас нет достоверного описания этой женщины, ей всегда удавалось оставаться в тени. Вернее, есть одна свежая фотография – я отдал ее тебе вчера вместе с двумя другими, но нет ни одной старой. Где‐то ее снимок должен быть, как, скажем, и твой, как и любого из нас. Но нам он, к сожалению, так и не попался. К тому же она, разумеется, уже тысячу раз изменила свою внешность. И тут за дело возьмешься ты, и дело это не из легких. Она ведь не привыкла миндальничать. Если что заподозрит, запросто может тебя и убить.
Он покончил со своим десертом – “беконом с небес”[18] и закурил (тогда в ресторанах еще имелись зоны для курящих, поскольку не закончился сравнительно цивилизованный XX век).
– Я не говорю, что ты должен нацепить какой‐нибудь дурацкий парик или изображать из себя крестьянина, но и появляться там в твоем обычном виде не стоит. Особенно каким ты был до своей мнимой смерти и каким тебя могли запомнить те, кто не забывает обид. Только не старайся слишком омолаживаться. – Ему вдруг с запозданием показалась смешной шутка, которую я отпустил раньше, во всяком случае, он добавил с милой улыбкой: – Достаточно будет, если ты поучишься у меня пижонству – я ведь тоже еще могу кое‐чему научить. И я неплохой учитель. Правда, иногда против собственной воли.
Я не обманывал Мачимбаррену, когда в начале разговора заявил, что не собираюсь никого соблазнять, то есть не намерен затаскивать в постель ни одну из трех женщин, даже если какая‐нибудь полезет туда сама. Да это было бы уже и не так просто, по крайней мере для меня было бы теперь не так просто “отхерачить кого‐то”, пользуясь еще одним выражением пижона Хорхе. После ухода в отставку я, вне всякого сомнения, отчасти потерял нужную форму, но главная причина крылась в другом: при одной только мысли о подобной авантюре на меня накатывала жуткая лень. Назначать свидания, стараться выглядеть более или менее привлекательным, наряжаться, куда‐то идти и о чем‐то неспешно беседовать, исподволь – взаимно – втираться друг к другу в доверие, изображать интерес к жизни и мнениям чужой и неинтересной тебе женщины, терпеливо ее выслушивать и стараться запомнить услышанное – что тоже является одной из форм лести; быть галантным, не становясь смешным, вести атаку, не выглядя похотливым, не быть искательным, липким, напористым, правильно оценивать реакцию дамы на вроде бы случайные и естественные прикосновения, когда ты по‐дружески кладешь ей руку на плечо, заботливо обнимаешь за талию при переходе через улицу, слишком близко придвигаешь свое бедро в кинотеатре, или на концерте, или в такси… – обо всем этом мне было муторно даже думать. Не говоря уж о неизбежных поцелуях, тисканье и попытках залезть под юбку (это, разумеется, если юбка будет удобной и облегчающей такую задачу), расстегнуть молнию и пуговицы. Не говоря уж о жарком дыхании, пожирающих взглядах и раздевании – или хотя бы полураздевании – и слиянии с другим телом, чтобы доставить ему удовольствие, изображая при этом страсть, какой ее рисуют в перегретых страстью романах, либо изображая отчаяние и жгучее нетерпение, какими их показывают в самых глупых и лживых фильмах. Не говоря уж о перспективе остаться ночевать в чужой спальне или утром обнаружить даму в своей собственной, а потом завтракать в малоприятной компании, когда ночной угар уже кажется ошибкой, умопомрачением и испарился без следа, – по крайней мере, именно так чаще всего воспринимается подобное приключение в моем возрасте. К сожалению, мои сексуальные потребности снизились после того, как я вернулся в Мадрид, словно отход от активной службы расхолодил меня и в других сферах, иногда весьма неожиданных. Мне хватало эпизодических встреч с Бертой, а в те периоды, когда они прекращались, или почти прекращались, по более чем вероятной причине ее увлечения кем‐то другим, я навещал одну английскую девушку из посольства, точнее, мою подчиненную (она начала там работать незадолго до моего возвращения), которая сразу стала поглядывать на меня благосклонно, с нескрываемым любопытством и почему‐то покровительственно, хотя я был примерно вдвое старше ее. Любопытство, как я подозревал, объяснялось тем, что она была в курсе моей биографии, или до нее дошли какие‐то слухи, или ей казалась очень соблазнительной возможность внести в список своих побед самого настоящего шпиона. К тому же она принадлежала к числу молодых женщин, которые рады любому случаю подбодрить несчастных, направить на верный путь растерянных и утешить страждущих, а я, должно быть, воплощал в ее глазах все три названных типа, пока привыкал к жизни в пустоте.
Звали ее Патриция Перес Нуикс, она была дочерью испанца и англичанки и, как мне помнится, внучкой некоего загадочного эмигранта времен гражданской войны, который оказался в Англии вместе с более знаменитыми соотечественниками – такими как Бареа, Чавес Ногалес и, возможно, Сернуда[19]. Она тоже была билингв, но выросла в Лондоне и поэтому считала себя больше британкой, а в Испании провела всего три лета – то есть по сравнению со мной у нее все сложилось с точностью до наоборот. Карие глаза, быстрый и живой взгляд, искренний, легкий и заразительный смех, хотя ее веселость не была глубокой и стойкой. Пат хорошо знала, чего хотела, несмотря на крайнюю молодость (ее приняли на работу в посольство, едва она получила диплом, оценив очевидные способности). Решив закрутить со мной роман, она сразу и довольно беззастенчиво взяла инициативу в свои руки, а потом изо всех сил старалась не дать нашим отношениям сойти на нет. Хотя об их стабильности можно было говорить весьма условно, поскольку у нее была куча приятелей среди соотечественников, и, как ни абсурдно это прозвучит, во мне она видела некий неожиданный и занятный трофей (он доставался ей раз в месяц или раз в два месяца, не чаще), напоминавший о временах, которые казались ей героическими, то есть о временах холодной войны.
То, что для Пат та эпоха была почти легендарной, заставляло меня чувствовать себя динозавром, хотя холодная война завершилась совсем недавно и на нее, по сути, пришлась солидная часть моей жизни. Но, слушая Пат, я словно становился свидетелем превращения этой моей жизни в историю и древность, а когда такое происходит, мы с горечью задумываемся о смысле всего нами сделанного и подчас приходим к заключению, что мало что изменилось бы, если бы мы и пальцем не шевельнули, вообще не существовали на свете и не замарали своих рук.
Встречались мы всегда в ее квартире на улице Понсано, и она относилась ко мне со смесью теплоты и снисходительности (которую самоуверенная молодость часто испытывает к старшим), а также не скрывала горячего любопытства к мифам о былых временах, которое я не имел права утолить. Поэтому ей приходилось строить догадки, опираясь на сведения, почерпнутые из книг, а мои похождения просто выдумывать, как поступала на протяжении многих лет и несчастная Берта, только вот для нее в этом никогда не было даже намека на легковесность, или игру, или подражание военным байкам, в которых больше умалчивается, чем рассказывается.
Пат принадлежала к поколению акселератов и прагматиков, не знающих моральных дилемм, они не противятся своим желаниям в личном плане, зато четко выполняют служебные обязанности и не задумываются о цене царящих в мире порядков. Природная отзывчивость не мешала ей быть жесткой на службе, а ведь именно служащими были мы с ней, Тупра и премьер-министр, как не мешала быть беспощадной к тем, кто, с точки зрения ее начальства, вредил или угрожал Королевству, а одним из кураторов Пат был Тупра, как я очень быстро понял, хотя и не без удивления. Так что отношения со мной не были для нее чреваты ни проблемами, ни сомнениями и вряд ли могли оставить по себе память в душе. Иначе говоря, с этой девушкой никаких затруднений у меня не возникало.
Я еще не получил всей необходимой информации – полные донесения и отчеты мне должны были передать накануне отъезда, – но уже успел узнать от Мачимбаррены и Тупры, что две женщины из трех были замужем, а третья, возможно, была разведенной или вдовой – о ней в городе вообще мало что знали, поскольку она держалась замкнуто и редким знакомым о себе почти ничего не рассказывала. Если мне все‐таки придется ступить на зыбучую почву флирта или голого секса, то соблазнение замужних женщин может натолкнуться на сопротивление (скорее умственное, нежели физическое, поскольку все физическое совершается самопроизвольно, а потом достаточно всего лишь принять душ и смыть следы). Поначалу они якобы не желают обманывать мужа и обустраивать в своей повседневной жизни уголок для нового человека, и это создало бы для меня дополнительные и утомительные препоны. Если, конечно, дамы не привыкли к изменам, если их брак уже не успел дать трещину и они только и ждут удобного случая, чтобы подложить под него маленькую бомбу и взорвать окончательно.
Оставалось надеяться, что ни одна не воспримет меня всерьез и не сочтет подходящим кандидатом на замену мужу. А на крайний случай я имел в запасе готовые рецепты: умел самым жестоким образом рассеять любые иллюзии, или исчезнуть без объяснений, или отдать любовницу в руки правосудия, а то и в руки боевых соратников, которых она предала, и последний вариант обычно бывал для нее самым худшим. Иногда я испытывал жалость к таким женщинам, но через жалость легко переступал, а что происходило с ними потом, меня не касалось и не было моей виной. Они сами сделали выбор, помогая тем, кому помогали, пряча тех, кого прятали, вступая в группировки, в которые вступали, и занимаясь тем, чем занимались, хотя часто их просто обманывали или зомбировали, как, впрочем, и многих легковерных мужчин. Та женщина, которую мне предстояло разоблачить, участвовала в страшных преступлениях, и ее, безусловно, следовало предать суду. А если не получится, она все равно должна понести наказание. Пусть она больше не опасна и перестроила свою жизнь – эту жизнь все равно следует у нее отнять, на всякий случай, а еще потому, что мы всегда ратуем за справедливость. И если не мы, то кто это сделает в нашем страдающем беспамятством мире?
Тупра был прав: мы не знали ненависти, зато мы были ходячим архивом и сводом досье: мы никогда не забывали того, что остальные устают помнить или стараются забыть, чтобы избавиться от неотвязной горечи. Не знаю, понял ли сам Тупра, что его слова в некоторой степени уподобляли нас Господу Богу (хотя нам, как и всем смертным, свойственны известные фатальные пределы), каким видели Его верующие люди на протяжении долгих веков веры – или легковерия, – то есть уподобляли Всевышнему, который все держит в памяти и хранит в своем пестром и лишенном текучести времени. В Его времени нет ничего ни нового, ни старого, ни древнего, ни недавнего. “Для нас десять лет назад – это вчера, даже сегодня”. Именно так должен воспринимать любые события Бог, который ныне вроде бы отжил свое, хотя и существовал на протяжении огромных периодов памятной всем истории. Поэтому Он ничего не прощает, да это от Него и не зависит, ведь в Его глазах ни одно преступление не перечеркивалось и не умалялось за давностью лет, ибо каждое продолжает совершаться и ныне тоже.
Но кроме того, была еще одна причина, заставившая меня вернуться в прежние ряды и согласиться на это задание: я не видел иного способа перестать размышлять о бесполезности сделанного мной в прошлом, кроме как продолжать делать то же самое, а оправдание для своей запутанной жизни находил, только когда запутывал ее еще больше. И хотя эта жизнь принесла мне столько страданий, смысл она обретала лишь тогда, когда я продолжал их испытывать, подпитывать и жаловаться на них. Точно так же преступный путь продолжают, совершая новые преступления; путь зла – творя зло, сначала робко и осторожно, то одному, то другому, а потом уже всем подряд, пока непострадавших не останется.
Террористические организации не могут свернуть борьбу по доброй воле – перед ними сразу разверзнется бездна, и, оглянувшись на все свое прошлое, они ужаснутся унизительному провалу, а значит, и напрасным жертвам, напрасным потерям. Серийный убийца продолжает начатую серию, потому что это единственный способ не оглядываться назад – на те дни, когда он еще не был ни в чем виноват и не носил позорного клейма, а также единственный способ увидеть в своих поступках некий смысл. Иначе придется, пожалуй, применить к себе жуткое признание леди Макбет, на что мало кто готов, поскольку для этого нужна великая сила духа, а она исчезла из нашего мира: “Конца нет жертвам, и они не впрок!” Или то же самое выразить иначе: “Мы совершали гнусности, однако не сумели извлечь из этого никакой пользы”.
Сотрудники спецслужб придерживаются схожих правил, но, естественно, применительно к иным обстоятельствам. Для меня после возвращения в Мадрид было невыносимо снова начать работать в посольстве, хотя я это скрывал и притворялся, будто все меня устраивает, будто я благодарен и доволен, как если бы в промежутке ничего не произошло, как если бы не было многолетнего отсутствия, одиночества и мнимой смерти – всего того, что я делал ради предотвращения бедствий, о которых никто не узнал, так как многие действительно удалось предотвратить – они не случились, а то, что не случилось, сразу растворяется подобно кораблю в тумане, откуда ему уже никогда не выплыть.
Но сам‐то я помнил все, что сделал ради безопасности тех самых граждан, которые ничего не желают про нас знать и смотрят в нашу сторону косо. Они догадываются, что мы существуем и должны действовать, оберегать их и спасать от всплесков дикости, от врагов, посягающих на Королевство, не считаясь с неизбежными жертвами. Но люди не желают вникать в наши методы, иначе им придется, пожалуй, их осудить и возмутиться, люди, разумеется, требуют гарантий безопасности, однако таких, чтобы самим не запачкаться, а ведь запачкать может даже осведомленность. Если мы терпим неудачу, нас винят в некомпетентности или халатности, если действуем успешно – в жестокости. Или называют убийцами, но это когда случайно либо по чьей‐то оплошности становится известно, что мы действовали успешно, ибо о наших победах лучше помалкивать. И тогда те же самые граждане начинают громко кричать, что следовало поступить гуманнее и мягче – с теми, кто, будь это в их власти, выстроил бы граждан в шеренгу и одному за другим рубил бы головы, а то и взорвал бы всех скопом.
Я совершал вещи неприглядные и даже мерзкие, с точки зрения тех, кого погубил; действовал лицемерно, выуживал информацию, втирался в доверие, чтобы потом доверившихся мне предать, губил принявших меня по‐дружески или даже одаривших мимолетной и безрассудной любовью; отправлял их на долгие годы за решетку или даже обрекал на смерть, а двоих я убил собственными руками. Но это если очень и очень условно подводить итоги. На войне нет места для сетований и причитаний.
Однако, стоит остановиться, как в памяти всплывают отдельные лица и разговоры, звон сдвинутых кружек, песни, улыбки, доверчивые взгляды, дружеские речи и похлопывания по плечу, а еще – ласки, которых ты не заслужил. А еще – обнаженное тело какой‐нибудь женщины, когда она, веря, что обнимает одного из своих – будущего героя, обнимала того, кто обречет ее на страдания. И со временем тебя все больше терзает вопрос: а насколько все это было необходимо – каждый твой поступок, каждое обещание, каждая хитрая уловка и каждая ложь; и тогда душу начинают подтачивать мучительные сомнения. Ты просыпаешься среди ночи в холодном поту, на тебя накатывает приступ раскаяния, ты путаешься в паутине прошлых грехов и, как ни стараешься, не можешь из нее выбраться. И прибегаешь к единственно действенному способу – вернуться к своему прежнему я, продолжать делать то же самое, совершать те же ошибки и сражаться с отдельными мелкими врагами, поскольку они и есть воплощение врага абстрактного, который уничтожит нас, если мы не опередим его или вовремя не покараем. Ты вдруг понимаешь, что если, сделав первый шаг, сразу же свернешь не туда, то обречен и дальше идти той же кривой дорожкой.
Именно Патриция Перес Нуикс, или Пат, или Нуикс (я называл ее по‐разному в зависимости от настроения, а также места и времени наших встреч), была поначалу назначена мне в качестве связной – как когда‐то Молинью – на срок моего нового изгнания в город на северо-западе Испании, чье название лучше не упоминать. В этом городе тоже была река, как и в английском, где я скрывался много лет, еще не чувствуя себя в отставке, поскольку надеялся со дня на день вернуться на прежнюю службу. Там я завел временную семью. Теперь хотелось верить, что в испанском городе ничего подобного со мной не случится: нельзя же бросать детей по всей Европе. На это задание, по прикидке Тупры, мне предстояло потратить несколько месяцев, однако я по опыту знал, что любая операция, как правило, затягивается, осложняется, запутывается и требует гораздо больших усилий, чем думалось поначалу; в действительности наши планы никогда нельзя выполнить без сучка и задоринки, всегда возникают шероховатости.
Как я понял, Патриция Перес Нуикс, несмотря на молодость, занимала более высокую должность, чем мне казалось, а может, пользовалась куда большим доверием у Тупры или у Мачимбаррены – трудно было разобраться, кому из двоих она подчинялась. Скорее Тупре, хотя именно второй снабжал меня всем необходимым in situ[20]. Видимо, речь шла о попытке прикрыть либо CESID, у которого в тот момент руки были связаны, либо кого‐то еще, кто стоял за этой просьбой об услуге; короче, требовалось снять любые подозрения с испанских властей, сильно запачканных скандалом и судебным процессом над GAL, хотя обвиняемые действовали еще при прежнем правительстве. Тогда его возглавлял Фелипе Гонсалес, и трудно было поверить в его полную неосведомленность. На самом деле подозрения требовалось снять с любого испанца – будь то полицейский, агент спецслужб, человек военный или гражданский. Если случится что‐то особо гнусное, виноваты будут англичане – к этому и сводился весь план. Или только один англичанин, который действовал по личной инициативе, некий мстительный и упрямый англичанин, имевший свои счеты к Северной Ирландии, то есть к ИРА. Таким англичанином и назначили меня. А вскоре мне сообщили, что не исключен даже самый грязный вариант решения вопроса, хотя, отправляясь на задание, я, честно говоря, уже не слишком обманывал себя.
– Если ты не получишь весомых доказательств ее участия в терактах восемьдесят седьмого года, – сказала мне Нуикс, – и не найдешь улик для ареста на законном основании, тогда… – Фразу она не закончила.
– Но ведь шансов добыть их почти нет, – перебил я Пат, – вряд ли она стала бы столько лет хранить хоть что‐нибудь, обличающее ее. Не полная же она идиотка. В лучшем случае мне удастся точно определить, какая из трех женщин нам нужна. И что тогда? Давай договаривай.
Нуикс все еще колебалась. Мы сидели в кафе на улице Микеланджело – такие вещи лучше было обсуждать вне стен посольства, поблизости от него, но и не слишком близко, а оно в те времена располагалось на углу улиц Фернандо-эль-Санто и Монте-Эскинса, в странном здании, построенном архитекторами Брайантом и Бланко-Солером, из которых первый был бруталистом, а второй рационалистом.
Смешно было предполагать, что Пат считала себя хотя бы в чем‐то выше меня, ведь одно дело – ее забавная опека в наших нестабильных интимных отношениях и совсем другое, когда она распространяла свое покровительство на вещи, в которых я был ветераном, а она новобранцем, едва делавшим первые шаги. Мало того, я успел обойти весь мир и теперь вернулся, вернее сказать, умер во время скитаний и был похоронен. Смешно было предполагать, что она деликатничала, боясь огорчить меня, если это можно так назвать. Будто в ее глазах я был слишком чувствительным и малодушным. Хотя, наверное, именно таким многие и видят отлученного от службы агента – им кажется, будто он, не выдержав непосильного напряжения, под конец превратился в существо хлипкое и трусливое.
– В таком случае… Тебе придется позаботиться, чтобы впредь она не была опасна, то есть не продолжала спокойно жить в этом городе. Чтобы впредь никому не могла причинить вреда. – Пат произнесла это медленно, осторожно, словно боясь меня спугнуть.
Но я отлично понял, что имелось в виду:
– Да? Придется? И каким же образом? Есть ведь лишь один надежный способ… Но я не верю, что речь идет о таком способе. – Мне хотелось заставить ее выразиться без обиняков.
– Да ладно тебе, ты прекрасно знаешь, какой способ я имею в виду… По словам Тупры, тебе он отлично знаком.
Я долго смотрел в живые карие глаза Пат: меня забавляла ее забота о моих чувствах, но больше встревожил неожиданный поворот дела. Не хотелось верить, что охота за той женщиной может закончиться таким образом. Кроме того, я уже не раз говорил, в каких традициях был воспитан.
– Так просто? Ты хочешь сказать, что мне придется ее убить, если я не добуду убедительных для суда доказательств? Убить женщину, которая, возможно, отказалась от террора, завела детей и уже давно ведет вполне тихую жизнь? Не слишком ли это суровое наказание?
И тут Пат осторожничать перестала и показала себя жестокой и безжалостной, хотя быть такой в молодости очень легко, поскольку молодые попросту не способны осмыслить все последствия своей жестокости и безжалостности. Вот почему фанатики обхаживают подростков и предпочитают вербовать именно их. Тупра никогда не был фанатиком, но в случае необходимости поступал точно так же.
– Нет, не слишком, достаточно вспомнить теракты, в которых она замешана. И выжившие наверняка ничего не забыли. Тот, кто потерял ногу или руку, тот, кто остался навсегда прикованным к инвалидной коляске, наверняка вспоминают об этом каждое утро, просыпаясь, и каждый вечер, ложась в постель. Скажи, в чем они виноваты? В том, что вышли из дому, или в том, что не вышли? Решение за них приняли другие, решение уничтожить их, выбрав цель наугад, словно речь шла о лотерее или броске костей. А погибшие? Они уже не способны ни помнить, ни забывать. Если подвести итог, то в двух терактах погибли тридцать два человека. Для них нет никакого “возможно”, для них всякое “возможно” закончилось десять лет назад, а некоторым детям этих десяти лет так и не исполнилось. О ком ты говоришь? Об исправившейся и раскаявшейся преступнице? О матери и примерной супруге, которая обожает своих деток и скрывает от бедного мужа собственное прошлое? Он ведь вряд ли знает, на ком женился. О женщине, которая живет себе как ни в чем не бывало, укрывшись под чужим именем? Но ведь если послушать твои аргументы, все выглядит еще хуже. Как можно спокойно жить, отняв жизнь у тридцати двух человек и покалечив еще кучу народа? Нет у нее такого права.
– Наверное, нет, – ответил я, – но есть право на справедливый суд. А если нужные доказательства не найдены и судить ее нельзя, что тогда? Мы сами будем ее судить – приговорим к смертной казни и приведем приговор в исполнение, так? Именно это наказание я назвал слишком суровым, Патриция. И как раз это называется государственным терроризмом, это ставит нас на одну доску с ними.
Теперь лицо Патриции отражало смесь недоверия и разочарования. Да, молодым ничего не стоит быть решительными и до дикости жестокими. Меня она, видимо, до сих пор считала человеком заматерелым и лишенным предрассудков, не сознавая, что предрассудки лишь множатся по мере накопления боевого опыта.
– И это говоришь ты? – возмутилась она. – Даже меня обучили тому, что порой надо опускаться до их уровня, если не остается другого средства, чтобы прекратить поток убийств. Да, не спорю, только в крайних случаях, но иногда – не остается. Тебе ведь довелось пройти и через такое, Том. А если скажешь, что нет, я не поверю. Кроме того, в эту историю ни одно государство не вмешивается.
Но я не был уверен, что прошел именно через такое, все‐таки не совсем через такое, однако сейчас не собирался раздумывать над тогдашними обстоятельствами. К тому же я не имел права разубеждать ее, описывая превратности собственной судьбы. Самое плохое я держу внутри и буду держать там до самой смерти, да и за порогом смерти – всю жизнь и много-много лет и веков спустя, даже став обычным покойником, одним из тех, кто ничего никогда не раскрывает и навечно остается непроницаемым…
Пожалуй, Тупра был прав: он знал меня лучше любого другого и был единственным, с кем я мог говорить откровенно. А вот теперь бывший шеф снова отдавал мне приказы, но уже через Нуикс. Правда, поостерегся лично сообщать самые неприятные детали задания, те, что могли заставить меня отказаться и продолжать вести растительное существование между улицей Лепанто и улицей Фернандо-эль-Санто, с частыми остановками на улице Павиа.
Кафе было набито битком, поскольку в такой час люди уже покидают свои постылые учреждения и офисы, но еще не спешат расходиться по домам. Вокруг нас сидело много народа, мне не хотелось, чтобы нас слышали, однако в зале стоял такой гомон, ни с чем не сравнимый испанский гомон, что вряд ли кто‐то уловил бы, о чем идет речь за соседним столиком.
– Хочу тебе напомнить, что для преступлений существуют сроки давности, – сказал я. – Хотя не знаю, почему считается, что десять лет – это еще маловато, а вот, скажем, двадцати будет уже вполне достаточно, не помню, сколько должно пройти здесь, в Испании, наверное, все зависит от тяжести содеянного, как и повсюду. Но закон о сроке давности за некоторыми исключениями распространяется и на террористов. Хотя какая разница – десять лет прошло или больше, если виновный стал совсем другим человеком и больше не опасен? И так ведь тоже случается, так тоже бывает. Какой смысл в том, что через девятнадцать лет и одиннадцать месяцев за преступление еще можно осудить по всей строгости закона, а тридцать дней спустя уже нет? Эти временные рамки – полный абсурд. Сегодня меня приговорят к тысяче лет тюрьмы, а завтра мне ничего не будет грозить, потому что просто не положено по закону… За мной вроде как и нет никакой вины, и не было никакого убийства – все перечеркнул один листок в календаре? То есть время превращает бывшее в небывшее? Такое правосудие нелепо, сама его идея абсурдна. Мы делаем вид, будто оно существует, и признаем его, хотя ничего подобного существовать не должно. Наверное, мы принимаем его бессмысленные нормы, поскольку надо на что‐то ссылаться, чтобы сохранить лицо. Не знаю. Если эта женщина уже десять лет ни в чем не участвует, залегла на дно и скрывается в том числе наверняка и от своих единомышленников… Возможно, их ненавидит, возможно, они ищут ее так же рьяно, как и вы, чтобы наказать за дезертирство, отступничество, слабость и бог весть за что еще. Но если она теперь уже не та, что прежде, если стала такой, какой слывет в своем провинциальном городе, мы что, все равно должны хладнокровно ликвидировать ее? Хотя и не прошел положенный срок, которого требует закон для погасительной давности в отношении подобных преступлений? Если, конечно, на преступления террористов распространяется закон о сроке давности…
– Никакого срока давности не должно существовать ни для каких преступлений, – ледяным тоном возразила Патриция Перес Нуикс.
Мы с ней никогда не разговаривали на такие темы, и теперь ее нетерпимость выглядела вызывающе – или ее категоричность. Она, вне всякого сомнения, была верной ученицей Тупры, и он лепил ее личность по своим меркам, однако в будущем эту крутость ей наверняка придется поумерить.
– Да, ты прав, это абсурд. Это неправильные законы, так что нечего о них и толковать. Разве преступление, отодвигаясь в далекое прошлое, перестает быть тяжким? Нет. Ты выразился точно: время ничего не перечеркивает, не должно перечеркивать – и точка. Даже смягчать оценку не должно. Как и раскаяние. До чего было бы просто: “Ах, я убил несколько детей, но ведь я и вправду глубоко раскаиваюсь”. Нет, про все эти глупости надо забыть, да и про идею прощения тоже. Для этого и существуем мы, раз правосудие бывает настолько снисходительным.
Теперь я смотрел на нее с изумлением и видел совсем в ином свете, а он Пат не украшал, во всяком случае на мой взгляд. Наши отношения я считал легкими и приятными, и мне она никогда не казалась жестокой, хотя неукоснительно исполняла свои служебные обязанности и была человеком безупречно ответственным. Но если говорить честно, случая узнать ее еще и с такой стороны мне до сих пор не подворачивалось. Даже Тупра не отрицал так однозначно возможность прощения, он всегда рассуждал более гибко – впрочем, это было скорее цинизмом, – а ей как раз гибкости и не хватало. Думаю, его метод был таким: сначала воспитать преданного делу и готового на все фанатика, а уж потом постепенно что‐то корректировать и шлифовать, подгоняя под обстоятельства. Но для Пат этап корректировки еще не наступил, она застряла на фазе крутого фанатизма.
17
От исп. Antigüedad – античность, древность.
18
“Бекон с небес” – испанский десерт, приготовленный на основе яичного желтка.
19
Артуро Бареа Огасон (1897–1957) – испанский писатель, журналист; Мануэль Чавес Ногалес (1897–1944) – испанский писатель и журналист; Луис Сернуда (1892–1963) – испанский поэт, эссеист, переводчик.
20
На месте (лат.).