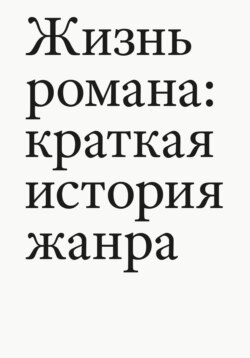Читать книгу Жизнь романа. Краткая история жанра - - Страница 7
Введение
Цель этой книги
ОглавлениеПодведем итоги. Ставка, которую сделал модернистский роман, – ставка, последствия которой до сих пор ощущает роман современный, заключалась в том, чтобы порвать с прошлым жанра и принять художественный идеал, основанный на культе формы и субъективности, – одним словом, стать литературой. Благодаря прагматической и привычной традиции романа риски такой ставки были снижены в силу негласной памяти о методах, которые ей предшествовали. Точно так же как эгалитарный идеализм XVIII века и социальный реализм XIX века продолжали находиться под влиянием негласной памяти о старых идеалистических романах, так и модернизм никогда не забывал уроков реалистического ремесла. Таким образом, прошлое романа продолжало влиять на его практику, но так, чтобы взаимодействие творческих мутаций и практических оснований ремесла всегда оставалось нераскрытым, а истинность этого влияния всегда была очевидной для всех заинтересованных участников.
Цель данной книги – вывести на свет это взаимодействие и эту истину. Предлагаемая мною история романа дистанцируется от волюнтаристской и избирательной памяти, которая в разное время служила полемическим потребностям новых течений. Напротив, я попытаюсь выделить привычный характер прошлого романа и подчеркнуть, что в основе сменяющих друг друга волн, которые отличают его развитие, лежат то подъемы, то отливы прошлого.
Какой метод использовался? Прежде всего, следует с осторожностью относиться к спискам гениев и шедевров. Фиксируя первое движение памяти, эти списки приводят имена героев и великих деяний, которые очевидны для того или иного человека, для того или иного течения. Пристрастные и мимолетные, списки тем не менее полезны тем, что в них зафиксированы поиски и даже изобретение предков, а также сменяющие друг друга предпочтения в обучении и памяти просвещенной публики. Кроме того, они содержат зачатки теоретического вопроса. Например, творческий гений, который они прославляют, проявляется попеременно то в виде исключения, то в виде показательного примера. Это чередование поднимает следующую проблему: какие произведения действительно имели значение в истории романа – те, которые получили известность благодаря своей исключительной новизне (как хотел бы нас убедить модернизм), или те, которые, наоборот, образцово воплотили в себе практику жанра в свое время?
Начало списка также имеет значение, поскольку ставит вопрос об инаугурационном моменте жанра, а значит, и о его происхождении. Произведение, выбранное для обозначения начал жанра, варьируется в зависимости от необходимости различных оснований, но в большинстве имеющихся списков смысл решения остается неизменным и подчеркивает, в соответствии с ретроактивными интересами современного романа, победу повествовательной правды над идеализирующей ложью. Среди названий, которые сторонники правдоподобия ставят у истоков романа, – плутовская повесть «Ласарильо с Тормеса» повествует о тяготах жизни, лишенной героизма и благородства, «Дон Кихот» откровенно высмеивает старые романические и идеалистические жанры и предвещает разочарование в мире, «Принцесса Клевская» выступает против великих романов барокко и основывает психологический реализм, «Молль Флендерс» и «Памела» описывают современного индивида, его морализаторские рассуждения и пристрастие к материальным благам. Критики, присуждающие пальму истины роману XIX века, вынуждены настаивать не столько на инаугурационном моменте социального реализма, сколько на его зрелости и совершенстве его достижений (романы Бальзака, Диккенса, Достоевского, Толстого), но они ни на минуту не сомневаются ни в глубоком разрыве, отделяющем современный роман от его античных, средневековых и барочных предшественников, ни в прогрессе, который представляет собой современный роман по сравнению с ними.
Историческое видение, имплицитно угадываемое в списках гениев и шедевров, в еще большей степени развивается в рамках того, что я назову естественной историей видов романа. Родившись во второй половине XIX века под влиянием позитивистской истории литературы и доминировавших в то время биологических моделей, естественная история романа ставит почти что исчерпывающее знание источников и текстов на службу четко сформулированным гипотезам относительно эволюции жанра. Ее исходным постулатом является то, что литературные жанры, подобно биологическим видам, развиваются и трансформируются друг в друга в процессе конкуренции, мутации и скрещивания. Так, Эдвин Роде, первый «естественный» историк античного романа, считал, что греческие романы возникли в результате скрещения позднего эпоса, путевых записок и биографии [11]. Он, несомненно, ошибался в своих атрибуциях, но тем не менее его рассуждения следовали плодотворной методологии, точки зрения которой я буду придерживаться при изучении соперничества и слияния повествовательных видов.
Большими достижениями естественной истории романа стали временной размах и родовое разнообразие. История французского романа Анри Куле дает обширный обзор и отличается богатством документации и точностью оценок, касающихся развития различных поджанров романа – рыцарского романа, героического романа в традиции Гелиодора, пасторального романа, плутовского, аналитического романа и т. д. [12] Каждый из этих поджанров стал также предметом ценных специальных исследований. Исторический размах этих работ тем более примечателен, что история литературы была и остается связанной узами деления на периоды, на «века», а в последнее время и на эпистемы, внутреннюю согласованность и взаимную несовместимость которых специалисты склонны преувеличивать. Забытая в палеонтологии, идея катаклизма, придуманная Жоффруа Сент-Илером, по-прежнему актуальна в истории литературы.
Естественные истории романа, как правило, избегают этого предвзятого отношения хотя, к сожалению, в большинстве случаев остаются в ловушке предубеждения против предмодерных романов, в частности против великих романов XVII века. К достоинствам этих историй следует отнести проницательность, с которой они апеллируют к внелитературным замечаниям: позитивизм, одинаково сурово осуждаемый социологами и эстетами, обладает огромной заслугой в создании правдоподобных исторических гипотез и их доказательстве. Не претендуя, конечно, на ученость, соперничающую с естественными историями, я попытаюсь подражать их интересу к долговременной истории.
Продолжая и углубляя результаты естественной истории видов романа, другой тип размышлений сосредоточился на истории романных техник; эта дисциплина, возникновение которой связано с формальными исследованиями, проводившимися искусствоведами в конце XIX и в начале XX века, несомненно, отчасти обязана своим престижем модернистскому интересу к форме. Один из наиболее известных примеров успеха такого рода рефлексии – эссе Михаила Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе» – заимствует широту исторического видения у естественной истории романа (в данном случае у Эдвина Роде) [13]. Заслуга Бахтина состоит в том, что он рассмотрел историю романных приемов в масштабе тысячелетий и пришел к выводу, что современным формам жанра предшествовала немалая предыстория, включающая не только повествовательную прозу до Рабле (произведения этого автора стали для Бахтина эпифанией романа Нового времени), но и биографические и философские сочинения, включая «Сравнительные жизнеописания» Плутарха и диалоги Платона. Опираясь на работы учеников Дильтея, от которого он унаследовал увлечение исторической морфологией культуры, Бахтин стремился определить формальные признаки, соответствующие различным этапам развития романа. Критик отмечает, например, что в эллинистическом романе (который он называет «романом испытания») действие происходит в абстрактном времени и пространстве, – лишенном определенных черт, – что характеры персонажей неизменны, а последовательность эпизодов не имеет внятной причинно-следственной мотивации. Формальная наивность этих черт, по мнению Бахтина, будет полностью преодолена только в реалистическом романе XIX века, единственном, которому удалось достоверно представить время и пространство во всём богатстве их конкретных детерминаций, психологического взросления персонажей и причинно-следственной последовательности эпизодов. Сразу видно, что описанная русским критиком последовательность техник устанавливает исторический разрыв между, с одной стороны, новейшим реалистическим романом, объектом которого является конкретная правда времени, пространства, причинности и человеческой психологии, и, с другой стороны, «предысторией» романа, пестрящей произведениями, наполненными жизненной силой, но абстрактными, неправдоподобными и потому несовершенными. Эта схема принимает историческую предвзятость новейшего романа и, порицая лживую изобретательность предмодерных романов, восторгается скрупулезной дотошностью реалистического изображения.
Поразительная точность бахтинских описаний, конечно, не зависит от того, какое ценностное суждение лежит в их основе. Недостатки теории Бахтина кроются в другом. Во-первых, при всей своей насыщенности и точности, его описание эллинистических романов остается слепым к интимной логике их повествовательной вселенной. В репрезентативных искусствах формы обычно несут в себе содержание, которое делает их понятными и актуальными; поэтому недостаточно отметить в эллинистическом романе абстракцию времени и пространства, психологическую ригидность персонажей и произвольность эпизодов, не задумываясь при этом о художественной целесообразности этих особенностей. Суждение о несовершенстве этих романов справедливо лишь в том случае, если можно показать, что данные формальные признаки плохо служат воплощению заключенной в них идеи. Однако Бахтин редко задается в ясных выражениях вопросом о том, какую мысль передают интересующие его формы.
Во-вторых, бахтинская история техники романа лишь вскользь касается причин, сделавших возможным подъем социального реализма, и не задается вопросом, почему в конце концов восхитительная конкретность и правда романов ХIХ века пришли на смену удручающей абстракции и неправдоподобию прошлого. Этот вопрос имеет определенную актуальность, поскольку если естественные истории романа остаются чувствительными к социальной и культурной среде литературы и часто высказывают внелитературные исторические объяснения, то история романных техник довольствуется, по крайней мере на первых порах, наблюдением за формальными особенностями произведений, изолируя их от социальных или когнитивных факторов, которые могли их породить. Такая изоляция, вполне оправданная в качестве временного варианта, в долгосрочной перспективе оказывается проблематичной. Формальная воля, проявляемая искусством, вполне может быть связана с неотъемлемой свободой человеческого духа, как с поразительной твердостью утверждали в XIX веке немецкие историки культуры; но не менее верно и то, что эта свобода не изобретает формы по своему усмотрению, вдали от обыденной жизни.
Для объяснения движения романных форм и полагая, что ему удастся избежать социологического редукционизма, столь распространенного в его время, Бахтин выдвинул гипотезу, которая была одновременно и социальной, и художественной. Он постулирует двойное существование феодальной идеологии, которая должна была свести к минимуму значимость пространственных и временных категорий, и противоположной ей антиидеологической и народной силы, выражающей себя в фольклоре, фарсе, пародии и сатире. На примере таких произведений, как «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и «Дон Кихот» Сервантеса, русский критик утверждает, что комическое завоевало роман, придав ему новую сатирическую и нетрадиционную направленность, что, в свою очередь, вело путями, детали которых еще предстоит установить, к появлению современного социалистического реализма.
К сожалению, эта гипотеза не развита во всех своих импликациях, и именно в сравнении с ее неясностью приобретает свое значение работа Йена Уотта о становлении английского романа. Основная работа Уотта The Rise of the Novel («Происхождение романа») является примером третьего способа рассмотрения развития жанра – весьма плодотворной социальной истории романа, которая изучает связи между повествовательной прозой и ее социальным и культурным окружением [14]. Уотт связывает приемы, используемые теми, кого он считает первыми английскими реалистами (Дефо и Ричардсон), с привычками чтения и статусом писателей в XVIII веке, а также с развитием индивидуализма и философского эмпиризма. По мнению Уотта, завоевание эмпирической истины в английском романе XVIII века не сводится к медленному развитию комических литературных жанров. Будучи частью более общего и в высшей степени серьезного движения, реалистический роман сопровождал тройной подъем – современной рыночной экономики, индивидуалистической этики и современной теории познания.
Уотт намеревается одновременно объяснить и тематический сдвиг, вызванный произведениями Дефо и Ричардсона, и то, как эти произведения реформируют технику отображения действительности. Что касается тематики Дефо, Уотт обращает особое внимание на повсеместные экономические мотивы, присущие этому автору, герои которого не перестают подсчитывать свои материальные приобретения, независимо от того, добыты ли они в одиночестве и честным трудом, как в «Робинзоне Крузо», или в обществе, притом самыми гнусными способами, как в «Молль Флендерс». Эта тематика перекликается с одновременным триумфом кальвинистской морали и экономическим индивидуализмом; она также сигнализирует о том, что отныне писатель, отлученный от своих прежних покровителей и подчиненный требованиям рынка, обязан говорить о вещах, которые интересуют их новую буржуазную и анонимную публику.
Что касается техники репрезентации, то Уотт отмечает, что в романах Дефо и Ричардсона голос неизменно принадлежит самим персонажам, причем эти персонажи в своих речах очень внимательны к деталям, как будто они обязаны вновь и вновь доказывать свою достоверность. Называя этот процесс «формальным реализмом», дабы отличать его от реализма в философском смысле, Уотт определяет, что цель этой техники заключается в том, чтобы выдавать «то, что происходит, за подлинный рассказ о реальном опыте людей» [15]. Формальный реализм, претендующий на приближение к чувственной точности индивидуального жизненного опыта, сближается с эмпиризмом Локка и, в более широком смысле, с эмпиризмом современной науки.
Теория Уотта убедительно доказывает, что инновации в технике романа находятся в тесной зависимости от эволюции социальной структуры (рыночная экономика, новый статус писателя и читателя) и от эволюции религиозной и интеллектуальной надстроек (кальвинизм, эмпиризм). Но именно потому, что эти взаимосвязи так ярко проявляются в случае Дефо и Ричардсона, а также потому, что силы социального и интеллектуального прогресса, соответствующие нововведениям обоих авторов, в конце концов одержали верх над противоборствующими силами, Уотт не удерживается от соблазна увидеть в реализме Дефо и Ричардсона единственный плодотворный путь в истории современного английского романа. Генри Филдинг же, автор, враждебный формальному реализму и большой критик его ричардсоновского воплощения, не внес, по мнению Уотта, «столь непосредственного вклада, как Ричардсон, в подъем романа» [16]. Здесь кроется главная опасность, грозящая даже самым точным социокультурным объяснениям художественного творчества, – опасность распространения на судьбу искусства истин, которые неоспоримы только в применении к судьбе общества или мысли. Формальный реализм может быть частью прогрессивного и победоносного созвездия, но его предполагаемый «ретроградный» соперник – иронический реализм Филдинга, непосредственно вдохновлявший творчество Джейн Остин, Стендаля и Теккерея, отголоски которого отчетливо слышны у Вальтера Скотта и Диккенса, на самом деле оказал не менее решающее влияние на подъем романа XIX века.
Я позаимствую из истории повествовательных техник ее заботу об искусстве романа, рассматриваемого в его формальной специфике, то есть в его собственном способе репрезентации мира. Однако, в отличие от Бахтина, я буду исходить из принципа, что выбор техники наглядно показывает организацию вымышленных вселенных, созданных в произведении, и поэтому я постараюсь в каждом случае связать формальные приемы с выражаемым ими содержанием. Что касается социальной истории романа, то, хотя я и учитываю связь между эволюцией жанра и судьбами общества, мои соображения останутся менее детальными, чем у Уотта и многих критиков и историков, которые в последние десятилетия провели важные исследования связей между романом и важными моментами политической, экономической и культурной жизни. Благодаря этим исследованиям мы сегодня имеем подробное представление о литературных последствиях географических открытий, колониальных империй, промышленной революции, изменений в структуре семьи, признания прав женщин и меньшинств, создания глобального рынка. Мой собственный проект, не отрицая важности этих знаний, преследует другую цель. Он заключается в том, чтобы понять эволюцию романа в долгосрочной перспективе, внутреннюю логику его становления и диалог, который его представители вели друг с другом на протяжении веков, а не настаивать на весьма показательных связях, которые этот жанр поддерживал с внелитературными явлениями в каждый момент своего существования. Я также убежден, что мой проект может быть полезен тем, кто изучает влияние социальных и интеллектуальных факторов на художественные явления, в данном случае на роман, поскольку это влияние было бы полезно связать с внутренней динамикой эволюции художественных явлений.
Ибо я убежден, что судьба социальных и интеллектуальных сил не воспроизводится как таковая в эволюции художественных форм, которые должны им соответствовать, а скорее эти силы способствуют обновлению искусства косвенным и, так сказать, окольным путем. Подобно тому как общая экологическая атмосфера региона, а не конкретный изгиб реки или конкретное солнечное затмение делает возможным развитие того или иного вида растений, но сама по себе не определяет его органическую форму, так и социальные и культурные факторы оказывают свое влияние на искусство через общий культурный климат, а не через череду разовых событий. Среди критиков, отстаивавших эту точку зрения на историю романа, наиболее известен Георг Лукач, чья ранняя работа «Теория романа» является одним из последних достижений того, что я буду называть спекулятивной историей романа [17]. Этот четвертый тип исторической рефлексии отличается не столько исчерпывающей полнотой обзора – прерогативой естественной и социальной истории романа – и не столько пониманием форм – областью истории техники, – сколько вниманием к внутреннему созреванию жанра.
Лукач, как хороший ученик Гегеля, постулирует, что динамика этого созревания неуловима при простом рассмотрении массы фактически созданных произведений и не идентифицируется только формальными и тематическими новациями, но воплощает движение концепта, внутренняя напряженность которого порождает видимую историю романа. По мнению Лукача, концепт, лежащий в основе эпического жанра, ядро его специфики следует искать не в плане стиля и формальных приемов, а в изобретении; он заключен в фиктивной репрезентации отношений между индивидом и миром. Главное внутреннее напряжение, разделяющее это ядро, противопоставляет величие индивида и величие мира (здесь слышны отголоски и аристотелевской поэтики, и гегелевского прочтения античной трагедии): когда окружающий мир – общая цивилизация эпохи в терминологии Лукача – единодушно воспринимается как хорошо интегрированный, доминирующим эпическим жанром становится эпос.
Роман занимает место эпоса в те времена, когда мир становится проблематичным, его смысл перестает быть очевидным. По мнению молодого Лукача, роман описывает ситуацию человека, живущего в мире, но не населяющего его в полном смысле этого слова. В романе вселенная, рассматриваемая сама по себе, несовершенна, и в конечном счете герой отвечает на это несовершенство смирением. Таким образом, жизнь героя романа не вписывается без остатка в окружающий мир; она имеет смысл только по отношению к тому идеальному миру, к которому стремится протагонист, но единственная реальность этого идеального мира – та, которую придает ему индивидуальный опыт героя. Персонажи, идеал которых не соответствует реальности мира, называются «проблемными героями». В этом общем описании можно узнать сюжет «Дон Кихота» (где идеал странствующего рыцарства существует только в безумном сознании главного героя), а также многих романтических повествований – «Вильгельма Мейстера» Гёте, «Гипериона» Гёльдерлина, даже «Евгении Гранде» Бальзака.
В модели Лукача диалектика проблемного героя развивается в три этапа, каждый из которых порождает свой тип конфликта в романе. Когда идеальный мир, воплощающий устремления героя, оказывается более узким, чем реальный, а вдобавок герой не в состоянии осознать дистанцию между ними, в результате получается абстрактный идеализм. В романах, заимствующих такую формы (в первую очередь в «Дон Кихоте»), герой не понимает причины своих неизбежных неудач, поскольку узость его поля зрения не позволяет ему воспринимать реальность конкретного мира. Если же идеал героя, напротив, шире, чем реальный мир, то результатом становится романтическое разочарование. В данном случае герой прекрасно осознает дистанцию, отделяющую его идеал от окружающего мира, но у него нет ни сил, ни средств преодолеть это расстояние. Обломов, герой Гончарова, который изо дня в день валяется на кровати, мечтая и не решаясь на поступок, олицетворяет второй момент диалектики романа. В третьем, заключительном, моменте проблемный герой, руководствуясь своим идеалом, примиряется с конкретной социальной действительностью: примерами такого рода могут служить «Вильгельм Мейстер» и в более общем плане Bildungsroman (роман воспитания).
Интерес эссе Лукача заключается в его стремлении закрепить размышление о романе в единстве концепта, прежде чем противопоставить его множественности эмпирического. Руководствуясь требованиями этого единства, Лукач убедительно решает вопрос о соотношении общества и культурных жанров, приписывая окружающей цивилизации роль создателя исходных условий для подъема романного жанра, но оставляя за самим жанром задачу развития его внутренних возможностей, рост которых не зависит непосредственно от капризов социальной жизни. История, которую он рассказывает, – это история автономного культурного жанра, а не эпифеномена коммерческих и интеллектуальных движений. Наконец, венгерский критик смело выдвигает авантюрные абстрактные категории, примеры которых, зачастую неожиданные, не очень легко подчиняются привычной хронологии. Три произведения, призванные проиллюстрировать диалектику жанра, – «Дон Кихот», «Обломов» и «Вильгельм Мейстер» – образуют своеобразную и провокационную историческую последовательность.
Но столь же поразительны и недоработки полученной системы. Отметим самый очевидный недостаток: диалектика проблемного героя, весьма актуальная для романа начала XIX века, сама по себе никак не может пролить свет на обширную продукцию, как предшествовавшую, так и последующую. Почти полное отсутствие примеров, предшествующих «Вильгельму Мейстеру» (ибо, надо сказать, чисто романтический «Дон Кихот» Лукача имеет лишь смутное сходство с романом Сервантеса), столь же симптоматично, как и трудности критика с включением в свою схему большого реализма конца XIX века, особенно творчества Толстого. Ни абстрактный идеализм, ни романтическое разочарование, ни их синтез не исчерпывают всей сложности отношений между персонажами и миром, которые рисуют романы Толстого. Решение молодого Лукача заключается в том, чтобы приблизить их к эпосу, но этот маневр остается чисто словесным. Ибо, даже если, когда речь идет о выборе между внешней причинностью и автономией жанра, Лукач отдает предпочтение внутреннему развитию романа, он, по сути, не уделяет достаточного внимания ни решениям, принимаемым самими писателями, ни конкретным художественным проблемам, порождающим эти решения. Если бы он это сделал, то понял бы, что искусство Толстого, отнюдь не означающее возврата к эпосу, напротив, достигает одной из вершин социального и психологического реализма: это искусство состоит в том, чтобы рассказать о том, как социальный мир во всей его невыносимой искусственности почти наглухо заточает большинство героев, лишая их всякого намека на героизм и предоставляя им в лучшем случае тщетную свободу понимания своего удела. В случае же редких протагонистов, вырвавшихся из тисков окружающей искусственности, их личность, далеко не героическая, скорее отличается наивностью, неловкостью и, несомненно, непреднамеренной трудностью уживаться с другими. Чудо Толстого заключается в том, что, несмотря на пессимизм этого ви́ дения, мир, о котором рассказывается, всё время воспринимается не иначе, как естественное обиталище мужчин и женщин, так что идея персонажа, противопоставляющего свою одинокую силу совокупности мироздания, не имеет абсолютно никакого смысла. Настоящий исторический вопрос заключается не в том, вернулся ли Толстой к эпосу, а в том, как воссоздать диалог между вымышленными мирами, предложенными предшественниками Толстого, и толстовским мировидением.
Отталкиваясь от спекулятивной истории романа, я попытаюсь предложить концепты, которые аналогичны в какой-то мере тем, что в ней задействованы, а именно те, область применения которых позволяет охватывать большие отрезки времени и не исключает ни хронологических пересечений, ни хронологических отклонений. Разница будет заключаться в том, что, вместо того чтобы рассматривать всю историю романа в рамках одного понятия, я буду использовать целое семейство концептов, эволюцию и взаимодействие которых я попытаюсь раскрыть под влиянием естественной истории жанра. Следуя примеру Лукача, я возьму за критерий фактуру сочинения, а не стилистические и дискурсивные особенности, которые ее выражают: я считаю, как и он, что тип сюжета, природа персонажей и место действия представляют собой подлинное творческое ядро повествовательных жанров. Наконец, полагая, подобно Лукачу, что жанры сами творят свою историю, я также приму как данность принцип, согласно которому жизнь литературных и художественных жанров не определяется заранее неким невидимым двигателем Истории, но в конечном счете зависит от бесчисленных решений, принимаемых самими писателями. А якобы безличные силы литературной истории суть не что иное, как общий результат этих решений.
* * *
Но мне, возможно, скажут, ваш проект истории, как вы его анонсируете, не только обходит стороной вопрос о рождении романа, но и избегает столкновения с большой трудностью в изучении этого жанра, которая заключается в его определении. С одной стороны, вы вроде бы согласны с теми, кто считает, что современный роман родился в результате бунта против идеалистических и неправдоподобных «старых романов»: остается выяснить, где впервые вспыхнул этот бунт – в Италии XIV века с новеллами Боккаччо, в Испании XVI века с плутовским романом или в начале XVII века (с «Дон Кихотом»), и не была ли его родиной скорее Франция XVII века, родина аналитического романа и «Принцессы Клевской», или, наконец, не начался ли его реальный подъем в Англии в XVIII веке с Дефо и Ричардсоном, распространившись затем по всей Европе в первой половине XIX века. С другой стороны, не внося ни малейшего вклада в разрешение этого спора, вы, похоже, хотите сказать, что вера в отказ от «старых романов» во имя реалистических принципов – это ошибка исторической перспективы. Но прежде чем судить о стране и о веке, породивших модерный роман, необходимо решить, включает ли история романа историю художественных произведений, принадлежащих к старой идеалистической и неправдоподобной фактуре.
Возможно, четкое определение жанра помогло бы вам разрешить этот вопрос, но, утверждая, что роман подчиняется некоему прагматичному и неуловимому обычному закону, вы, похоже, становитесь на сторону тех, кто, отчаявшись найти определение столь необычайно гибкого жанра, приходит к выводу, что роман обладает неограниченным формальным и тематическим разнообразием. Для многих критиков, в том числе Михаила Бахтина и Марты Робер [18], отличительной чертой романа является его бесконечная пластичность или даже отсутствие какой-либо отличительной черты. Можно ли создать историю объекта, не имеющего определения?
Я отвечу на эти возможные возражения, приняв гипотезу, согласно которой истоки модерного романа лежат в полемическом диалоге со «старыми романами», но при этом отмечу, что этот диалог, отнюдь не открытый и не закрытый почти чудесным появлением одного-единственного инаугурационного произведения, продолжался по крайней мере два столетия и оставил свой след как в испанских плутовских повестях, «Дон Кихоте», французском аналитическом романе, так и в английском романе XVIII века. Отмечу также, что на протяжении всего этого периода «старые романы» продолжали пользоваться огромным успехом, о чем свидетельствуют не только читательские воспоминания писателей, наиболее решительно выступавших против старого метода сочинительства, но также и анналы книгопечатания, в частности «Всеобщая библиотека романов» – обширный репертуар, появившийся накануне революции и содержащий для пользования образованной публики почти все эллинистические, рыцарские, пасторальные и галантные романы. В результате новаторские произведения, которым начиная с XIX века социальный реализм и модернизм ретроспективно приписывают статус родоначальников, долгое время соседствовали с произведениями, считающимися предмодерными. Такое сосуществование, включавшее, конечно, и живое соперничество, не могло не способствовать обмену идеями и художественными приемами. Действительно, внимательное изучение так называемых модерных романов показывает, что, с одной стороны, они во многом расходятся со своими идеалистическими и неправдоподобными предшественниками, а с другой – постоянно у них заимствуют сюжетные повороты, типы персонажей и даже идеи организации вымышленной вселенной. Одним словом, подъем модерного романа невозможно понять без изучения того романного наследия, которое он осуждает – и которое он продолжает сохранять, никогда в этом не признаваясь. По этой причине я буду изучать становление современной повествовательной прозы, уделяя внимание как созданию новых формул, так и их зависимости от существующих повествовательных традиций.
Облегчит ли нашу задачу предварительное определение жанра? Но прежде всего, возможно ли подвести гигантское многообразие романов под один концепт? Полиморфный, ироничный (т. е. свободно дистанцирующийся от самого себя), легко адаптирующийся, способный выразить любое содержание в постоянно обновляющихся формах, разве роман не является одновременно неисчерпаемым и неопределимым? Риторические преимущества такой точки зрения очевидны: авторизованный представитель освободительного прозаизма, воплощающего модернитет, роман, как и состояние общества, которое он выражает, будет демонстрировать отсутствие определения и беспредельную тягу к изменению – ключевые качества, как нам говорят, человека эпохи модерна. Конечно, идея охарактеризовать роман с точки зрения его пластичности не лишена потенциала; однако мне представляется весьма подозрительным упор на его «неисчерпаемом» или даже «неопределимом» характере. Если верно, что культурные понятия обычно не могут быть предметом строгих и неизменных определений – просто потому, что в культурной жизни нельзя исключить возможность инноваций, – нет никаких оснований считать, что роман получил в качестве некоей особой милости от истории культуры абсолютную неопределенность.
Поэтому я отвергаю гипотезу о бесконечной пластичности романа, не стремясь при этом сразу же заменить ее формальным определением. Какими бы полезными они ни были, когда речь идет о постижении отличительных черт романа в тот или иной период, подобные определения слишком легко порождают контрпримеры. Прекрасное предложение «роман – это вымышленное повествование в прозе, создающее впечатление реального рассказа, в котором есть персонажи, действия и фабула» [19] исключает и «Евгения Онегина» Пушкина, роман в стихах, и «Смерть Вергилия» Германа Броха, и «Шум и ярость» Фолкнера – произведения, которые никак не создают впечатления реального рассказа. Поэтому я буду следовать примеру тех, кто неформально и привычно использует термин «роман», включая в него не те произведения, которые отвечают какому-либо предварительному определению, а те, которые на протяжении веков прославлялись и читались как романы.
Во французском языке этот термин, первоначально обозначавший средневековые повествования на местном наречии (в стихах и прозе), относился к эллинистическим романам, как только они были заново открыты в XVI веке, а также к другим повествованиям определенного объема – пасторальные, героические и аллегорические романы. В итальянском языке термин romanzo применяется не только ко всем античным, средневековым и современным романам, но и к героическим и комическим поэмам, созданным Боярдо, Ариосто и Пульчи [20]. До недавнего времени в английском языке для этой области использовался термин romance, а термином novel назывались произведения, сочиненные начиная с XVIII века в соответствии с новейшей фактурой, основанной на правдоподобии. Однако уже некоторое время американские исследователи отказываются от термина romance, когда речь идет о греческих и латинских прозаических повествованиях, и используют novel для обозначения как античных и барочных романов, так и их новейших преемников, на манер французского термина roman. Эта терминологическая эволюция, несомненно, свидетельствует о новой готовности признать хронологическую широту истории романа. Недавно вышедшая работа Маргарет Дуди открыто и убедительно отстаивает эту точку зрения [21]. Следует также отметить, что во французском языке, как и в итальянском и испанском, термин «новелла» соотносится со сравнительно небольшим повествованием, отличающимся более простой фабулой, чем у собственно романов. По причинам, которые станут понятны позже, я счел нужным включить новеллу в число повествовательных поджанров, которые внесли свой вклад в развитие современного романа. С другой стороны, я исключил из рассмотрения те нехудожественные произведения, которые естественные историки романа и под их влиянием Бахтин включили – зачастую причудливым образом – в генеалогию романа: старые путевые заметки, биографии, философские диалоги. Хотя в романе иногда использовались формальные приемы, присутствующие в этих типах текстов, я полагаю, что эти случайные заимствования не оказали глубокого влияния на развитие жанра. Не предлагая определения stricto sensu, я надеюсь показать, что литературные объекты, обычно называемые романами, можно разделить на небольшое количество подтипов, общую историю, соперничество и взаимовлияние которых я попытаюсь реконструировать.
11
Rohde E. Der griechische Roman und seine Vorlaüfer. Leipzig: Breitkopf und Hârtel, 1876.
12
Coulet H. Le Roman jusqu’à la Révolution. Paris: Armand Colin, 1967.
13
Bakhtine M. Les formes du temps et le chronotope dans le roman [1937–1938] // Esthétique et théorie du roman. Paris: Gallimard, 1978. См.: Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 234–407.
14
Watt I. The Rise of the Novel. Berkeley: University of Califomia Press, 1957. Ср.: Уотт Ай. Происхождение романа // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. 2001, № 3. С. 147–173.
15
The Rise of the Novel. Ibid. P. 27.
16
Ibid. P. 239.
17
Lukâcs G. Théorie du roman [1920]. Genève: Gonthier, 1963. Лукач Г. Теория романа (опыт историко-философского исследования форм большой эпики) / пер. Г. Бергельсона. Вступительная заметка С. Зенкина // Новое литературное обозрение. № 9. 1994. С. 19–78.
18
Robert M. Roman des origines et origines du roman. Paris: Grasset, 1972.
19
Hawthorn J. Studying the Novel. London: Arnold, 1985.
20
Франко Моретти в настоящее время публикует обширный коллективный обзор жанра романа под названием Il Romanzo / progetto e direzione: Franco Moretti; comitato scientifico: Ernesto Franco, Fredric Jameson, Abdelfattah Kilito, Pier Vincenzo Mengaldo, Mario Vargas Llosa. T. 1–5. Torino: G. Einaudi, 2001–2003.
21
Doody M. The True Story of the Novel. New Brunswick: Rutgers University Press, 1996.