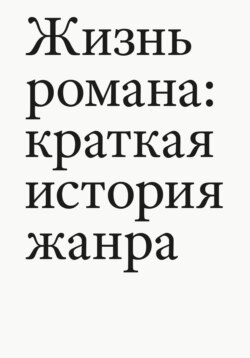Читать книгу Жизнь романа. Краткая история жанра - - Страница 8
Введение
Мои доводы
ОглавлениеУспех повествовательного произведения – его красота, как сказали бы в прежние времена, – обусловлен конвергенцией вымышленной вселенной и формальных приемов, с помощью которых она изображается. Учитывая, что повествовательные произведения вообще и романы в частности не просто описывают реальность, а всегда в той или иной степени заново ее изобретают, чтобы лучше ее понять, разница между произведениями не может проистекать исключительно из того, как они представляют вселенную читателю (абстрактное и наивное воображение у архаичных авторов, искусная конкретизация у авторов XIX века, избыток формальных приемов у модернистов). Чтобы понять и оценить смысл романа, недостаточно рассмотреть литературную технику, использованную автором; интерес каждого произведения заключается в том, что он предлагает, в зависимости от эпохи, поджанра, а иногда и гения автора, некую содержательную гипотезу о природе и устройстве человеческого мира. И так же как в пластических искусствах идея воплощается в чувственной материи, здесь гипотезы об устройстве мира воплощаются в событийной материи, которая, таким образом, остается непонятной сама по себе, без связи с одушевляющей ее мыслью.
Эта мысль разворачивается на нескольких уровнях, первый из которых, имеющий своим объектом место человека в мире, взятое в его наибольшей общности, возникает на горизонте господствующего в каждую эпоху антропологического воображения. Именно на этом уровне роман, как до него эпос и трагедия, размышляет о роли божественного в человеческом мире и о взаимоотношениях человека с себе подобными; но если в эпосе герои принадлежат душой и телом своим поселениям, а в трагедии судьба героев заранее определена, то в романе персонаж отделен от окружающего мира, и его приключения открывают нам непредвиденность последнего. Благодаря разрыву между главным героем и окружающей средой роман стал первым жанром, поставившим вопрос о генезисе индивида и становлении общего порядка. Прежде всего, он с непревзойденной остротой ставит аксиологический вопрос о том, является ли нравственный идеал частью мирового порядка: ведь если он является его частью, то как получается, что мир, по крайней мере внешне, так далек от него, а если он чужд миру, то как получается, что его нормативная ценность столь очевидно навязывается индивиду? В романе, жанре, рассматривающем человека через его приверженность идеалу, постановка аксиологического вопроса равносильна вопросу о том, должен ли человек для защиты идеала сопротивляться миру, погружаться в него, чтобы восстановить в нем моральный порядок, или, наконец, попытаться исправить свою собственную хрупкость, то есть может ли человек населять тот мир, в котором он появился на свет. Именно в связи с этими вопросами история романа отдает предпочтение любви и образованию пар: если в эпосе и трагедии связь между человеком и его близкими считается само собой разумеющейся, то роман, говоря о любви, размышляет о становлении этой связи в ее самой интимной межличностной форме.
В рамках этой фундаментальной антропологии, предложенной романом, мы можем отметить как удивительную устойчивость его проблематики, так и историческую эволюцию воображаемых им вселенных. Уже в эллинистическом романе были заложены основные ориентиры для антропологии романа: разрыв между героем и враждебным ему огромным миром, несводимость главного героя к случайности его судьбы, спасительная роль любви. Этот каркас сохранится, но на более конкретном уровне изобретения старые вымышленные вселенные станут порой в ходе истории объектом яростной критики, что приведет к переосмыслению социальной антропологии, передаваемой романом [22]. Памела, героиня Ричардсона, воплощает в себе идеальную добродетель принцесс греческих романов, но в облике персонажа, принадлежащего к самому скромному социальному положению.
Метод репрезентации, принятый различными эпохами и жанрами, зависит как от характера фундаментальных антропологических гипотез, так и от того, какой вес они имеют по отношению к соображениям социального порядка. Именно поэтому в каждую эпоху роман вступает в отношения с горизонтом внелитературной рефлексии, которая, отнюдь не будучи заданной заранее, в действительности сама является итогом дискуссий, результаты которых никогда не принимаются на веру. Говоря проще, можно было бы сказать, что роман – это первый жанр, в котором мироздание предстает как единство, превосходящее множественность человеческих сообществ. Метод идеализации эллинистического романа отражает, как мы увидим, раскрытие этого единства. Опять-таки упрощая, можно отметить, что настойчивое стремление к единству человеческого рода лучше всего выражается через идеализированное представление, тогда как интерес к социальной погруженности человека чаще всего выражается через метод конкретных материальных деталей.
Конвергенции между мыслью романа и формами, которые она заимствует, в предмодерной литературе способствует примат идеи, которая безраздельно господствует над представленными эмпирическими данными. В результате возник ряд узкоспециализированных повествовательных жанров, одни из которых (эллинистический роман, рыцарская повесть, пастораль) выводят на сцену непобедимых или, по крайней мере, достойных восхищения героев, отстаивающих нравственные нормы в мире, где нет порядка, а другие (плутовской роман, элегическая повесть и новелла) раскрывают неустранимое несовершенство человека. В XVI и XVII веках диалог между идеализацией и обличением человека принимает форму мирного противостояния этих поджанров.
Роман XVIII и XIX веков, возникая на основе слияния старых повествовательных образцов, напротив, стремился к синтезу воплощенных в них точек зрения и, таким образом, к сочетанию идеализирующего ви́дения с наблюдением за несовершенством человека. Делая акцент на правдоподобии, роман XVIII века ставит вопрос о том, является ли индивид источником морального закона и хозяином своих поступков. Затем роман XIX века приходит к выводу, что в конечном счете человек определяет себя не столько по отношению к моральной норме, сколько по отношению к породившей его среде. Для доказательства этого тезиса роман заменяет главенство концепта скрупулезным наблюдением за материальным и социальным миром, эмпатическим исследованием индивидуального сознания. Таким образом, жанр приобретает новую широту и эффективность, но при этом теряет свою тематическую и формальную гибкость.
На заре XX века модернистский бунт направлен как против попытки заключить человека в тюрьму окружающей среды, так и против метода наблюдения и эмпатии. Небывалый разрыв отделяет отныне реальность, ставшую таинственной и вызывающую глубокое беспокойство, от человека, освобожденного от нормативных забот и задуманного как объект неудержимой чувственной и языковой активности. Эта эволюция придает роману новую формальную гибкость, не меняя при этом извечного объекта его интереса – отдельного человека, испытывающего трудности в обитании в этом мире.
22
В книгах Pavel Th. Univers de la fiction, Seuil, 1988 и Pavel Th. L’Art de l’éloignement, Gallimard, 1996 я использовал понятие «вселенная» для обозначения миров, представленных в художественной литературе. В Fictionand Imitation (Poetics Today. 21 (3). 1 September 2000. P. 521–541) я рассмотрел нормативные и аксиологические проблемы, которые придают этим вселенным смысл. Здесь я обозначаю эти нормативные и аксиологические проблемы в терминах фундаментальной и социальной антропологии, чтобы подчеркнуть неизбывный антропоцентризм литературного вымысла. Моральная социология, предложенная Люком Болтански и Лораном Тевено в книге De la justification. Les économies de la grandeur (NRF Essais. Paris: Gallimard, 1991), направила мои исследования в сторону аксиологических аспектов воображаемых миров. Смысл этих терминов близок к тому, что в своей работе Proust. Philosophie du roman (Paris: Minuit, 1987) Венсан Декомб называет «космологией», т. е. тем, как художественное произведение представляет определенную систему мира.