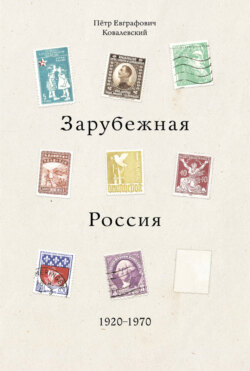Читать книгу Зарубежная Россия 1920-1970 - - Страница 10
П. Е. Ковалевский
Зарубежная Россия
История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920–1970)
Часть I
История зарубежной России за полвека
2. История русского зарубежья
Главнейшие трудности на пути русских за рубежом
ОглавлениеЖизнь русских, покинувших свою родину, была трудной, и им приходилось сталкиваться с многочисленными ограничениями их работы и передвижения. Главными проблемами, стоявшими на их пути, были:
1) подчинённая многим и часто непреодолимым формальностям трудность передвижения, когда для переезда из одной страны в другую требовались особые разрешения, выдававшиеся зачастую после хлопот, продолжавшихся по несколько месяцев;
2) трудности с получением документов на проживание в отдельных странах;
3) ограничения в отношении труда, так называемые процентные нормы, применявшиеся к иностранцам;
4) высылки на границу за незначительные правонарушения без возможности переехать в другую страну;
6) дополнительная пошлина на русских и армян в виде «Нансеновского сбора» и, наконец,
6) обязательная воинская повинность для русских, которые не были натурализованы.
В отношении Франции надо заметить, что принятие выехавших из Крыма русских под покровительство Франции не имело практических последствий. Уже в конце 1920 года правительство Жоржа Лейга заявило, что, ввиду окончания военных действий и ликвидации армии ген. Врангеля, оно снимает с себя обязанность поддержки выехавших военных, но и в отношении гражданских лиц не был применён режим «протежэ» (покровительствуемых), который применялся, например, в отношении жителей Сирии и Ливана. Русские в 1920 году оказались во всех странах на положении иностранцев, с той разницей, что все другие категории имели свои правительства, которые могли их защищать, и они имели возможность быть высланными в свои страны, тогда как высылаемые русские не принимались ни одной страной и переходили на нелегальное положение.
В отношении передвижения различные страны ввели для русских особые свидетельства, выдаваемые местными властями, на которые ставились визы. Так как эти свидетельства состояли из простого листа бумаги, то они часто переполнялись отдельными печатями, особенно если русскому приходилось проезжать через несколько стран. Даже если он в них не останавливался, требовались проездные визы. Приходилось для этого приклеивать к свидетельству листы бумаги. Поэтому русские учреждения ходатайствовали о замене листов книжками, что было, наконец, разрешено, и почти все страны стали выдавать так называемые «Нансеновские паспорта», обладание которыми, однако, нисколько не облегчило дела передвижения.
Образец нансеновского паспорта в Болгарии
Если передвижение русских из страны в страну было до чрезвычайности затруднено, то и пребывание «на месте» было связано с многочисленными формальностями. Сперва иностранцам выдавались постоянные карточки, вскоре они были заменены двухгодичными и пятигодичными, и только значительно позже была введена категория привилегированных иностранцев, получавших вид на жительство на десять лет. Если в Париже обмен карточек был относительно лёгким, хотя приходилось терять много времени в очередях, то в провинции и даже в окрестностях столицы вместо новой карточки выдавалась расписка, небольшая бумажка, по которой русский должен был жить в течение многих месяцев. Виды на жительство были разные – для трудящихся, для нетрудящихся, для коммерсантов и для ремесленников (работавших на дому). За карточки взималась плата, которая была часто, особенно для нетрудящихся, старых или неимущих, непосильной. Правда, можно было хлопотать о снижении платы и даже об освобождении от неё, но это требовало значительной затраты времени, и в этом оказалась благодельность русских представительств, которые принимали на себя хлопоты и выдавали соответствующие свидетельства.
Самым большим затруднением в получении вида на жительство была рабочая карточка, без которой не выдавался документ рабочей категории и всякая работа становилась невозможной. Ограничения права на работу были, может быть, самой страшной страницей в жизни зарубежья. Существовали не только рабочие карточки, но и «благоприятные отзывы» Бюро Труда, без которых карточки не выдавались. Этот так называемый «Ави фаворабль» давался иностранцу при условии отсутствия спроса на труд со стороны французов в данной профессии, а карточка отмечала, в случае согласия, профессию, вне которой иностранец не мог работать. В связи с экономическим кризисом начала тридцатых годов, ограничения труда поставили многих русских в безвыходное положение. Только благодаря хлопотам «центрального офиса» и отдельных общественных организаций, как Земгор (Н. А. Недошивина) или бюро С. М. Зерновой, удавалось спасти буквально от голодной смерти русских, не получивших права на работу. В отношении рабочих на заводах вопрос был менее трагичным, и тысячи русских, занимавшихся в России интеллигентным трудом, были принуждены стать у станка на заводах Рено и Ситроена. Другие, и это считалось привилегированным трудом, сделались шофёрами такси.
С правом на труд, выдачей документов на проживание и их просрочкой из-за неимения денег на их оплату, с небольшими нарушениями правил общественного порядка и, в частности, движения по улицам, была связана другая страшная страница жизни русских трудящихся – высылка на границу государства, с последствиями которой годами боролись русские представительные организации и Франко-русское объединение. Русский, по отбытии краткого ареста после нарушения полицейских правил, часто высылался из Франции, но, так как его не принимала никакая другая страна, он возвращался с границы и переходил на нелегальное положение, которое необходимо было урегулировать.
Наконец, самой непопулярной мерой, вызывавшей законные нарекания всех трудящихся, а главное нуждающихся и стариков, было введение так называемого «Нансеновского сбора». Русские не только должны были платить за виды на жительство, но последние облагались, согласно постановлению Международной конференции в Женеве, особым сбором в золотых франках, половина которого шла на русские благотворительные нужды, а половина на нужды женевских учреждений. Для распределения половины сбора был назначен министром иностранных дел особый комитет в составе гр. В. Н. Коковцова, Н. Д. Авксентьева и Н. В. Савича. Хотя была возможность добиться снижения сборов (семь с половиной золотых франков вместо пятнадцати), нансеновский сбор был тяжёлым налогом на русских. Во Франции он был введён декретом 29 июля 1936 года.
Перед русскими во Франции встал, кроме того, в 1936 году вопрос о призыве во французскую армию. В законе о комплектовании французской армии от 31 марта 1928 года имелся параграф о переписи лиц без определённой национальности, но вопрос этот оставался открытым до инструкции 4 декабря 1935 года и «добавления к распоряжению» о наборе 1936/37 года, в которых было указано о призыве русских, не принявших подданства, в войска наравне с французами. Устанавливались три категории, в зависимости от возраста: родившиеся после 1 июня 1916 года должны были полностью отбыть воинскую повинность во Франции, родившиеся между 1904 и 1916 годом – только лагерные сборы, а родившиеся в 1903 году и раньше освобождались от воинской повинности в мирное время. Все русские и армяне должны были служить в регулярных частях, а не в иностранных отрядах. Те, кто не согласились бы на отбывание службы, должны были покинуть Францию. Таких оказались лишь единицы.
В сентябре 1939 года французские власти мобилизовали две первые категории русских, а третья должна была служить по внутренней обороне, но, ввиду окончания войны (перемирия) и немецкой оккупации, русские, родившиеся до 1904 года, так и не были призваны.
Всего было мобилизовано шесть тысяч ненатурализованных русских, из которых шестьсот человек было убито или ранено в боях против неприятеля. Очень многие русские заслужили боевые награды и отличились в сражениях.
Так как натурализованные русские имелись во всех странах Европы и были там мобилизованы, происходили трагические события, когда члены одной и той же семьи сражались с разных сторон фронта.
В отношении ограничения передвижений и высылок значительное облегчение принесла русским «Конвенция 1933 года», введённая в действие во Франции в конце 1936 года. Осуществление её потребовало многолетнего усиленного совместного труда русских представителей и иностранцев, друзей русских. В основу статута был принят проект, разработанный русскими.
В Женеве работали в этом направлении русские эксперты К. Н. Гулькевич, бар. Б. Э. Нольде и Я. Л. Рубинштейн, а также представитель Франции де Навайль, а в Париже добивались рассмотрения статута в палатах товарищ председателя Палаты Депутатов и председатель Франко-русского объединения Эдуарда Сулье, депутат Мариус Мутэ и сенатор Густав Готеро.
Конвенция 1933 года, которой русские смогли воспользоваться только очень короткое время, хотя и была подписана большинством стран, но не вполне оправдала возлагавшихся на неё надежд. Так, делегат Франции оговорил непреложность закона 1932 года о процентной норме иностранцев в отношении права на труд. Значительные ограничения были внесены и бельгийским представителем. Таким образом, в отношении права на труд многое осталось по-прежнему. В отдельных странах, как, например, в Англии, этот вопрос был особенно труден.
Только после Второй мировой войны, с введением правил для всех беженцев, как прежнего русского и армянского рассеяния, так и для новых, так называемых DP (дисплэсед пёрсонс – перемещённых лиц), ограничения были устранены.