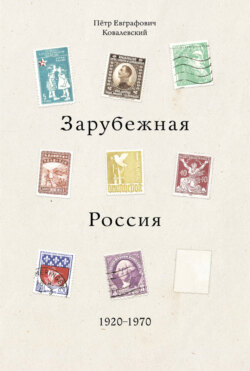Читать книгу Зарубежная Россия 1920-1970 - - Страница 18
П. Е. Ковалевский
Зарубежная Россия
История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека (1920–1970)
Часть II
Культурно-просветительная работа русского зарубежья
1. Начальные и средние школы
Лимитрофы
ОглавлениеПоложение русских детей в лимитрофных государствах было иным, и работа шла иными путями.
Финляндия
Положение русских в Финляндии было совершенно своеобразным. Хотя Финляндия до революции 1917 года входила в Российскую Империю, только финский и шведский языки были государственными и только шведское меньшинство обладало всеми правами. Русское меньшинство составляло 0,15 процента (5 тысяч человек на 3 миллиона жителей). Только жители «Красного села» у Перкьярви обладали финским подданством, остальное меньшинство состояло из русских, работавших на железной дороге или живших в районе Райволы, Териоки и Келломяки, и колоний в Выборге и Гельсингфорсе. Беженцев оказалось значительно больше: вначале – 20 тысяч, а потом – 15 тысяч, осевших в Финляндии.
До революции в Финляндии существовали русские школы: две гимназии и одна начальная школа в Гельсингфорсе, реальное училище, гимназия в Выборге, школы в Выборской губернии. После 1917 года русские школы пришли в бедственное состояние из-за прекращения кредитов из России и реквизиции части помещений финскими властями. Пришлось реорганизовать всё школьное дело. Сохранившиеся школы были взяты на попечение русских организаций и приходов.
Главную поддержку оказал Земско-городской комитет, который субсидировал четыре реальных училища – в Териоках, Райволе, Куоккале и Келломяках, и две гимназии – в Выборге и Перкьярви, а также четыре начальные школы. Гимназия в Гельсингфорсе и другие начальные школы существовали на взносы учащихся и на сборы, производимые педагогами. Никакой помощи правительство не оказывало, и русские школы не имели прав финских школ. Несмотря на трудные условия работы и очень низкие ставки, русские педагоги продолжали работать и дело просвещения не пострадало. Все средние школы, особенно Выборгский лицей и Териокское реальное училище, дали образование сотням русских юношей и девушек, которые потом поехали продолжать его в другие страны, в частности во Францию.
Эстония
В противоположность Финляндии русское коренное население составляло 8,2 процента общего числа жителей и, согласно переписи 1923 года, достигало 91.109 человек, главным образом, крестьян Принаровского, Причудского и Печорского округов. Так как организация как русского меньшинства, так и русских беженцев являлась во многих отношениях особенной, надо на ней более подробно остановиться. В параграфе 12 Эстонской Конституции сказано:
«Науки, искусство и их преподавание в Эстонии свободны. Школьное обучение для детей обязательно и в начальной школе бесплатно. Национальным меньшинствам обеспечивается преподавание на родном языке».
В 1923 году в Эстонии насчитывалось 12 средних и 93 начальных школы, обслуживавших русское меньшинство, причём в них обучалось 9600 детей, в большинстве в начальных школах, так как среднее образование в Эстонии было платным и дорогим.
Положение школ для беженцев, которых насчитывалось 15 тысяч, было очень трудным. Они не пользовались поддержкой государства. Русские, прибывшие в страну после революции, попали в положение иностранцев, и с них взимался особый налог. Расселение русских было вне района коренного русского населения и пришлось создавать новые школы в районе Нарва-Везенберг, где проживало свыше 2 тысяч русских детей. Они были обслужены Земско-городским и Эмигрантским комитетами. Общими усилиями удалось создать гимназии в Нарве и Гапсале, и кроме них – три высших начальных и пять начальных школ. Материальное положение как преподавателей, так и учащихся русских школ было очень тяжёлым, и учителя были настоящими подвижниками русского просветительного дела, – они получали три тысячи марок в месяц, тогда как прожиточный минимум на одного человека был 6 тысяч марок (а большинство русских педагогов были семейными). Учителя местной школы получали от 6 до 15 тысяч марок при курсе в 21 марку за один французский франк.
Положение учащихся было тоже очень трудным. Большинство из них были принуждены работать во время летних каникул на кирпичных заводах, на лесных складах и даже на земляных и торфяных работах, причём чувствовался недостаток в одежде и крепкой обуви. Подавляющее большинство гимназисток и гимназистов зарабатывало только на своё пропитание, но некоторым удавалось усиленным физическим трудом откладывать немного денег для помощи родителям и на оплату обучения в средней школе.
В своём описании русской школы в Эстонии В. В. Руднев говорит:
«Нелегки были условия беженской школы в Эстонии, исключительно тяжёл труд и учителя и ученика, но с законной гордостью русская эмиграция может указать, как здоровые начала, заложенные в природе русской общественной школы, преодолевают, казалось бы, непреодолимые препятствия. Если главный фактор успеха школы, её духовный двигатель, прежде всего, её учитель, то полуголодный учитель-беженец в Эстонии, как и в других странах, несёт с честью выпавшее ему на долю почётное, но трудное служение русской культуре на чужбине. Учитель не покидает дорогого ему дела, даже получая возможность переменить профессию, иметь больший заработок. С другой стороны, никогда в прежние времена в России не пользовалась школа такой привязанностью и любовью со стороны детей. В этом, по-видимому, сказывается повышенный и по существу своему очень здоровый инстинкт национального самосохранения, заставляющий в изгнании особенно ценить всё, что служит связью с покинутой родиной, с русской культурой – русскую церковь, школу, книгу» (стр. 211).
То, что В. В. Руднев написал о русских педагогах в Эстонии, применимо к большинству учителей и учительниц и в других странах рассеяния. Русские педагоги были настоящими подвижниками и будителями русского духа.
Латвия
В Латвии русское коренное меньшинство составляло 10 процентов общего населения. В области школьного дела отношения к национальным меньшинствам были урегулированы уже в 1919 году, причём школы пользовались материальной поддержкой государства. Это отразилось благоприятно и на русских школах, обсуживавших вновь прибывших в страну после революции. Начальная школа была и бесплатной и обязательной. Так как кроме трёх уездов Люцинского, Режицкого и Двинского, населённых русскими крестьянами, русские поселились и в других частях республики и, в частности, в городах, появилась необходимость расширить сеть школ с русским преподаванием. Позже, с усилением влияния тех, кто опасался «русификации» школы, права Русского школьного отдела, возглавлявшего проф. Юпатовым, были ограничены, и русские школы переведены в категорию местных латвийских школ в 1924 году. Надо заметить, что почти все русские средние школы в Латвии обсуживали не только русских, но и детей других национальностей. Вопрос об устройстве школ для беженцев почти не ставился и не был таким острым, как в других прибалтийских странах.
Перед Второй мировой войной русское просвещение получило широкое развитие, но об этом будет сказано в части, посвящённой русской общественной работе за рубежом. Необходимо отметить работу видного русского педагога Елпидифора Михайловича Тихоницкого (младшего брата митрополита Владимира и архиепископа Вятского Вениамина). Он преподавал в Риге, был членом Латвийского Сейма от русского населения, возглавлял Центральный союз русских просветительных обществ и был директором русских педагогических курсов (1875–1942).
Арестованный НКВД в 1940 году Елпидифор Михайлович Тихоницкий (1875–1942)
Литва
Русское меньшинство в Литве было незначительным и не превышало 2,7 процентов всего населения. По статьям 73 и 74 Конституции государства меньшинства пользовались национально-культурной автономией и могли пользоваться соответствующей их численности долей государственного кредита. На практике из-за неимения достаточного количества русских школ, большая часть детей обучалась в литовских школах. Так, в 1922 году на общее количество 1700 начальных школ русских было всего шесть. К тому же открытие новых русских школ было сопряжено с очень большими трудностями. Единственное русское среднее учебное заведение – гимназия в Ковно – работала в очень стеснённых условиях. Школ для вновь прибывших вообще не было, так как количество беженцев было незначительным.